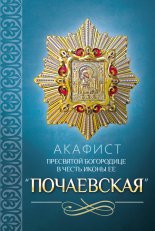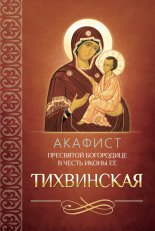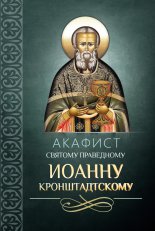Господи, сделай так… Ним Наум

1. Мешок (Наказанье Божие)
Оставалось поставить точку…
Мешок перечитал им же написанные строки о том, что должно произойти. Еще мгновение — и что-то станет поворачиваться, сначала медленно, но все более неостановимо придут в движение какие-то люди (а может — и целые галактики), настраивая мир на исполнение его желаний. Сколько Мешок ни напрягался, измарщивая упрямый лобешник, все равно не получалось представить, как вертится вся эта таинственная механика, выкручивая в оконцовке заказанный им результат. Известным было лишь то, что этот результат Мешок (а вместе с ним и весь мир) получал всегда: через день-два, а в особых случаях, когда пожелание было совсем фантастическим и не исполнимым никакими человеческими усилиями, — через неделю-другую, но всегда все случалось по-написанному. Точнехонько по-написанному, и именно из-за этого неотступные беспокойства тарабанили в Мишку-Мешка до полного изнеможения его очень нехилого организма.
Чаще всего оказывалось, что на самом деле он имел в виду совсем не то, что получил, и, наново перечитывая заказанные чудеса, Мешок в очередной раз убеждался в том, что снова сильно лопухнулся в формулировке своих правильных пожеланий.
Если все точно вспомнить, то это и было причиной всего напридуманного Мешком крючкотворства. Сначала-то он свои желания высказывал только устно: произнесет — и готово (и новый облом). Вот тогда он и пожелал, чтобы все сбывалось только после того, как будет записано в специально отведенной для этого тетрадке. И не просто записано, а по определенным правилам: в конце пожеланий должны были быть неизменные слова “Господи, сделай так” и после этого надо было поставить жирную точку. Вот перед исполнением этих правил Мешок всегда очень сильно задумывался, особенно перед тем, как поставить точку. Иногда — на несколько дней, и, все обмозговав, бывало, тщательно исчеркивал написанные желания и строчил заново.
Началось это его благородное служение в конце пятого класса с появления какого-то призрака. Вряд ли это был сам Бог или даже какой-нибудь из его ангелов — очень уж по-простецки выражался этот Неведомо-кто словами, совсем не похожими на те, которые Мешок с трудом прочитывал в зорко оберегаемой бабкой книге. Скорее всего, это был мелкий порученец типа почтальона, разносящий по людскому муравейнику Божественные повеления. Мешок и заметил-то его не сразу, балдея под первым теплым солнцем на лесном пригорке. Что-то такое белое шевелилось и, мелко похихикивая, сообщало Мешку порученное ему задание “от самого Господа и Бога”.
Будь это сейчас, Мешок бы подробно расспросил почтальона обо всем, и главнее всего про то, что там и как происходит после смерти, но тогда он только моргал и слушал, забыв дышать и боясь пошевелиться. Снова и снова Мешок возвращался всей памятью к тем мгновениям, поворачивая сказанное ему и так и эдак, чтобы новыми деталями и новыми пониманиями дополнить полученный тогда наказ (или — полученный дар? или — наказание?).
Выходило, что Мешок — самый-пресамый праведный, на сколько вокруг ни посмотри, и поэтому он назначается главным помощником самого Бога, которому за всем не успеть. Кем-то вроде разведчика, что смотрит вокруг и сообщает наверх, что именно надо исправить и переделать, чтобы все было хорошо и правильно. И все, что он пожелает, тут же будет исправлено и переделано, и уже ничего нельзя будет отыграть обратно. Главное — ничего не просить для себя и никому ни гу-гу…
Много позже Мешок дотумкал, что, как и всякий разведчик, он тоже вправе на какое-то время назначить кого-нибудь другого исполнителем этого своего задания, а самому или передохнуть, или заняться обустройством собственной жизни, но тогда он и мыслями шевелил еле-еле под тяжестью свалившейся на него ноши.
У него не было и минутного сомнения в правильности случившегося чуда. Кому же другому еще мог поручить Бог такое задание? Вокруг, по словам бабки, одни нехристи и богоборцы. Ведь и простого крестика, из-за которого на Мешка как из мешка валились разные неприятности, он ни у кого никогда не видел даже в бане, куда поселковый люд ходил раз в неделю: женщины в пятницу, а мужчины в субботу. За мужчин Мешок мог бы поклясться самой страшной клятвой, но и у женщин на их испотевших шеях (сколько можно было разглядеть в специально отскобленный от белой краски уголок мутного окошка) Мешок не мог вспомнить никаких крестиков.
Правда, можно было для этого задания назначить его бабку, но Мешок здраво рассудил, что разведчик должен быть молод и силен, и значит, по всему получалось, что эта ноша — его…
Нельзя сказать, что Мешок так вот сразу и безоговорочно поверил в свалившуюся на него судьбу. Несколько дней он сомневался и размышлял, абсолютно обессиленный этими размышлениями и, главное, невозможностью поделиться ими с кем бы то ни было. Потом его осенило: надо что-нибудь пожелать, и все станет ясно — чего же проще?..
Мешок и всегда был медлительным и тугодумным (сейчас сказали бы — полный тормоз), а тут он и вообще как остолбенел, ворочая свои невероятные мысли о том, какое же добро можно сотворить так, чтобы себе не было с этого никакой выгоды. Думал-думал и придумал: надо что-то сделать со страшным Домовым, от которого всем вокруг одни только горькие слезы.
Домовский по прозвищу Домовой жил по соседству с хатенкой Мишки-Мешка.
Вернее, это был дом Мишкиной бабки, и был он такой же охающий и перекошенный, как и сама Клавдяванна, заменявшая Мешку и мать, и отца, и любых других родичей.
В допацанячем возрасте нам нравилось бывать в ее гостеприимном дому. Нам — это Тимке, Сереге и мне. Мы носились в какие-нибудь шумные пряталки и догонялки, прыгая через неровные грядки, проделывали новые дыры в остатках изгороди и в дряхлых постройках, объезжали грустную козу Клаву — тезку Мишкиной бабки, а потом за дочиста выскобленным столом пили молоко с этой козы с пылающими пирожками, из которых сыпалась на руки обжигающая картошка. Мы сидели притихшие и старались не смотреть в угол, откуда неотступно следили за нами огромные глазищи с темной доски, увитой искусственными цветами. И сидеть под этим темным взглядом было совсем не то, что, снисходительно поплевывая, знать и повторять за нашей учительницей Елизаветой Лукиничной общеизвестное, что эти глаза — всего лишь деревянная икона, религиозный дурман, ерунда и полная чепуха (почему-то на постном масле, которое, по-правде сказать, совсем не ерунда, особенно если натереть им горбушку хлеба и разогреть ее в костровом дымном жару).
Недолгими были эти наши игры на участке Мешка и эти вкусные пирожки.
Подслеповатая Елизавета Лукинична на одном из физкультурных уроков усмотрела Мишкин крестик и онемела, но очень скоро вернулась в голос и, громыхая каменными словами о паршивой овце, поволокла брыкающегося Мешка в учительскую.
Потом завертелся дикий кавардак. Мешка исключали из октябрят. В два голоса — хриплый и визгливый — Елизавета Лукинична и пионервожатая Таисия Николаевна требовали, чтобы Мешок немедленно снял или октябренский значок, или поповский крестик, враждебный всему светлому и прогрессивному, что делают настоящие октябрята — истинные внучата дедушки Ленина.
— В глаза!.. Смотри в глаза своим товарищам, которых ты продал за поповскую чечевичную похлебку!..
Таисия визжала что-то совсем несусветное и, цапая Мишкин подбородок, вздергивала вверх его красное потное лицо. Мишка крутил головой, отбивался и упрямо набычивал круглую бошку глазами в пол.
От нас требовали выступать и клеймить. Выдергивали всех начиная с девчонок, и кто как — бубня или звеня, запинаясь или пощелкивая — повторяли про дедушку Ленина и поповскую похлебку. Мы с Тимкой и Серегой отмалчивались и потому торчали стоймя за своими партами, потому что сесть разрешалось только тем, кто оказался истинным товарищем и настоящим октябренком, кто не побоялся поповских угроз и защитил дело дедушки Ленина. Было страшно.
Из сегодняшнего дня мне смешны и даже трогательны те наши страхи, но если вспомнить все честно, было по-настоящему страшно.
Не уверен, что мы бы так и отмолчались, если бы нас разделывали как-нибудь по одному — например, вызвав в учительскую. Но здесь, поглядывая друг на друга, мы молчали до упора — пока наши наставники не перенацелились с Мишки и дедушки Ленина точнехонько на нас.
— Ну как тебе не стыдно, культурный мальчик, а защищаешь религиозное мракобесие. — Елизавета Лукинична притворно сменила тон и фальшиво-ласковым голосом подкатила ко мне, пробуя таким вот льстивым фу-фу расколоть наше мужское единство.
— И никакой не культурный, — бубнил я, кося по сторонам и избегая смотреть в лживо-ласковое лицо учительницы, а подленькую испуганную душонку все равно грела эта враная похвала…
— Значит, мракобесие есть? — встрял Серега, оттягивая на себя Елизавету Лукиничну.
— Ну конечно есть, — радостно откликнулась она на проклюнувшуюся наконец Серегину понятливость.
— Мракобесие — это когда бесы шуруют во мраке по разным своим надобностям. Если мракобесие есть, то есть и бесы. А если есть бесы, почему же нет ангелов? Может, и они есть? А Бог?..
— Нету, — завизжала Таисия Николаевна, осуждающе отстраняя задыхающуюся возмущением Елизавету Лукиничну. — Нету Бога!
— Дед Морозов тоже нету, — подал голос Мешок, — но они же никому не мешают. Вы сами вона на каждую елку выряжаетесь Дед Морозом — и почти ничего страшного. А ведь если посмотреть на вашего Дед Мороза, так тоже сплошной обман и мура… — Мешок споткнулся, но одолел, — сплошное муракобесие…
Таисия Николаевна только набрала воздуха, чтобы дать немедленный отпор, но не успела.
— У вас у самой крестик, — выпалил в нее осмелевший Тимка.
— Какой крестик? — захлебнулась Таисия.
— Блискучий, — ответил Тимка. — Наверно, золотой… На золотой цепке.
— Это совсем не крестик, а такое украшение, — зачастила Таисия. — Что это ты выдумал? Какой тебе крестик? Где это ты видел крестик?
— В бане видел: между грудьями крестик на цепке…
Дальше был сплошной визг, а мы вчетвером, приглохшие и одуревшие, — в самом центре этого визга. Так нас и доставили в учительскую к директору.
— Вот, полюбуйтесь, — Таисия вытолкала нас перед директорским столом, подравнивая шипением, — насаждают религиозную заразу среди школьного здорового организма.
Директор вздрогнул и на глазах посуровел. И было от чего. Все вокруг гремело непримиримой борьбой с попами и прочими сектантами, которые со всеми своими крестами стоят поперек дороги в светлое будущее. Редкие и еще диковинные телевизоры, всегда гомонящие репродукторы на столбах (на центральном перекрестке над двумя магазинами и другой — над конторой древесной фабрики), никогда не выключающиеся радиоточки в хатах (кто же станет их выключать, если гроши уплочены?) с утреннего гимна и до ночного пугали-гремели-сражались с религиозным дурманом. Ну, и еще с кукурузой. Это было самым главным. Потом по главности шли янки, не желающие ехать домой, и немецкие реваншисты, не понимающие, что нет им никакого срока давности.
Кстати сказать, десяток зашуганных еврейских стариков сочли все это знаком свыше и под шумок очередного искоренения христианской ереси скоренько организовали в хате моего деда домашнюю синагогу. Наш участковый Александр Иванович откуда-то мгновенно прознал про их чудачество, но, не обнаружив на месте предполагаемого преступления никаких крестов-попов-сектантов, пустил все дело по разряду национальных особенностей и никаких мер принимать не стал, вплоть до 67-го, когда никто уже не вспоминал ни про попов, ни про кукурузу, а самым главным в жизни стала израильская военщина, и тут уже национальные особенности сразу превратились в отягчающее обстоятельство, но до этого всем нам еще жить и жить…
В общем, стоило только обычного человека и даже любого соседа нарядить в выходной пиджак с наградами и поставить перед столом с красной скатертью, как он тут же пробовал что-нибудь сказать про дурман, кукурузу, про то, чтоб янок — домой, а реваншистов, наоборот, — из дома в тюрьму без срока давности. Но первым делом — дурман, и поэтому директорская суровость была вполне уместна.
— Кого насаждают? — Директор выигрывал время, чтобы в спешке не совершить политической ошибки.
— Заразу религии… — Таисия чеканила как на трибуне, а Елизавета Лукинична молча стояла за нами с таким виноватым видом, который Таисия все еще добивалась произвести из наших физиономий. — Пропагандируют поповское мракобесие, — закончила Таисия Николаевна.
— И он пропагандирует? — Директор с большим сомнением перевел глаза с меня на Таисию. — Может, вы ошибаетесь?
— Религиозная зараза выше любых национальных предрассудков. — Звонкие слова как-то излишне радостно отскакивали от Таисиных зубов и колотили по директорскому лбу. — И вообще эту шайку, — Таисия заподталкивала нас ближе к столу, — надо немедленно разогнать и наказать…
Директора мы не очень боялись, потому что самым любимым его наказанием было временное исключение из школы, а если кто-то и вправду считает, что это наказание, то он еще глупее нашего директора. Нас исключили на два дня. Правда, вдогон оповестили родителей, наказав им следить, чтобы мы не крестились.
Моя матушка сама преподавала в вечерней школе, которая начинала работать после окончания уроков второй смены, и ей мой приговор сообщили прямо на рабочем месте. Дома после работы она задумчиво посмотрела на меня, расстегнула ворот рубашки, общекотала, пошарив за пазухой, сказала: “Идиоты” — и отпустила обратно к книжке, которые я глотаю вместо того, чтобы помогать ей в ее трудной жизни, и потому чтобы я немедленно выключал свет и ложился спать.
Мамаша Сереги была, как и Елизавета Лукинична, учительницей в начальных классах и вела параллельный, а отец был какой-то шишкой при партии, потому что он этой партией руководил в партизанах и много чего навоевал, о чем сейчас мрачно пил, избегая собутыльников. Серегина родительница, прознавшая обо всем с ходу, вернувшись с уроков, закатила сыну скандал и пригрозила, что переведет его в свой класс, отец сказал, что этого не будет, мамаша сказала, что Серега подрывает авторитет отца, а тому сейчас нелегко, отец сказал, чтобы она не лезла куда не просят, и в конце концов Серегу оставили в покое.
Мамка Тимки обрадовалась и сказала, чтобы Тимка завтра не шлялся до ночи, а наконец сложил наготовленные к зиме дрова, гора которых заполняла весь двор. Вчетвером мы это сделали за пару часов и отправились к Мешку, но он нас не пустил, а сам пошел с нами обратно к Тимке.
Оказывается, к его бабке пришла из школы целая делегация во главе с директором, и Клавдеванне пригрозили, что если она не перестанет отравлять нас религиозным опием, то школа на нее напишет куда следует и ее посадят в тюрьму, а Мешка отдадут в детский дом.
Не знаю, собиралось ли школьное начальство и вправду осуществить свои угрозы, но домой к Мешку мы ходить перестали. А к пятому классу эта история отошла в далекое прошлое и забылись все учительские запреты, но к тому времени нам уже тесно было на домашних подворьях, и к Мишке мы хоть и забегали совершенно безбоязно, но — ненадолго, все время поторапливая его медлительные сборы. Козу Клаву к тому времени уже съели, а Мишкина бабка непрерывно хворала, и потому не было уже ни ее горячих пирожков, ни тихого гостевания за деревянным столом. Да и глаза в углу потускнели и уже не сверлили нас своими тревожными и таинственными вопросами.
Но чаще всего мы по привычке высвистывали Мешка Из-за погибающего забора.
Забор этот отделял (а практически и не отделял) Мишкино хозяйство от улицы. Соседи слева разделялись с Мишкиным участком все тем же его порушенным забором, а вот сосед справа заслонился от Мишкиного неустройства высоченной оградой. Не штакетной и проницаемой глазом изгородью, а сплошным — доска в доску — двухметровым забором. Это и было подворье Домового-Домовского, злобную жизнь которого Мешок решил выправить в качестве первого доброго дела порученного ему служения (и в качестве проверки существования этого служения).
Справное хозяйство Домового мы иногда разглядывали с трухлявой крыши Мишкиного сарая. За высоченным забором все цвело, кудахтало, гоготало и хрюкало. Рубленый сарай красовался не хуже избы, а изба, крытая не какой-то там дранкой или толем, а крашеным железом, — что твой дворец. Коровник, сараюшки для мелкой живности и гараж для мотоцикла казались игрушечными домиками и были вполне пригодны для жилья, а крепенькая банька безусловно доказывала, что Домовой — не кто иной, как недобитый буржуй, единоличник и эксплуплантатор, потому что никто другой не будет так чураться общей бани по субботам и со светла до темна так горбатиться вместе с женой и сыном каторжными работами по процветанию своего хозяйства.
Однажды в пору крайнего малолетства мы вчетвером загорали на той же Мишкиной крыше, сокрушаясь невозможностью дотянуться через забор до сверкающих яблок, под грузом которых деревья буквально кряхтели — так близко и так недоступно. Да что яблоки? Яблоки были у кого угодно, а вот груши и сливы, непонятные красные фрукты, в которых позже по картинкам я опознал болгарский перец, невероятно крупный крыжовник — все это нагло буйствовало в нескольких метрах от нас, не оставляя ни одного шанса подумать и поговорить о чем-то другом.
Тут мы вспомнили, что и яблоки мало у кого остались. По дворам начали шастать какие-то люди, переписывая все фруктовые деревья, за каждое из которых по новым законам требовалось платить налог, и под стук топора да под матерные вздохи по участкам начали изводить все плодоносящее под корень. Мы принялись перечислять дворы с яблоками. Оставалось еще вполне прилично, правда, нигде мы не могли вспомнить такой яркой роскоши, как на участке Домового.
— Буржуй — он и есть буржуй, — справедливо подытожил Тимка наши алчные облизывания. — Хорошо бы к нему наняться в сторожа.
— Зачем ему сторожа, когда его жонка с сыном почти безвылазно тут? — отмахнулся Серега.
— Ну и посмотри — где они?
— Они все на евоном лесовозе уехали, — дал справку Мешок, — еще поутру. Похоже, на рыбалку.
— Ну вот на этот случай и наняться. А то они за порог, а хулиганы разные тут как тут.
— Какие хулиганы? У него же собака сторожит лучше любого сторожа.
В подтверждение Серегиных слов необыкновенный пес Домового вылез из-под крыльца баньки, лениво прошелся по дорожке между грядками и улегся прямо на наших глазах, нагло зевнув нам в ответ громадной пастью.
— Ингус всегда так — по дорожкам, — восхищенно прокомментировал Мешок. — Домовой его и на цепь никогда не сажает, и живет он в доме, а не в собачьей будке. Такого пса ни у кого больше нет.
Мы прокрутили в памяти все свои знания о местных собаках и вынуждены были согласиться. Собаки у нас в поселке были либо цепные, либо совсем бессмысленные и к сторожевому делу негодные.
— Выдрессировал, — объяснил Серега. — Ничего хитрого: как что не так — лупить до потери сознания, и любой шелковым станет.
— Так чего же другие не выдрессируют? — усомнился Мешок.
— А другие не могут, как Домовой, — без жалости и до беспамятства.
Крыть было нечем.
— Ну и что, что собака? — Тимка возвращал нас к дразнящим глаза яблокам. — Хулиганы могут и собаку обхулиганить.
— Да откуда же они возьмутся, эти хулиганы? — вышел из себя Серега.
— А мы сами ими прикинемся — понарошку, — предложил Тимка. — Набезобразничаем по-всякому, Домовой вернется — ох-ах! — и к Мешку: “Скажи, сосед, — спросит Домовой, — ты не знаешь, кто это у меня набезобразничал?” А Мешок ему и скажет: “Нет, дядя Домовой…”
— Вот тут Домовой ему бошку и отвернет, — засмеялся Серега. — Кто ж осмелится его в глаза так назвать?
— А его как зовут?
— Дядя Ульян, — подсказал Мешок.
— Ну, значит, Мешок и скажет, — продолжил фантазировать Тимка, — “…нет, дядя Ульян, но если хотите, могу пососедству присматривать за вашим хозяйством”. То да се, и Домовой поймет, что ему это очень выгодно, и дело в шляпе…
Мы замолчали, обдумывая Тимкину идею, и она нам все больше нравилась. Все выглядело логично и очень убедительно. В оконцовке согласился и Мешок, хотя видно было, что ему все равно страшно.
Надо было придумать, как именно нахулиганить с собакой и вообще… Тимка робко швырнул в направлении собаки кусок оторвавшейся дранки. Она лишь тюкнулась об высокую ограду и осталась на огороде Мешка, но Ингус поднял голову и удивленно оглядел нас. Мы натащили на крышу камней, железок и прочего хлама и, не обращая внимания на лай Ингуса, обстреляли соседскую территорию на совесть.
— Ты смотри, — поучал Тимка Мешка, слезая с сарая, — когда Домовой будет тебя брать в сторожа, ты ему скажи, что у тебя еще есть три друга и ты без них — никак…
Мешку ничего говорить не пришлось. Когда лесовоз Домового подъехал к своим воротам, мы прямо здесь, на улице, вдоль его забора гоняли чижа, и помнить не помня уже о недавно учиненном погроме.
— Миш, — позвал Домовой, снова появившись в открытой нараспах калитке ворот, — идить-ка сюды и дружков веди.
Тут мы сразу все вспомнили, Тимка победно подмигнул нам и первым направился к Домовому, а мы поспешили следом.
Каким-то непонятным образом Домовой исхитрился схватить всех нас разом и как-то удерживать, встряхивая и откручивая уши в воздухе всем по очереди. Неведомо каким чудом мы вырвались из объятий этой боли и этого ужаса и поломились, не разбирая дороги, через Мишкину изгородь и дальше по чьим-то огородам сквозь живые и деревянные ограды насквозь…
Но это было давно и к решению Мешка образумить соседа никакого отношения не имело. Домового сторонились все. Вслед ему часто поварчивали “полицейская морда”, и, складывая уворованные объедки разных взрослых разговоров, мы знали, что он и вправду был полицаем, а когда мы победили немцев и их прислужников-полицаев, его посадили в тюрьму, но в результате уже и не чаянной никем смерти Сталина всех этих гадов повыпускали, и Домовой вернулся к жене и тихому сыну, который, похоже, не меньше нас боялся своего отца и в придачу, стесняясь отца, боялся и сторонился всех вокруг, включая даже и нас, даром что был много старше.
Вернувшись, Домовой окунулся в работу, в заработки, в строительство и хозяйство — окунулся до разрыва жил. Он нещадно гонял покорно угасающую жену и чуть ли не ежевечерне, после окончания любых работ, бил ее смертным боем, и не только за глухими стенами дома, но и догонял, когда она вырывалась во двор, избивая и там и дальше — по ходу, когда она рвалась к соседям в поисках защиты.
Чаще всего она спасалась у Мишкиной бабки, которая из-за хилой двери, вздрагивающей под ударами Домового, без всякой боязни покрикивала ему: “Иди домой, идол. Ступай, не гневи Бога”, и, странное дело, Домовой не вышибал дверь, а уходил себе, недовольно побуркивая. Надо сказать, что сына Толика он никогда не бил, даже когда сын подрос и настолько осмелел, что решался уже вступаться за мать и оттаскивать от нее разъяренного отца. Толик был похож на робкого и неуклюжего теленка, его и дразнили Телятя, да и сам отец называл его Телёмой, но неизвестно, что появилось раньше — дразнилка или отцовское прозвище.
Ну как было не защитить своих забитых и запуганных соседей?
Поздним вечером Мешок вышел на двор, посмотрел на усыпанное звездами небо, подивился его необыкновенной красоте, которую, оказывается, он по-настоящему никогда и не видел, и произнес: “Пусть Домовой никогда больше не бьет свою жену”. Подумал и добавил: “И сына”, хотя никаких оснований для этого дополнения у него не было.
Чего-то не хватало. Мешок снова посмотрел на небо и подытожил: “Господи, сделай так…”
Ранним утром следующего дня к воротам Домового подкатил на своем мотоцикле участковый Александр Иванович, везя следом за собой, как на привязи, никогда наяву не виданную “Победу”. Вместе с тремя пассажирами “Победы” участковый скрылся за калиткой, ладно пригнанной в створке ворот.
Соседи высыпали посмотреть и обсудить. Редко кто сокрушался, большинство злорадствовало. Мишкина бабка ковыляла поспеть, на ходу заталкивая в авоську нехитрую снедь. Потом она толкалась среди соседей, конфискуя у них папиросы, и набивала початые пачки в ту же авоську. Мешок околачивался перед автомобилем, мечтая прокатиться.
Через какое-то время из дома донесся женский вой и покатил к воротам. Калитка распахнулась — в окружении чистых и ладных мужчин Домовой в своей вечной замызганной спецовке плелся к “Победе”, а следом волочилась жена, голося и цепляясь за спецовку мужа. Мужчины брезгливо отцепляли ее, стараясь загородить дорогу своими телами и покриками “не положено”, а дядя Саша отворачивал хмурое лицо и ничем не помогал наведению порядка.
— Храни тебя Бог! — Бабка Мешка перекрестила Домового, передавая ему авоську, когда того заталкивали на заднее сиденье.
— Иди-иди, старая, — процедил один из приехавших.
В этот день вся школа шушукалась об утреннем происшествии. Учителя вместе с директором придумывали, что делать с учеником десятого класса Анатолием Домовским, и ждали начальственных указаний, а ученики в основном обсуждали достоинства “Победы” и теребили Мешка всякими вопросами, но тот сидел за партой, сопел и отмалчивался — мешок мешком.
В конце уроков родительница Сереги Зинаида Петровна строго-настрого наказала сыну быть дома и следить за отцом, чтобы тот не пил, и — ни шагу со двора.
— Как же — уследишь за ним… — пробурчал Серега, но ослушаться не посмел.
Так мы естественным образом переместили свои забавы на Серегин участок, но никакого себе занятия придумать не могли и слонялись без толку, постоянно натыкаясь на неповоротливого и на ходу замирающего Мешка. В конце концов Серега с Тимкой прямо под окном горницы затеяли резаться в ножички, а я с другой стороны этого окна в Серегином закутке, отделенном ото всей залы здоровенным буфетом, затих с книгой. Рядом безо всякого дела сопел Мешок, а за буфетом туда-сюда вышагивал худобистый Степан Сергеич, неразборчиво перешептываясь сам с собой. Он изредка останавливался, звякал стаканом и снова принимался шагать и шептаться…
Если мне приходилось бывать в домах своих закадычных друзей без какого-то важного дела, то больше всех мне нравилось в гостях у Сереги. Только у нас с ним дома было много самых разных книг, не считая, разумеется, всяких школьных учебников, а в других знакомых мне домах — полный голяк. Ну разве что иногда можно было обнаружить извечную “Книгу о вкусной и здоровой пище” — вещь замечательно полезную для разглядывания и облизывания, без присутствия и тени мысли, что все это можно есть. Вообще же книги считались напрасным баловством по трате денег, и про тех, кто решался их покупать, говорили так же, как и про американских империалистов, что они “какаву с сахаром пьют и гогелем-могелем заедают”.
Книги занимали целую полку в магазине с вывеской “Культтовары”, и приобрести их можно было только сквозь очень неодобрительное шипение продавщицы Антонины Павловны и общее осуждение случившихся в магазине покупателей.
Пройдет всего-навсего каких-то пять-шесть лет, и книги станут всем желанным дефицитом, а под книжный магазин отведут отдельную избушку с величественной Антониной во главе, которую в глаза станут называть только Тонечка Павлна, потому что книги у этой оборотистой тетки можно будет вымолить только из-под прилавка, купив в нагрузку что-либо из открыто стоящих на полках материалов очередного съезда. Но до этих трудностей из нашего пятого класса еще ох как далеко…
Тревожный бубнеж за буфетом мешал мне сквозь кружево гомеровских гекзаметров и чащобу непонятных слов высматривать невероятные шатания везучего Одиссея.
Серегин отец пил и шептался уже не сам на сам, а с нашим учителем немецкого Георгием Фитисычем, прозванным Аусвайсом, таким же длинным и плоским, как и Степан Сергеич, с таким же морщинистым, измятым жизнью лицом, а пожалуй, еще и с более измятым, короче — полный Аусвайс.
Малышней мы его побаивались и сторонились. Он тоже в войну был полицаем, и хотя нынче работал в школе, все равно враждебный и опасливый шепоток прочно отделял его ото всех вокруг в угрюмую нелюдимость.
Давним дошколятным летом я своими глазами видел невозможное зрелище: Аусвайс строго распекал участкового Александра Ивановича, который с тех пор неизменно почтительно приветствовал его, козыряя по всей военной форме.
Тем летом через нашу станцию вереницей шли шумные поезда на молодежный фестиваль, битком набитые всякими немцами.
Каким-то образом все точно узнавали, когда фестивальный поезд и немцы в нем не пронесутся мимо, размахивая руками и смешно прыгая за открытыми окнами, а сделают остановку. Задолго до указанного времени мои земляки плотно забивали платформу и привокзальный сквер. Все взрослые наряжались в самое лучшее и мужественно потели в добротных выходных костюмах. Даже школьников заставляли гордо носить перед иностранцами честь Родины в обязательной школьной форме, которая в ту пору для пацанов состояла из жарких серых штанов, такой же рубахи под ремень типа гимнастерки и фуражки с кокардой. На малышню не обращали никакого внимания, и мы кружили в этой толчее без всякой ноши и безо всяких обязательств — счастливые и голопузые.
А потом останавливались ни на что не похожие вагоны в цветах и непонятных надписях, и начиналось нечто несусветное.
В плотную молчаливую торжественно-наряженную толпу на платформе вываливалась груда смеющихся дядек и теток в цветастых рубашках и коротких штанах. Все они вверху, над моей задранной головой, толкались, смеялись, лопотали, размахивали маленькими флажками, выпрашивали у пацанов и мужиков значки и награды, рассовывали прямо в руки заморские конфеты в сверкающих бумажках, а по сигналу вокзального колокола быстренько загружались в свои вагоны и беззаботно скалились оттуда каждый в свои полста ослепительных зубов.
Нам, малышне, тоже доставалось из тех конфет и даров, но еще требовалось сохранить эти богатства от дяди Саши, который объяснял, что конфеты могут быть отравлены и по этой причине должны быть решительно конфискованы в качестве улик, потому что среди иностранцев полно шпионов и других элементов. И вправду, с какой стати на фестиваль молодежи едет столько совсем не молодых дядек и теток? Ясное дело — шпионы. Но и согласные с дядей Сашей, мы все равно прятали от него вражеские конфетные дары. Часто они оказывались и не конфетами, а совсем даже непонятной жвачкой, которую и глотать нельзя, хотя некоторые глотали. Взрослые пацаны потом объяснили нам, что жвачка развивает челюсти в каменную крепость, чтобы не страшен был никакой боксерский удар, и долго еще весь поселковый молодняк жевал всякую несъедобную смолистую дрянь.
Примерно на третий день этого вокзального помешательства я и увидел, как здесь же в сквере Аусвайс, тыкая прокуренным пальцем прямо в блестящую мундирную пуговицу участкового, выговаривает ему что-то суровое и неслышное. Дядя Саша после каждого тыка в пуговицу брал под козырек, произносил: “Виноват” — и потом уже ни в этот день, ни в следующие не гонялся за нами, отбирая вражьи конфеты.
Во все те дни Аусвайс преобразился необыкновенно — у него даже походка из понурого плетения превратилась в пружинистое поспешание. А на платформе, когда он каркал про непонятное со своими немцами, он еще и радостно лыбился, бесстеснительно выставляя напоказ сильно прореженные судьбой желтые зубы.
Да и как ему было не радоваться, если все хорошее в своей жизни он только от немцев и видел? Говорят, что, и сидючи в тюрьме, он был приставлен к немцам переводчиком и те щедро делились с ним своими военнопленными пайками, которые не чета были баланде для своих. Вот и выходит, что одна радость была Аусвайсу — от немцев, а от своих — только опасливое недоверие.
Мы же с Серегой и почти с половиной школьных пацанов в придачу Аусвайса люто ненавидели, и совсем не по причине его полицейского прошлого. В пятом классе нам предложили разделиться на две группы: те, кто будет учить немецкий, и те, кто — английский. Везучие Тимка с Мешком записались на английский, а мы с Серегой попали к Аусвайсу. Но учителя английского в школу не прислали, и мы тупо потели по два урока в неделю, бешено завидуя приятелям, законно носящимся по школьной спортплощадке. А если бы мы знали, что эта несправедливость будет продолжаться до самого окончания школы, мы бы там и вообще иссохли в этой своей зависти-ненависти. Иногда перед “англичанами” появлялись какие-то выпускницы областного пединститута, но одни скоренько уходили в декрет, другие в замуж в далекие воинские гарнизоны, и удачливые “англичане” снова радовались на свободе.
А потом оказалось, что Аусвайс никакой не полицай, а самый настоящий герой, но даже эта открывшаяся правда почти не утишила ни нашей к нему ненависти (что все-таки можно понять), ни привычной настороженности остальных земляков, которую уже ничем ни понять, ни объяснить.
Это все раскрылось, когда семиклассниками мы сидели в битком набитом клубе на торжественном собрании по поводу двадцатилетия победы. Шишки из района и свои поселковые вставали из-за покрытого красным стола на сцене и по очереди произносили поздравительные речи про окружающих врагов и непобедимый советский народ.
Ровный гудеж в зале нарастал, перебиваясь во время смены ораторов разнобойными аплодисментами, и все мероприятие катилось гладкой колеей к праздничному концерту. Из-за стола снова поднялся самый главный оратор и принялся что-то неслышное говорить. Из первых рядов зашикали на задних, те шикали дальше назад, и постепенно становилось слышнее: “…награда нашла героя… в сорок четвертом году награжден орденом Красной Звезды… наконец можем вручить… бесстрашному партизану Харитонову Георгию Фетисовичу… прошу подняться на сцену…”
Мы даже не сразу врубились, что речь идет о нашем Аусвайсе. Все заоглядывались, но героя в зале не было. Объявили перерыв и снарядили гонца, благо Аусвайс жил неподалеку, а пока что мужики дымили у клуба, даже не обсуждая, а как-то потрясенно обмалчивая услышанное. Скоро появился Аусвайс, продрался через несущиеся отовсюду приветствия и скрылся в клубе, а следом за ним и мы все наново втянулись в душный зал.
Аусвайс стоял на сцене с орденской коробочкой в левой руке и никак не мог освободить правую, которую беспрерывно трясли друг за другом все шишки, вылезшие ради этого из-за кумачового стола и толкотясь вокруг Аусвайса. А когда они оттрясли, отпоздравляли и уселись обратно руководить праздником, Аусвайс не спустился со сцены, а подошел к ее краю — бледнее бледного и как-то на глазах выпрямляясь из своей повседневной сутулости.
Мертвая тишина буквально залепила уши.
— Этот орден я заслужил благодаря Ульяну Домовскому, — проскрипел Аусвайс. — Пусть он пока полежит там же, где лежал эти двадцать лет, а когда Ульян сможет получить его вместе со мной — тогда да…
Аусвайс сделал шаг к президиумному столу, аккуратненько поставил на него орденскую коробочку и потопал прочь.
— Постойте-постойте, — запротестовал-зарыдал главный застольник, — так же нельзя. Какой Ульян? Где он, этот Ульян?
— Ульян Домовский, — повернулся к ним Аусвайс от дверей. — Сейчас сидит в лагере… Безвинно…
Мы уже знали, что сидящие в тюрьме на самом деле сидят в лагерях, наподобие немецких концлагерей — с той лишь разницей, что фашисты в них изводили людей совершенно бесполезно, а наши с хозяйственной заботой укладывают своих в фундамент социализма, коммунизма и всего нашего светлого будущего.
На следующий день после скандального собрания Серега рассказал нам некоторые подробности из запутанных жизней Аусвайса и Домового, выведанные им у отца. К началу войны Степану (будущему Серегиному отцу), Ульяну и Аусвайсу какого-то годочка не хватало до призывного возраста, и поэтому все они болтались в поселке в ожидании известий о разгроме фашистских захватчиков. Степан крутился подручным у местного комсомольского секретаря, а Ульян с Аусвайсом по причине полной беспартийности шатались вообще без дела.
Выполняя поручения своего начальника, Степан непрерывно разъяснял любым встречным односельчанам, что нельзя предаваться панике и бежать сломя голову неведомо куда, потому что не сегодня завтра Красная армия заманит врага в хитро подготовленную ловушку и искромсает в клочья. Его слушали, хмыкали, уходили прочь, но возвращались уже по несколько человек и заново слушали, прикидывая, что делать. Он так увлекся этой порученной ему работой, что напрочь прозевал распоряжение тающих на глазах властей об эвакуации.
Надо сказать, что в это же время местный раввин тоже собирал своих соплеменников и тоже разъяснял им, что не надо предаваться панике и бежать неведомо куда сломя голову, бросая нажитое хозяйство. Но не потому, что Красная армия хитрым обманом заманит немцев в ловушку, а потому, что красные все время всех немножечко сильно обманывают и не надо верить их ужасным басням про немецкие зверства, ведь немцы — очень культурный народ, и когда в 14-м году…
В общем, и молоденький Степан, и старый раввин — оба как в воду глядели.
Раввин вместе с поверившими ему соплеменниками перед скорой смертью успел еще сполна хлебнуть от немецкой культуры в наскоро организованном гетто, а Степан с начальником-секретарем укрылись в лесу, благо леса вокруг такие, что укрыться там можно было всему партийному и беспартийному населению.
Постепенно к ним прибилась еще пара десятков таких же проницательных коммунистов и комсомольцев, включая пяток потерянных красноармейцев. Первое время просто выживали на мелком грабеже и подаяниях, а потом от местных жителей прознали, что немцы предлагают хорошую плату за информацию о партизанах, и сразу почувствовали себя партизанами. Ими и стали. Правда, из оружия был один только дробовик, наган без патронов и несколько охотничьих ножей, и поэтому немцев пока не трогали, но уже и земляков не грабили, а производили конфискации именем партии, Родины и партизанской чести.
После случайного столкновения с нескладистым немцем за ними началась охота, так что пришлось в спешном порядке осваивать партизанскую науку — и освоили. Секретарь со Степаном стали командиром и заместителем командира партизанского отряда, а Ульяна с Аусвайсом, которого тогда дразнили совсем даже Жоржиком, они надумали заслать своими разведчиками в полицию.
Как-то довыживали до 42-го, а там до гениального Сталина дошло наконец, что партизаны хоть и не взорвали себя перед приходом немцев вместе со всеми мостами, дорогами и домами, хоть и остались самоуправно на оккупированной территории, но стали все-таки реальной силой и руководить этой силой должны не какие-то степаны, а специальный штаб, который в срочном порядке и организовали в Москве под боком у Самого, чтобы он мог при случае приказать и наказать. Из Москвы в глухие леса на парашютах и своим ходом помчали кучу крепких парней, и добравшиеся до места принялись наказами партии, жутким матом и еще более жуткими наганами сбивать независимые партизанские шайки в регулярные отряды, полностью управляемые партией и ее гениальным полководцем Сталиным.
Степанова командира, вкусившего атаманских сладостей, шлепнули тихой ночью, и наутро весь его отряд дружно влился в правильное партизанское формирование с командиром, одетым по форме, и своей партизанской партийной организацией, к которой осиротевший Степан и прибился. Про Ульяна с Аусвайсом он никому не сказал, то ли и правда спасая их от возможного партизанского стукача, то ли для единоличного использования к собственной выгоде, потому что информация Ульяна и Аусвайса помогала Степану хорошо подсказывать детали всяких операций, особенно в операциях по быстренькому уходу из мест возможного появления фрицев. Скоро Аусвайс блестяще отточил свои школьные знания немецкого и стал личным переводчиком коменданта, а Степан блестяще воспользовался работой Аусвайса и возглавил партийную организацию всего партизанского отряда.
Летом 44-го Красная армия, как когда-то и предвидел Степан, вернулась в наши родные края крошить и кромсать немцев. Партизанам приказали в помощь наступлению освободителей активизировать свои дйствия, взрывать базы, коммуникации, дороги, мосты, все на свете, включая опять же дома, хотя, по нормальной логике, казалось бы, все это теперь надо стараться сохранять и, наоборот, не давать взрывать немцам, а не бабахать с ними вперегонки. Впрочем, одно дело — нормальная логика, а другое — священная война любой ценой.
На поселковой станции фрицы соорудили крупную нефтебазу. Командир Степкиного отряда клюнул на посулы наград и повышений и рапортнул в Москву, что обязуется базу взорвать, но взорвать — не рапортнуть. Охрана базы организована грамотно, подходы замечательно простреливаются, штурмовать бесполезно, подобраться невозможно. Вот тут Степан и сообщил про своих личных агентов, преданных ему (и делу партии, разумеется) до последней капли. Ульяна с Аусвайсом подключили к разработке операции — Аусвайс разработал, а Ульян исполнил.
Ульян к тому времени начальствовал над воинской конюшней, среди лошадей пропадал круглосуточно, любил их и холил, и они отвечали ему ответной любовью, а немцы, наблюдая такую привязанность и такое взаимопонимание, всячески выделяли Ульяна из кучи бессмысленных полицаев: одаривали шнапсом и сигаретами, хлопали — гут-гут — по спине и наперебой звали в Неметчину — работником в свои личные имения.
И вот, в исполнение придуманного Аусвайсом плана, охрана нефтебазы увидела, как прямо на шлагбаум очертя голову несется взбесившаяся лошадь, рассыпая хлопья пены и громыхая впряженной комендантской бричкой. Рядом бежит конюх Ульян, пытаясь остановить любимую комендантом лошадь, сзади отстал комендантский переводчик и орет оттуда по-немецки, чтобы спасли породистое животное. Немцы хохотом и выстрелами в воздух продлевают забаву. Ульян понял, что заигрался, и начинает отставать, бричка сбивает шлагбаум, врывается на базу и летит к распределительному узлу — взрыв, пламя, дым до небес, партизанское ура, штурм и раздача орденов…
Степан лично представил к орденам Аусвайса и Ульяна, но героев на месте выдачи наград не оказалось — не судьба.
Комендант не захотел расставаться со смышленым переводчиком и забрал его с собой в отступление. Аусвайс все не мог сорваться от благодетеля к своим, и в конце концов ему пришлось тюкнуть коменданта по темечку и срываться вместе с бессознательным немцем на горбу. Это его и спасло от Смерша, тюрьмы и других обыденных неприятностей, хотя его и промурыжили с полгодика в фильтрационном лагере с военнопленными, халявно пользуясь его переводческой помощью.
А вот Ульян отгреб сполна. Там у нефтебазы его сильно тряхнуло, и он отлеживался в поселке. Понятно, что после освобождения добрые соседи настойчиво стукотали на него куда надо, но на очередном допросе Ульян снова и снова повторял всю правду про себя. Его били, потом разыскивали Степана — уже крупного партийного работника районного масштаба, брали у того показания, подшивали в дело и отпускали Ульяна домой. Так повторялось несколько раз, и за это долгое время Ульян успел жениться, носил жену на руках и, понимая, что здесь односельчане им жизни не дадут, хозяйственно планировал переезд, но — не успел. Его снова взяли, но на этот раз Степан оказался в далекой командировке по делам партийного строительства счастливой послевоенной жизни — и Ульян исчез надолго…
Мы потрясенно молчали. Война, казавшаяся такой же далекой, как революция или гражданская бойня, была рядом с нами: вчера еще в ней сгорали наши отцы, корчась посейчас болью тех ожогов, и поэтому она становилась и нашей войной, иначе с чего бы ее полымя обжигало сейчас наши взволнованные сердца?.. Сколько же боли на нашей земле! Любая другая страна давно бы уже захлебнулась в ней, но нас спасает огромность наших пространств, по которым эта болючая боль вольно гуляет и растворяется почти без остатка…
— Лошадь жалко, — подытожил услышанное Мешок.
Мы дружно хмыкнули-фыркнули-ёпкнули, но сразу же заткнулись, потому что в этом неожиданном итоге была невозможная и невыносимая правота.
— Надо бы Толяну рассказать, — предложил Тимка, — пусть порадуется за отца.
Сына Домового не взяли в армию — может, и вправду по недостатку здоровья, а может, из-за посаженного родителя, и он работал на древесной фабрике, где заколачивал на жизнь, сколачивая табуретки.
Назавтра мы дождались его после смены. Сначала он шуганулся прочь, но потом врубился, с любопытством оглядел нас и позвал к себе. За провисшими воротами, на порушенной скамейке у дома под самодельное вино из некогда желанных яблок Толян со слов родителей и малой частью из собственной памяти рассказывал нам про отца (не мы ему, как собирались, а он нам, потому что ничего нового мы ему рассказать не могли).
“Когда папаню забрали, мамка уже была сильно беременна… Она — к дядьке Степану, а того нет… Туда-сюда — никакой помощи, и со всех сторон только и слышно: “полицейская шалава”… А папаню тем часом вместе с десятком бедолаг конвоируют пёхом в район. Людей у них не было, и конвоировать взялся смершанный офицер совершенно пиратского вида — с черной повязкой через мертвый глаз… Мамка тем утром, когда их в район снарядили, у этого одноглазого в ногах валялась — молила передать одежку и мелочевку для жизни, так тот ее ногой отталкивал, сапогом катил прочь на глазах бати… В общем, ее прогнал, а их погнал… А там больные, избитые — плетутся еле-еле, и тридцать с гаком верст до района за день ну никак им не одолеть… Одноглазый и дрыном и матом — никак. Он остановил кого-то на “козелке” и передал в район, чтобы присылали подмогу, транспорт, конвоиров, а стадо свое сбил на обочине в кучу, что баранов, и ждет… Время холодное, считай, зима уже, но без снега пока что — всех пробрало до дрожи. Затеяли костер. Хворост ломали у обочины и ждали пули в спину — так запугал всех. Ну, развели костер, а одноглазый требует еще один — персонально для себя, и прицепился к папаше, поднимает его от костра пинками. Тут отец схватил горящий сук из костра и циклопу этому в харю. Вой, мат, все — кто куда, а тот сослепу садит из автомата в белый свет… Отцу бы ноги в руки — и куда подальше, а он вертается обратно, мамку забрать, ну а она аккурат начала меня рожать… Короче, там его и повязали и погнали совсем смертными лагерями до Колымы — чтобы уже не бегал… Но сбегали и там, чтоб хоть помереть на воле, когда совсем уж невмоготу… Там, по рассказам батяни, даже людоедный промысел был. Вольные из освободившихся блатарей подмывали там золотишко в летучих артелях, и в одну весну такой голод случился, что отлавливали они этих бегунов и ими подъедались… В общем, доходил он на этом гибельном лагпункте окончательно. Там и вообще живые мертвецами гляделись и мертвецам завидовали — чистый ад. И там как-то неожиданно приручилась к нему сторожевая овчарка. Папаня всегда имел способность дружить с разной живностью — вот так и случилось. Большой лагерный начальник приехал на папаню смотреть — похмыкал в усы и забрал с собой. Жонка его, сумасбродная стерва со странным именем Кира, развела для своего удовольствия зоопарк — вот в тот зоопарк батю и определили. Зверей там держали в холе и сытости, ну а с людями обращались как со свиньями, но папаше перепадало от звериного прокорма, и он очухался. Эта Кирка даже фаловала его в любовники, но тут он остерегся… И так долгие годы… Мамка сначала хлопотала, понукала дядьку Степана, чтобы он писал, ждала, но все зря… Тогда она стала попивать, а говорили, что и баловать. В общем, когда отец вернулся через много лет и вошел в дом, тут пир горой и куча собутыльников… Папаня взялся все и всех колотить и поубивал бы всю шоблу, честное слово, но я схватился за его ногу и реву в три ручья, а он подхватил меня — “Телёма-Телёма” — и тоже в глазах слезы…”
Мы избегали смотреть друг на друга, чтобы не выдать ненароком, что и у нас, как у его папаши… ну, в общем, откашлялись, будто попало что-то в горло, чокнулись, понукнули сгорбленного отдельно Мешка, а когда он повернулся к нам, увидели его страшные глазищи — черными провалами на полотняно белом лице, точно как те иконные глаза из его дома.
Через пару месяцев после неожиданного награждения Аусвайса и его возмутитеьной выходки вместо ожидаемого “Служу Советскому Союзу” вернулся и сам Домовой, точнее — тень Домового. Он высох до костей, потемнел, все время кашлял и через полгода тихо помер, не только ни разу не ударив свою жену, но даже и не повысив на нее голос.
А там, в Серегином дому, в день, когда Домового увезла из его жизни шикарная “Победа”, ни мы, пятиклашки, ни взрослые Степан Сергеич с Аусвайсом и представить не могли, как счастливо все переобернется через несколько лет.
— Я напишу, — Степан Сергеич, пригрозил кому-то в окрепший голос, — я все пропишу.
— Да сколько уже можно с этой тягомотной писаниной? — возразил Аусвайс. — Ехать надо, ехать к районному начальству — и требовать.
— Тут не к районному, — вздохнул Серегин отец, — тут в область надо.
— Ну так поедем в область, — не отпускал его Аусвайс. — Не прежние времена — отпустят.
— А ты уверен, что тебя самого не посадят?..
— Но тебя-то точно не посадят.
— Наверное, не посадят, но такую проработку могут устроить — жить не захочется.
— Все равно надо ехать.
Скрипанула дверь, и туда в залу ворвалась Серегина мамаша. Наверное, Зинаида Петровна слышала последние слова и закричала-запричитала еще даже раньше, чем дверь захлопнулась за ней.
— Степа никуда не поедет, у Степы семья, мы не можем так рисковать…
— Не лезь куды не след, — заорал Степан Сергеич, дробно звякая бутылкой о край стакана.
— И что эт-то творится? — более миролюбиво протянула Зинаида Петровна, ни к кому, собственно, не обращаясь. — Война давно закончилась, а людям все житья не дают. Они опять гайки закручивают, да, Степа? Хрущев лезет в новые Сталины? Ему тоже сажать приспичило?..
— Это дело большой политики, — взялся пояснять Аусвайс, пока Степан Сергеич отмалчивался. — Я в немецкой газете читал. В ответ на наши требования судить военных преступников без срока давности какой-то из их политиков сказал, что мы своих преступников-полицаев повыпускали, а с них требуем. Вот и завертелось…
Повисла гнетущая тишина, и, превозмогая ее, Зинаида Петровна взялась хлопотать с закусками и говорить-говорить о хозяйственных делах, о том, что надо сделать завтра, вздыхала о бедном-бедном Ульяне, в общем, по-всякому стремилась добиться своего — чтобы Степан Сергеич и думать забыл о каких-то поездках и опасных защитных хлопотах…
Потом она заметила нас в укромке за буфетом и начала ласково выпроваживать:
— Идите, мальчики, на улицу. Погода замечательная, а вы тут киснете в духоте…
— Это я виноват, — бурканул Мешок, направляясь следом за мной на выход. — Я посадил Домового.
— Какого Домового? — заорал Степан Сергеич, но сразу врубился и подскочил к Мешку. — Как ты его посадил? — затряс он Мешка. — Ты писал куда-то? Куда ты, паршивец, писал?..
— И ничего я не писал, — вырывался из его рук Мешок. — Я просто — захотел.
Степан Сергеич оставил Мешка в покое и что-то обдумывал там вверху над нами, куда мы головы не задирали и поэтому видели только его дрожащие пальцы.
— Лучше бы ты захотел Аусвайса, — пошутил я над Мешком, выходя из дому.
— Ты точно никуда не писал? — грозно окликнул Степан Сергеич Мешка, высунувшись из дверей.
— Что ты цепляешься к нему? — Серега налетел на отца нам в помощь.
— Давно пора разогнать всю вашу банду. — Серегин отец хмуро оглядел нашу компанию и скрылся в дому. Как же — разгонишь!.. Теперь уже поздно разгонять — теперь мы дали клятву, и никому постороннему ее не превозмочь, а сами мы никогда ее не нарушим, потому что нарушить такую клятву — это самое последнее, что может сделать мужчина.
Как-то целый вечер я рассказывал друзьям, какие замечательные мушкетеры жили когда-то на белом свете. Сначала они мне не очень поверили, тогда я предложил почитать книгу, в которой вся эта правда о мушкетерах написана, и даже притащил книгу им показать, но только Серега взялся читать, а Тимку и Мешка она испугала своей толстотой. Через пару дней Серега сказал, что все мной рассказанное — взаправду. А потом в клубе показали цветной фильм про мушкетеров, и хотя книга была правдей фильма, никто уже не сомневался в моих словах, и мы поклялись “один за всех” и ждали своих кардиналов и рошфоров, чтобы немедленно победить их всех…
Так что теперь не разгонишь.
Да и раньше трудно бы было нас разогнать, потому что мы все вчетвером давным-давно в совсем мальковом возрасте сразу и крепко сдружились. Точнее, сначала сдружились мы с Тимкой, а потом появился Серега, а еще потом мы подтянули к себе Мешка. Но сначала был Тимка…
2. Тимка (На той стороне)
Тимка жил на той стороне — за железной дорогой.
Ну какой нормальный человек по собственной воле будет жить на той стороне, если все-все, что только надо для жизни, находится у нас? Даже все то, что не очень надо и без чего жизнь была бы куда веселее, — тоже у нас. Например, школа, или амбулатория с зубосверлильным кабинетом, или милиция в ржавых решетках. А еще магазин, чайная, клуб — в общем, все. И вокзал с колоколом у нас. Поэтому, когда приезжает поезд, двери вагонов открываются в нашу сторону и все выходят к нам, а тем, кто живет на той стороне (за железнодорожными путями), приходится или давать немыслимого кругаля до переезда, или карабкаться через товарные составы, оскальзываться на рельсах, а то и нырять под вагоны. И было бы для чего! У них же там вообще ничего интересного нет. Вот почему, как правило, не мы ходили к ним на ту сторону, а они к нам.
А полазай вот так под вагонами каждый день, да еще с авоськой или портфелем… Страшно ведь. В колокол звонят только для пассажирских поездов, а товарняки отправляются без предупреждения. Может, от этого постоянного страха пацаны с той стороны были какие-то стебанутые и ходили они по нашим улицам не так, как мы, а с опасливой оглядкой, как будто мы здесь — все сплошь дикари и можем напасть тишком, без предупредительного сигнального свиста. При этом все они были злобными и коварными, и если вдруг случалось мне с приятелями забредать на ту сторону, то приходилось все время быть начеку, так как в любой момент из-за любого забора мог раздаться оглушительный свист, и тогда уж — только лететь пулей на свою сторону…
Я, конечно, помнил, что давным-давно, когда я еще ходил в детский сад, на нашей стороне тоже жило много опасных пацанов, но все они были не с нашей улицы. Да и злобность их была куда более отходчивая — главное было успеть проскочить пару переулков и свернуть на свою улицу, и они сразу же успокаивались и уматывали к себе, цвиркая тонкими плевками вполне даже миролюбиво.
Кстати сказать, это необыкновенное умение меткоплевания долгое время было предметом моей жгучей зависти, и, осмыслив теоретически все необходимые условия для развития желанного таланта, я принялся целеустремленно раскачивать передний зуб.
— Ты что — хочешь быть щербатым? — попробовала выставить меня на смех моя первая учительница Елизавета Лукинична, заметив мои усилия.
— Ага, — честно ответил я.
Смеха не получилось, и, наверное, поэтому Елизавета Лукинична мигом доставила меня в кабинет директора, где долго втолковывала ему, в чем именно я провинился. Директор как-то подозрительно слушал, приоткрыв свой малозубый рот, и, по-моему, все равно ничего не понял.
— Береги зубы смолоду, — единственное, чем он нашелся меня наставить, когда учительница ушла дорассказывать свою арифметику.
Я вспомнил, что по-правильному эта поговорка звучит иначе, и спросил, что же главнее надо беречь смолоду. Директор задумался, поглядывая на меня искоса, как будто ожидая какой-то подлянки, но ничего больше не дождался и отпустил. Так я дуриком прогулял урок арифметики, благодаря чему сумел докачать свой зуб до полного уничтожения.
Теперь я уже с полным правом заслужил прозвище “щербатый”, ничуть не воспринимая его чем-то обидным. Конечно — щербатый. А еще — “лысый” (до пятого класса в нашем поселке мальчишек поголовно стригли налысо), “малек” (так звали всех пацанов до того же пятого класса — то есть до перехода из начальной школы в нормальную, когда по каждому предмету полагался отдельный учитель, а на голове родители позволяли оставлять чубчик), “буйный” (из-за того, что в прелюдии любой драки я заметно подрагивал непослушными руками, а в самой драке в какой-то момент вдруг пер напролом, переставая уворачиваться от пинков и ударов, но на самом деле я жутко боялся драк — панически, до подрагивания рук и ног, и, как правило, все это куда-то исчезало после первой же пойманной звездюлины). Иногда два прозвища объединялись, и тогда меня звали “буёк”, но и в этом тоже не было ничего оскорбительного. Даже швыряемый в меня выкрик “пархатый” по вполне простительному малолетству и неистребимому благодушию я не воспринимал как оскорбление, полагая это слово абсолютным синонимом слову “щербатый”.
Однажды мы с моим соседом Сашкой сцепились из-за какой-то никчемушной ерунды и мутузили друг друга до полной потери сил.
— Пархатый, — просипел Сашка, отползая к своей калитке и с трудом поднимаясь на ноги.
— На себя посмотри: ты сам — пархатый. — Я отдыхивался на четвереньках.
Сашка онемел, а потом с воплями возмущения понесся к себе во двор, где, лениво поругиваясь, гремели чем-то по хозяйству его родичи. Оттуда он вернулся со своим старшим братом Мишкой (не Мешком, с которым мы позже сдружимся, а просто Мишкой).
— Ты что буровишь, малек? — Мишка вздернул меня на ноги. — Какой он тебе пархатый? Может, скажешь, что и я пархатый?
— А какой же еще?! — Я просто обалдел от такого наглого отрицания очевидных фактов. — Да ты посмотри на себя! У вас дома что, зеркала нет?..
Мишку аж передернуло. Потом он завидно цвиркнул точно в ствол рябины и вместе с братом скрылся у себя во дворе. Некоторое время там ворчали что-то неразборчивое, а дальше голоса крепли.
— Не пойду я к его матке, — отнекивалась оттуда Сашко-Мишкина мама. — Что я ей скажу? Она же не ходит ко мне жаловаться на наших балбесов.
— Чой-то я не пойму! — заорал на нее глава семейства, а я от этого ора быстренько скрылся за своей калиткой.