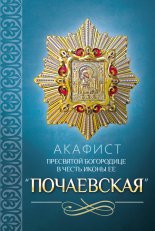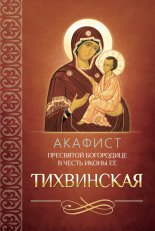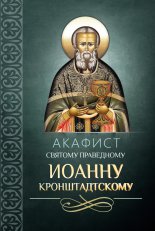Господи, сделай так… Ним Наум

Технический прогресс караулил впереди.
Я уже умел вполне бегло читать и в зале ожидания крутил головой во все стороны, используя по максимуму свое недавно приобретенное умение. Вывеску “Полуавтомат для чистки обуви” я прочитал несколько раз, не очень веря своим глазам. “Газеты и журналы”, “Буфет”, “Комната матери и ребенка” — все вокруг было вполне понятно, но этот полуавтомат был чистой фантастикой. Я догадался, что это и есть тот самый технический прогресс, с помощью которого мы в два счета догоним и перегоним Америку.
Мне пришлось ускользнуть из-под опеки и подобраться к техническому чуду поближе. На железном боку агрегата висела инструкция. “Всуньте в прорезь 15 коп. (дело происходило до хрущевской реформы 61-го года), откройте дверцу, возьмите щетку и гуталин и почистите обувь”. Тут меня снова крепко взяли за руку, и мы вышли в город.
Я вприпрыжку весело поспевал за своим провожатым, крутил лопоухой башкой и лыбился во всю щербатую пасть… В какой-то момент я освободил руку и, чтобы избавиться от властного захвата, принялся ею размахивать. Мне это понравилось, и вот я уже крутил руками, будто двумя пропеллерами, подстраивая это вращение со своим подпрыгивающим скоком. Мне казалось, что я нашел именно те движения, которые необходимы для полета. Надо только посильнее крутить пропеллером и все время чувствовать приподнимающую тебя радость. Вот честное слово: еще чуточку — и я взлечу…
— Не маши руками, — одернул меня дядя.
— Почему?
— Ты хвастаешь, что у тебя на руке часы, а хвастать — нехорошо.
Я даже задохнулся от сокрушительной несправедливости услышанного.
— Пожалста! — Я отстегнул часы, которые дядя дал мне поносить на сегодня, и протянул их ему.
Я представлял, как снова начну всю свою предполетную подготовку, а потом взлечу и докажу, что часы здесь ни при чем…
Настроения не было даже на прискок, не то что на кручение пропеллера.
— Без часов не машется? — удовлетворенно подначил дядя.
Уже тогда я точно понял, что взрослые — совсем не умные, а их всезнающие улыбочки, с которыми они поглядывают на нас из своего верхнего мира, свидетельствуют не о какой-то необыкновенной мудрости, а всего лишь о непроходимом самодовольстве…
Потом и до сегодня неисчислимое количество раз меня толковали, объясняли и комментировали — практически всегда невпопад. Раньше я частенько протестовал, выходил из себя, что-то доказывал. Позже чаще всего отворачивался. Зачем мне люди, которые заранее знают обо мне все что можно и при этом — не так, как есть?
Тот незначительный эпизод из детства вывернулся для меня в стойкий иммунитет к чтению в чужих душах. По крайней мере, я железно запомнил, что в подобных читках результат всегда предположительный и поэтому лучше всего к нему добавлять слова “может быть”. А всего лучше — не считать чужую душу открытой книгой и не читать в ней.
А если интересно?
Спроси. Может быть, тебе ответят. Возможно — правду…
Если бы тем летом перед седьмым классом нас спросили о Тимкиных уроках рисования, то мы могли бы сказать чистую правду о том, что в этих его занятиях не было еще никакого распутства, да только — кто бы нам поверил? Поэтому мы помалкивали, а вместе с нами и все остальные соучастницы и хранительницы Тимкиной тайны. Впрочем, вполне возможно, что кто-нибудь считает развратом именно то, что Тимка и практиковал той порой…
Осенью художественная студия Тимки переместилась с природы в большую горницу шелапутного семейства Шидловских, потому что квартирка Галины Сергеевны попросту не вместила бы всей той роскоши, до которой Тимка дошел в своем ремесле. И вот тогда уже сбылись наши мечты.
Многочисленные братья и сестры Шидловские совершенно не стеснялись наготы и прикрывались одеждой только от дружного осуждения окружающих и еще, может, от холода. Сама хозяйка дома тоже могла выскочить по домашним делам из дому во двор в чуть застегнутом халате или сарафане, да и застегнутом только для успокоения случавшихся за забором соседей.
— Стыдоба какая, — плевались ей вслед поселковые женщины.
— Ясное дело — язычница, — соглашались с женами наши мужики, сплевывая больше для вида и как-то даже восхищенно. — Цыганская кровь.
Любая дружба с большим и безалаберным семейством немедленно вызывала к жизни нудные воспитательные проработки в школе и дома, и потому с Шидловскими дружили втихую, а гостевания в их дому всячески скрывали от взрослых, чтобы только не навлечь на свою голову невразумительные нотации с поджиманием губ и с попыткой туманными намеками связать между собой эмоциональные восклицания “какой срам” или “какая грязь”… Нам тоже приходилось скрываться, потому что той осенью мы всякий вечер норовили улизнуть к Шидловским. А началось это, когда Нюрка Шидловская из десятого попросила Тимку сделать ей портрет.
— Негде, — развел руками Тимка. — Мамка хворает, и у меня нельзя.
— Приходи к нам.
— А твои против не будут?
— Да ты что? Все будут рады.
— А можно тогда я с друзьями? — вспомнил Тимка свое давнее обещание.
Родительница Шидловских до ночи пропадала на разных заработках, родитель что-нибудь сторожил для того, чтобы выпить и вспомнить славное военное прошлое, когда он был еще цел и здоров. Весь дом был в нашем распоряжении на долгие вечера.
В большой комнате, где на ночь прямо на полу разворачивались матрацы для сна, мы все и размещались. Тимка раскладывал на столе рисовальные принадлежности — чаще всего карандаши, но пробуя уже свои силы и в красках, а старшие сестры Шидловские из девятого и десятого класса позировали сразу втроем, Тимка увлеченно рисовал, и мы смотрели во все глаза, сгорая внутренним жаром и страшно завидуя Тимке, которому дозволялось дотрагиваться до позирующих сестер — чтобы поправить руку, или иначе повернуть тело, или даже просто так. Иногда к трем своим сестрам, посмеиваясь над своим же чудачеством, присоединялась и Аннушка, закончившая школу уже пару лет назад и работавшая дояркой в колхозе. Она сразу же начинала командовать, расставляя сестер в картинные позы, и очень живописно становилась между ними сама, но долго не выдерживала и подбегала к Тимке посмотреть, что получается. Получалось здорово, но живые картинки все равно были лучше рисовальных, потому что на рисовальных Тимка попрежнему все внимание уделял фрагментам, пририсовывая к ним остальное почти намеком, а на самом деле и остальное было очень красиво. Все было красиво, а Аннушка — лучше всех.
Мешка, например, более всего восхищало то, что пышная и налитая до прозрачности, как осенняя антоновка, Аннушка была разноцветной — с белыми до плеч волосами и черными кудряшками внизу. Однажды он поделился своими восхищениями по поводу редкой Аннушкиной породы с Серегой, и тот вмиг развеял все Мишкины очарования.
В самый разгар роскошной осени очередной вечер у Шидловских не состоялся. Тимка как раз насобирал целую охапку желтых листьев, чтобы украсить ими свои модели, но в горнице царила мрачная тишина. Мы даже подумали, что учителя или другие взрослые несображалы что-то прознали и устроили всему семейству какой-нибудь разгоняй, однако в реальности все было много хуже.
Накануне отец семейства пропьянствовал ночь напролет на пару со старшим сыном, сбежавшим для этой пьянки с самих целинных земель. Правда, и покорять их Виктор Шидловский отправился несколько лет назад не от избытка воодушевления, а для получения паспорта, которого колхозники тогда еще не имели, а покорителям целинных земель его выдавали, не глядя на то, если они даже колхозники. Паспорт нужен был Виктору, чтобы вырваться, как он говорил, из “вечной беды”, зацепиться в каком-нибудь городе и начать жизнь по-человечески.
Отец планы сына не одобрял, но и найти им убедительные возражения тоже не мог. Пил, подливал, слушал сыновние рассказы про целину, привычно поварчивал…
— Этот Хрущ всю страну распашет для своей кукурузы…
— Не дурите, батя. Целину пашут не под кукурузу. Под хлеб. Другого не бачыл…
— Ты яго не абараняй. Он всех загубит.
— А я и не абараняю. Он, ясный пень, тоже не падарунок, але жизнь делает полегче — и на том спасибо…
— Чым легче? — орал старший Шидловский, расплескивая самогон.
— А вы, батя, не кричите, а послухайте. Паспорта выдали — раз. Гроши в колхозе взялись платить — два. В городах, говорят, можно самому себе кватеру купить — три…
— Ты слухай больше — тебе наговорят… Сталин кватеры бесплатно давал, а тут — купить… Это ж какие гроши меть надо!..
— Бесплатно? В год по чайной ложке бесплатное-то…
— По чайной, але — бесплатно! Цены каждый год поменшал, а сейчас? Только больше и больше…
— Ага, поменьшал. На шнурки. А продуктов — шиш…
— Сталин за ордена платил. Я бы мог на те гроши всю семейству поднять…
— Очухайтесь, батя, это же Сталин отменил орденские гроши.
— Хрущ отменил…
— Нет-нет. — Виктор придержал отцов стакан. — Погодьте. В каком году отменили орденские?
Шидловский напряг память и ахнул. Ладный его мир рушился на глазах.
— Если совсем честно, то вот что я вам, батя, скажу: самое хорошее, что исделал Хрущ, — это то, что он вашего Сталина вынес, на хрен, из мавзолея и закопал…
— Молчать! Не смей…
— А вы послухайте, а не орите…
— И слухать не хочу…
— А куды подевались все те послевоенные инвалиды, что на каталках… по поездам?.. Вы ж сами рассказывали…
— В дома для инвалидов. Их там заботой обеспечили… Всем обеспечили…
— Ага, в дома для инвалидов. На Соловках… На других островах… На смерть повывозили…
— Брехня! Не сметь!
— Вы, батя, что слепец. — Виктор махнул рукой и жахнул одним глотком полстакана. — Не бачыте и бачыть не хотите. Вы бы хоть дядьку Захара порасспросили. Его в ту облаву случайно загребли, думали, что и он из уличных инвалидов. Вот он тех забот хлебнул полной мерой, пока семья до его доискалась…
— И он брешет…
— А ему-то зачем?.. Ну ладно — пусть так. — Виктор пошел в новый заход: — А заградотряды? Сами же говорили. Да ваша же пуля в груди — от тех сталинских молодцев… Молчите?.. Да не в одной армии мира такого не было… А мамкины родители — где? Их за что Сталин ваш погноил в лагере? За то, что они ему же поверили и не успели с-под немца убечь?..
— Зато Хрущ твой — прям ангел, — буркнул родитель и налил снова.
— Да и он — дрянь… И виноватый в том же, что и усатый ваш… Но он хоть попробовал стать человеком… И нам показал, что можно… Хотя…
Виктор помрачнел и обрывисто рассказывал притихшему отцу о работе на целине, о невиданном урожае и о том, как выращенный надрывом сил хлеб зарывали в овраги с глаз долой, потому что — бардак, дураки… ни амбаров, ни элеваторов, ни нормально оборудованного тока…
— Во-во, а Сталин навел бы…
— Это как? — Беседа снова перешла в регистр ора. — Порасстрелял бы всех?
— А бардак с дураками лепш?..
— Лепш. Лучше. Много лучше. Пусть лучше дураки, чем кровавый психопат и убийца, а ваш Сталин — именно психопат и убийца…
— Вон! Убирайся прочь!.. — Шидловский, будучи уже совсем не в себе, запустил опорожненной бутылкой в голову сына…
Рассвет старый Шидловский встречал, смоля на корточках у забора поселковой больницы, где его Виктора готовили к операции. Шидловский вспоминал всех известных ему от жены древних богов и пытался договориться с каждым из них по отдельности о благополучном излечении сына. Потом — то ли по собственной догадке о том, как их умаслить, то ли по какой подсказке свыше — скоренько вернулся домой, достал из чуланчика добротный портрет генералиссимуса, с которым ходил на ноябрьские и первомайские демонстрации, и разнес его в щепки. Уверяя себя, что теперь все будет хорошо, он заново вернулся на свой пост у больничной изгороди.
— Вы бы все-таки поаккуратней пьянствовали, — остановился возле него выходящий из больницы Баканов.
— Как он? — Шидловский вытянулся в смирно и кивнул головой на больничные окна.
— В этот раз пронесло.
— Спасибо, доктор. — Шидловский схватился трясти руку, спасшую его сына, а Баканов достаточно неприязненно вырывал свою руку из единственной, но цепкой благодарственной клешни обратно.
Шидловский улыбался прямо в небеса, а потом начал думать, чего же ему не хватает для достижения настоящей гармонии и равновесия в этом противоречивом мире. Надумал. Здесь же недалеко от больницы на стене поселкового клуба висел громадный и парадный портрет Никиты Сергеевича Хрущева. Шидловский нашел какую-то дряхлую лестницу в дому по соседству и после долгих пыхтений умудрился своей одной рукой перетащить эту лестницу к клубу и, вскарабкавшись на нее, сжечь, на хрен, портрет главы нашего единственного в мире такого удивительного государства.
Боги молчали, ничего больше не требуя, потому что равновесие было достигнуто, а довольный собой террорист отправился спать и даже успел выспаться к тому времени, когда вежливые до дрожи мужчины усадили его в черную “Волгу” и увезли из дому.
— В самый Витебск увезли — не в район, — опустошенно говорила осиротевшая хозяйка осиротевшего дома. — Оттуда не вызволить.
Она уже обессилела плакать и тупо сидела, глядя неузнавающими глазами на своих же детей, шмыгающих тихими мышатами по горнице.
— Видите, мальчики, горе у нас, — развела руками Аннушка. — Папку заарестовали. Совсем. И брат в больнице. — Она привычно и как-то легко заплакала — без рыданий, одними только слезами из глаз. — Вы идите, мальчики… идите…
— Я помогу, — пообещал Мешок, направляясь к двери. — Все будет хорошо. Не плачь…
— Какой ты хороший. — Аннушка проводила нас на крыльцо и там чмокнула Мешка в щеку.
Мешка этот неожиданный чмок мокрыми от слез губами смутил и вскрылил одновременно. Он достал свою секретную тетрадь, где последней была его июньская запись про нобелевку, и застыл, обертывая коварными и ненадежными словами такое простое и понятное желание — помочь Аннушке, ее сестрам, всему ее семейству и их веселому запойному отцу…
На этот раз неведомым силам понадобилось несколько дней для исполнения Мишкиного заказа. Да оно и понятно, если вспомнить, что для этого надо было провести октябрьский пленум руководства всей нашей родной партии, чтобы отстранить от власти прежнего дорогого руководителя и назначить на его место другого и, как позднее выяснится, еще более дорогого…
Шидловского привезли под вечер прямо домой очень вежливые мужчины, может, те же, а может — другие, но “Волга” была точно другая и белая. Они долго прощались с обалдевшим Шидловским на его крыльце, по очереди тряся неудобную для этого левую руку и улыбаясь во все зубы, говорили, кто, мол, помянет — тому и глаз вон.
— Это понятно, — соглашался Шидловский. — Куды мне без руки да еще и без глазу?..
Мужчины радостно смеялись, но в дом не заходили. Впрочем, их и не приглашали.
Нас тоже не приглашали, но мы пришли сами. Шидловский — маленький, тихий и трезвый — сидел на табурете во главе стола, а вокруг сияла-хлопотала-напевала-носилась его счастливая жена, накрывая праздничный ужин.
— Идемте-идемте, — уводила всех Аннушка, — пусть родители попразднуют одни, — убеждала она сестер, братьев и нас, видимо догадываясь, что Шидловскому невтерпеж родить еще одного сына, который и появится ровненько через девять месяцев, повергая в уныние поселковое начальство, потому что этот новый Шидловский окажется последней каплей, после которой все семейство обретет право требовать немедленного улучшения жилищных условий и всякой другой заботы, а хозяйке дома придется давать золотую медаль матери-героини и сажать ее наравне с собой во всяких президиумах за кумачовым столом.
Но это все — чуть погодя, а сейчас радостным клубком все мы выкатились на улицу и рассыпались там на каждый себе.
— Мальчики, давайте я с вами, — спросила, а вернее, сообщила Аннушка, беря Мешка под руку.
Так мы и пошли по поселку, отворачиваясь от встречных сельчан в напрасном старании остаться неузнанными: смущенный Мешок с Аннушкой впереди, за ними мы втроем, а за нами — все Аннушкины братья и сестры. У клуба мы пообсуждали, идти ли в кино, которое начиналось через час, и в конце концов за кино проголосовали все Шидловские, но денег на всех не хватило, и мы с Тимкой, Серегой и Мешком самыми искренними голосами вспомнили про неотложные дела и распрощались. Через пару сотен метров Аннушка нас догнала.
— И я с вами, — сообщила она. — Пойдем рисовать? — спросила она чуть погодя у Тимки. — Только куда?
— Можно ко мне, — предложил Тимка.
В маленькой Тимкиной комнате было не так вольготно, как в избе Шидловских, но мы как-то разместились и с нетерпением подгоняли начало так давно не случавшегося рисовального представления. Тимка, как назло, медленно и обстоятельно раскладывал свои художественные принадлежности.
— Мне куда? — спросила Аннушка, готовая к уроку пока только верхней частью.
— Куда хочешь, — разрешил Тимка.
— Да-а, — вспомнила Аннушка, — я же тебя, Мишонок, еще не поблагодарила. Ты и правда молился за папку?
Мешок молчал, пыхтел и краснел в жар прямо на глазах.
— Давай я тебя поцелую, — предложила Аннушка. — Вместо благодарности.
Мешок молчал и отворачивал от нас пунцовое лицо.
— Поцелуй меня? — подал голос Тимка. — Мы друзья, и это практически то же самое. — Тимка стоял уже рядом с Аннушкой и, в отличие от нас, был с ней одного роста. — Ну, что же ты? Вместо благодарности… А Мешку я потом твою благодарность перескажу…
Аннушка засмеялась, слегка прижалась к Тимке и охватила Тимкину нижнюю губу своими большими и яркими. Мы смотрели почти в столбняке.
— Ого-го, — пропела Аннушка, отодвигая свое лицо от Тимкиного и прислушиваясь к прижавшему ее к себе Тимкиному телу. — Да ты совсем не обычный художник — ты…
Тимка не дал ей договорить, запечатав ее губы своими и прижав ее к себе в неразрыв. Мы смотрели, где шарят и гладят Тимкины руки, и не могли отвести глаз. Потом заметили Тимкино медленное передвижение вместе с Аннушкой от стола к кровати, у которой мы и застыли, и быстренько исчезли с их спирально-кружащего пути.
У порога мы еще раз оглянулись, и если бы не Серегино “пошли-пошли”, обязательно увидели бы, что и как следует делать, потому что Тимке повезло и его первой женщиной оказалась очень знающая барышня, а каждому из нас пришлось все это позже постигать с такими же, как и мы, малоопытными девочками-одногодками.
С того дня Тимка свое рисование забросил, а если и брал карандаши и бумагу, то только как повод для скорейшего обнажения будоражащего его объекта — не объекта рисования, а объекта страсти. Других объектов не существовало вообще, потому что страсть пылала все время, а объекты могли меняться как угодно и были не в силах ни удовлетворить Тимкину страсть на сколько-нибудь продолжительное время, ни даже утишить ее. Аннушка открыла ящик Пандоры — и Тимка пропал. Теперь его жизнью более всего руководил его же торчун и постоянная забота о том, куда бы того пристроить…
Мы по-прежнему много времени проводили вместе, но очень часто Тимкин взгляд становился прозрачным и отсутствующим, а когда он этим своим сквозняковым взглядом вдруг фокусировался на какой-нибудь представительнице женского пола, то смотрел уже совсем иначе — липким и мутным прицелом. Однажды он всерьез нас перепугал, когда во дворе Мешка поймал в такой свой мутный прицел невинную козочку за соседским забором. Сереге понадобилось несколько раз довольно чувствительно садануть Тимку по спине, чтобы вернуть его обратно к нам…
— Ну что я могу сделать? — оправдывался Тимка в ответ на наши смешки. — Все время торчком.
— А ты его привязывай, — посоветовал Мешок, не зная, как помочь. — Прибинтовывай.
— А я, по-твоему, что делаю? Но это ж только чтоб вид был нормальный, а мне от этого только хуже…
— Послушай, — осенило Серегу. — Ты видел на молочной ферме новые аппараты для дойки? Насаживают на коровьи сосцы такие специальные трубки, включают электричество, и они…
Тимка все понял и задумался.
— Считаешь, получится? — спросил он у Сереги.
— А какая разница? — убеждал Серега. — Там сосцы, у тебя — твой дурак торчком, а трубке этой все едино…
В перерыве до вечерней дойки мы лежали у просевшего коровника и поджидали Тимку. Серега заметно волновался.
6. Серега (Суд с танцами)
— Меня там чуть не кастрировали, — набросился Тимка на Серегу, когда мы все жданки прождали и ни на что хорошее уже не надеялись, потому что Тимка не появился и после того, как Серега по-уговоренному свистанул во всю мочь, увидев, что доярки плетутся на вечернюю дойку, лениво сплевывая вечные жалобы вперемежку с вечной же семечной лузгой.
Первой в коровник втиснулась необъятная Домна Ивановна и застыла, не в силах уразуметь, что этот паршивец пытался сотворить с драгоценным аппаратом для автоматической дойки. Уразумела, когда Тимка ошалело вскочил, схватившись застегивать штаны.
— Да тя убить мало, распутник! — завопила она. — Девки, держите его — мы сейчас этому дрочиле всю его дрочильную механизму пообрываем. Это ж надо таку пакость удумать. Нам дойку доить пора, а теперь из-за этого паскудника придется усю систему отмывать…
Тимка бегал, перепрыгивая из одного стойла в другое и пытаясь укрыться за коровами от разъяренной Домны Ивановны. Буренки шарахались и взмыкивали, доярки хохотали, Домна ревела и пыталась дотянуться до Тимки, Тимка молил:
— Бабоньки, вы чего?.. Я же — ничего… ей-богу, ничего не сделал… он у меня не влез…
— Правда-правда, — сквозь хохот подтвердила Аннушка, опознав вредителя. — Поверьте мне… Эта механизма ни в каком состоянии никуда не влезет…
— Так уж и никуда? — справедливо усомнилась Домна, притормозив свои догонялки…
— Ну, тут им сразу стало любопытно, — бахвалился перед нами Тимка, — и они перестали меня убивать, а стали совсем наоборот… — Тимка прижмурился самодовольным котярой и вроде даже замурчал.
— Что — наоборот? — Мешок пытался вернуть Тимку из сладостных воспоминаний обратно к нам.
— Ты еще маленький, — хохотнул Тимка. — Подрастешь — расскажу.
— Да ну тебя, — отмахнулся Серега. — Брешешь, как всегда.
Врал Тимка или не врал, но с того дня он частенько захаживал на молочную ферму, чтобы, по его словам, “молочком побаловаться и вообще…”.
Нам за Тимкой никак было не угнаться. Хотя бы уже потому, что он, в отличие от нас, предпочитал не подходящих себе по возрасту девиц, а вполне взрослых барышень, и более того — замужних.
— Меньше хлопот и мороки, — снисходительно объяснял он. — А главное — всяких радостных неприятностей.
Событие, на которое намекал Тимка, случилось в каникулы после восьмого класса. При школе организовали летний трудовой оздоровительный лагерь, куда позаписали всех поголовно, потому что за работу воспитателями в этом лагере нашим учителям платили еще одну зарплату. Довольно скоро установилось взаимовыгодное равновесие: мы приходили с утра на школьный двор и после линейки с разными правильными словами куда-нибудь исчезали, или не исчезали, а вместе с остальными солагерниками отправлялись на озеро, или сначала исчезали, а потом уже приходили на озеро. Лагерь не мешал нам отдыхать, а мы не особо мешали учителям в их дополнительном заработке. Иногда даже соглашались пару часов чего-нибудь пополоть на колхозном поле. Бывало, приходили в лагерь ко времени обеда, но чаще игнорировали и его — очень долго да еще и строем: строем ждать своей очереди перед поселковой столовой, где нас кормили, строем в столовую и даже есть — тоже строем и по командам.
В успехе всего этого придуманного учителями мероприятия отчитывались колхозными благодарностями, доказывающими исполнение лагерем его необходимой трудовой составляющей, и приростом живого веса лагерников, который был единственным показателем оздоровления школьников. На первом месте по приросту и оздоровлению красовались две девятиклассницы, но ближе в зиму открылась, по словам директора, “радостная неприятность” — девятиклассницы были беременны. Скандал кое-как замяли, хотя девицы так и не выдали “паскудника, который своей безмозглой головкой покусился на святое — на труд и здоровье всего подрастающего поколения”. Директор имел в виду светлую идею летнего школьного лагеря, который так больше и не открывался. Тимка недоумевал, причем здесь трудовой лагерь, если вся эта невезуха приключилась еще до летнего лагеря, во время учебного года, и с той поры он почти полностью переключился на взрослых барышень в немалой степени и потому, что им хватало ума, так недостающего его безмозглой головке…
К концу девятого класса Тимка довольно плотно пристроился к роскошной Татьяне, недавно радостно выскочившей замуж, необыкновенно расцветшей за короткое время счастливого супружества и практически овдовевшей при все еще живом муже. Ее муж Проша работал инженером на яновском спиртзаводе и был, наверное, единственным непьющим мужчиной во всей нашей округе. Несмотря на Прошину оголтелую страсть к изобретательству, все женщины поселка тыкали его примером в хмельные зенки своим мужьям и, может быть, этим и сглазили.
Проша изобрел какой-то чудо-агрегат для родного завода, но там его похвалили-пожурили и посоветовали не забивать ни свою, ни их руководящие головы всякой чепухой, а работать по утвержденной еще более умными головами технологии. Проша обиделся и усовершенствовал свое изобретение до портативного самогонного аппарата, выдающего чистейший продукт всего с одной перегонки и независимо от той дряни, из которой этот продукт производился.
Народ изобретение принял. “Чистый огонь”, — одобрительно похваливали земляки получаемый напиток и тиражировали Прошин аппарат с невиданной скоростью. Дядя Саша сбился с ног и сорвал голос, рапортуя по инстанциям о чрезвычайной ситуации. Прошу вызвали на партком завода, где на него кричали и топали ногами за то, что он похитил и передал в темные народные массы изобретение завтрашнего дня, безраздельно принадлежащее заводу, потому что в его лоне и было изобретено. Проша бледнел, спорил, не соглашался, кричал и переволновал свою голову так, что в ней что-то взорвалось. Проша упал практически замертво, избежав этим разных неприятностей, загодя заготовленных парткомом в уже напечатанном решении.
В больнице Баканов сказал загадочное слово “инсульт” и беспомощно развел руками. Татьяна свозила мужа в больницу районного центра, потом областного и в конце концов привезла домой, где он с тех пор и лежал, прикованный к недавно еще их общей счастливой кровати.
Татьяна с горя пристроила к делу мужнино изобретение и каждый день пила с ним на пару, всхлипывая под Прошино мычание.
— Вы его убиваете, — пытался образумить ее Баканов. — Вы разрушаете его печень.
— А зачем она ему? — хмельно отмахивалась от доктора Татьяна.
Вот к ней и повадился шастать Тимка.
“Явился орелик”, — хмуро встречала Татьяна своего малолетнего хахаля и сторонилась от двери, давая тому пройти в дом. Там они сначала поили из чайной ложки Прошу продуктом от его чудо-агрегата и уединялись по своим делам, а Проша начинал так сильно мычать и стенать, что не оставалось уже никаких сомнений в стремительном и смертельном разрушении его печени, а может, и еще чего-то в придачу.
Потом Татьяна принималась рыдать, и Тимка ушмыгивал, как нашкодивший котяра, но все равно — довольно мурча…
Нет, нам за ним никак было не поспеть.
В это время Мешок пристрастился к чтению до-не-оторвать и глотал книгу за книгой с невероятной скоростью без какой-либо вразумительной системы, объясняющей его книжные пристрастия. Клавдяванна очень боялась, что он наживет себе с этих книг какую-нибудь неизлечимую хворобу, однако терпела и жаловалась на Мишку одному только Богу, но и тому так, чтобы внук не слышал. Да он бы и не услышал — ему было не до бабкиных глупых страхов.
Мешок все более уверялся в давней догадке, что жизнь на земле идет по написанному в книгах. Слово и вообще таит в себе мощную силу для сотворения чего угодно (так и в бабкиной Библии говорится), но в словах, написанных в книге… в самой книге — этой силы немерено… В общем, жизнь только и делает, что повторяет и на всякие лады прокручивает одни и те же книжные сюжеты. Чем талантливей книга — тем больше у нее шансов конструировать жизнь по себе. Как в театре века напролет ставят и ставят давно известные пьесы, так и жизнь бесконечно прокручивает и проигрывает сюжеты бессмертных книг.
Мешок понять не мог, почему появляются бессмысленные книги и — хуже того — даже бессюжетные. Это ведь грозит разрушением жизни. Единственная надежда — на то, что такие книги, как правило, практически бесталанны и только малая часть мира перелепливается по написанному там.
Жизнь, по разумению Мешка, всего лишь податливая глина, из которой по придуманному в книгах создается весь Божий мир. А сверх того — по подсказкам всех таких Божьих разведчиков, как и сам Мешок. Ну и еще по фантазиям ученых, что придумывают всякие открытия про правильное устройство мира. Не открывают, а именно — выдумывают, и мир соглашается на такое свое устройство. Хитрость в том, что нельзя ничего отменить из ранее нафантазированного, когда глина жизни вылепилась и затвердела в указанной придумке. Далее можно только добавлять, уточнять, придумывать другое, чтобы все старые построения сохранялись и включались в новую конструкцию. Наверное, хорошо было на заре времен, когда всякие пифагоры фантазировали свои открытия в почти пустом еще мире и тот с легкостью подстраивался к придуманным для него правилам. А сейчас все труднее насочинять что-то новое, потому что новое все время норовит залезть и порушить уже готовое, а надо не рушить, а как-то втиснуться в существующие законы, по которым слепился весь этот Божий мир. Точно так и собственные желания и заказы Мешка все время сдвигают что-нибудь уже созданное в мире, и поэтому с его пожеланиями случаются всякие неприятности.
Тетрадку свою Мешок доставал очень редко, решив, что сначала надо разобраться в том, как устроена вся наша жизнь, а уже потом улучшать ее и делать более правильной и справедливой. Тем не менее кое-что Мешок все-таки понатворил.
На его совести страдания знакомого соседского кабана по прозвищу Медмедь, которого Мешок три дня спасал от зарезания, и Медмедь за это время так озверел и одичал, что никто уже и не решался приблизиться к нему с ножом за голенищем. Все это время кабан ревел и носился по своему и чужим участкам, а за ним еле поспевали хозяева, тоже изрядно озверевшие. В конце концов Мешок позволил исхудавшего кабана пристрелить, зарывшись головой в подушку, чтобы не слышать того выстрела.
Потом Мешок, по обыкновению, притих, как и после всех своих обломов, но ранней весной порадовал и нас, семиклассников, и весь советский народ, сделав выходными 9 мая и 8 марта. В середине восьмого, разузнав все про Нобелевскую премию, он (как оказалось, вместе с Жан-Полем Сартром) организовал эту небывалую радость Шолохову, зачарованный “Тихим Доном”, который, например, мы с Серегой к тому времени еще не осилили. Чуть позже, когда Мешок у меня дома пристрастился сам и приохотил меня ловить всякие вражеские голоса по пережившему моего отца старому отцову приемнику, его очень беспокоило соображение, что нобелевка, устроенная им, очень даже могла быть Шолоховым и не заслужена. Впрочем, он же все это делал не для Шолохова, а для книги, кто бы ее ни написал, а книга, по убеждению Мешка, стоила любой премии. Она приручала беспорядочную жизнь к верности — верности близким, любимым, долгу, Родине, несмотря на то что все это вместе невозможно совместить даже в разрывающемся сердце…
Мешок быстро и здорово умнел, но никто из нас этого не замечал, потому что ум человека можно обнаружить не в ответах его на какие-нибудь сложные и каверзные вопросы, а в самих вопросах, но Мешок спрашивать стеснялся, предпочитая помалкивать, а если и спрашивал, то мы от его вопросов привычно отмахивались. Да и не было нам дела до его ума. Мы любили его не за ум, а просто так — до гроба, как и он нас…
А Серега все это время оголтело бунтовал. Прежнее его упрямое сопротивление любым требованиям учителей и домашних выглядело теперь безропотным послушанием паймальчика. Сейчас на любое такое требование и вообще на любое неодобрение взрослых он мог в ответ каждого этого недовольного запросто и подробно послать, куда считал правильным, а неодобрение всех других — даже почудившееся ему неодобрение — тут же встречало куда более болезненный отпор.
Серега освоил несколько убойных ударов и использовал их без какого-либо вступительного предупреждения, к несказанному удивлению подвернувшегося под удар бедолаги. Александр Иванович только качал головой, отдавая в очередной раз Серегу с рук на руки Степану Сергеевичу, и предрекал юному хулигану беспросветное будущее.
Серега отмахивался от мрачных предсказаний и вырывался из любых пут, которые ему навязывали, не особо беспокоясь по поводу того, куда именно можно из этих всеобщих пут вырваться.
— Если бы не я и мои связи, ты бы уже давно в колонии гнил, — орал на него отец.
— А ты хотел бы, чтобы я гнил рядом с тобой и как ты? — встречно орал Серега, а потом хлопал дверью и убегал прочь.
Он все время стремился прочь, отовсюду, из любой уготовленной для человека судьбы — на самый край жизни…
То была пора новых обретений, которые караулили нас каждым завтрашним днем, но это было и время безвозвратных потерь. Никогда больше мы уже не будем лето напролет бегать босиком по желтым песчаным тропинкам, протоптанным в зеленой траве. А мы же не просто бегали — бессмысленно и бестолково. Мы начинали ветер.
У каждого малька был диск — плоский железный диск не больше колеса детской коляски. Похоже, что все эти диски и все нужное нам и миру для жизни и ветра слеталось к нам со всевозможной сельхозтехники… В общем, ветры, конечно, бывают разные, но описываемый — самый первый из них. Необходимые приспособления, кроме диска, — крепкая проволока, изогнутая клюшкой, да босые пятки, на которых удобнее всего с поворотами, торможениями и новыми рывками вперед. А потом поглубже вздохнуть, аккуратненько крутануть диск в пальцах, вонзая его ребром в землю, и тут вот, предварительно завопив, подхватить, подставить к крутящемуся ребру полоску проволоки — и вперед, мчать, крутить по петляющей плотной тропинке и еще быстрее — еле успевая пятками, и — перевести дыхание, и можно замолчать, потому что теперь уже проводка с диском продолжают твой вопль, но продолжают в самой нужной тональности — вз-ж-зж-ж-зж…. И вот тут-то появляется ветер, и можно больше не вопить, а только подсвистывать, удерживая его, поспевая пятками… Какой это был ветер! С него начинались и все остальные: самокатные, велосипедные, потом и верховые — каждый следующий подхватывал и поднимал выше тот самый первый, что возникал скольжением диска по проволоке, звуком пчелы, промельком босых пяток, — поднимал выше, подхватывал надежнее, ласкал уже не только босые ноги, но и лица и волосы, пока не добирался к ветвям и не подхватывался ими, теперь уже удерживаемый так прочно, что нам можно было не беспокоиться целую ночь, когда уже нет никакой возможности мелькать босыми пятками по золотым тропинкам.
Все это утрачено уже навсегда. Да ладно бы только это, хотя тоже — жалко…
Мы чувствовали, что за какие-то будущие обретения нам, вполне возможно, придется расплачиваться утратой нашей общей жизни вчетвером, и, заговаривая завтрашний день от такой возмутительной несправедливости, старались сегодня совсем не расставаться без какой-либо сильной надобности. Поэтому и на танцы мы, как правило, ходили все вместе.
Танцы начались для нас регулярным развлечением к концу восьмого класса, хотя собственно танцевать мы не очень любили, а, например, Мешок так и не умел вовсе. Развлечения были вокруг танцев, и началом их обязательно был легкий выпивон, а окончанием — драка. Выпивон чаще всего обеспечивал Тимка: в первое время — сильным напряжением всех своих коммерческих талантов и позже — благодаря знакомству с Татьяной и чудо-агрегатом ее несчастного мужа, а драку надежно гарантировал Серегин нрав. В промежутке могли быть и сами танцы.
Бывало, и Серега не мог зацепить свою всегда готовую ярость для начала потасовки — все-таки в поселке все мы были в какой-то степени свои. При такой непрухе после окончания танцев мы иногда отправлялись в какую-нибудь близкую деревню, где танцы под проигрыватель продолжались до часу ночи, и там уже мордобой всегда был обеспечен.
В присутствии барышень никаких безобразий не позволялось — даже материться считалось неправильным, и потому любые разговоры были вялыми и маловразумительными. Радиола поскрипывала, неуклюжие пары обжимались, слегка перетаптываясь, — ничего особо интересного. Интересное начиналось после танцев, когда поселковый кавалер, проводив свою местную партнершу до ее хаты, бросался уносить ноги. Это были соревнования быстроты, находчивости, отваги, дерзости и удачи.
Мы отточили свою особую “танцевальную” тактику для таких деревенских балов. Все вчетвером не спеша провожали своих спутниц одну за другой по их домам, а потом оборачивались к караулящим рядом ревностным хранителям местной девичей чистоты, даже и не думая пускаться в бега. Дальше по заведенному от прадедов сценарию местные выходили, окружали, матерились, поплевывали и распаляли себя разнообразными “вы тут чего это” и “вам тут не у себя”. Потом должна была наступить партия толчков в грудь, и только после начиналась основная музыка с треском выдергиваемых из заборов кольев и пыхтящими ударами под однообразные матюки.
Однако Серега плевал на все традиции (что было, пожалуй, самым оскорбительным для обстоятельных деревенских парней) и бил с ходу, не дожидаясь окончания положенной увертюры. Бил наповал любого, кто наиболее удобно располагался под руку. Этот первый успех бросался развивать Тимка, вступая в драку тоже не по-правильному — ударом ноги чуть пониже колена заранее выбранному из еще не нападавших нападающих. Потом Тимка крутился вьюном, орал, молотил руками и ногами, падал с криком “лежачего не бить”, зашибал кого-нибудь своим башмаком снизу и снова вскакивал на ноги. Я отчаянно трусил и полноценно вступал в драку, только схлопотав полновесную звездюлину. Мешок, не обращая внимания на пинки и удары, заграбастывал кого-нибудь своими мощными лапами и сжимал, приговаривая “зачем же драться”, “не надо драться”, сжимал до мольбы о пощаде, щадил, отбрасывал на землю, прихватывал следующего…
Иногда наша тактика не срабатывала. Оглядываемся, например, а Тимки нету, и совсем нетрудно догадаться, где этого блудливого кота сейчас носит.
— Дообжимался, — ворчал Серега и с криком “Тимка-сволочь, где ты?” все равно бил первым, когда еще только-только вяло начиналась прелюдия к будущей потасовке.
В какой-то момент прибегал и Тимка — довольный, орущий, молотил всех и вся, стараясь закончить все побыстрей, чтобы снова сбечь, уверяя нас, что всего на минуточку.
Однажды драка рассосалась без остатка в самом зародыше, потому что заводилой у деревенских парней оказался совсем взрослый хлопец, который учился у моей матушки в вечерней школе. Он предложил вынести нам самогона и выпить мировую, но ничего не успел. Налетевший Тимка, не разобравшись в ситуации, вырубил его с ходу и даже успел нехило попинать, прежде чем мы смогли вмешаться…
Эти драчки были нам много милее мордобоев в поселке, потому что сюда дядя Саша, как правило, не приезжал, и можно было резвиться от души, а в поселке мало-мальски крупная стычка если не рассыпалась в пять-десять минут, то всегда заканчивалась в милицейской избе участкового.
В общем, танцы понемногу стали нашим необходимым занятием, пока однажды не закончились показательным судом…
— “Показательный суд” — это кино такое?
— Тимоха, ты с дерева упал?
Мы стояли перед клубной афишей, на которой киномеханик Семен менял, как правило, только число и название фильма, а все остальное оставалось постоянным, и даже надпись “новый цветной художественный фильм”, намалеванная незнамо когда, выцветала себе из года в год перед любым дописанным к ней фильмом независимо от того, был или не был он и на самом деле новым, или цветным, или особо художественным (ручаюсь, что перед фильмом “Поездка Председателя (ла-ла-ла)… Хрущева в Соединенные Штаты Америки” так и стояло: “новый-цветной-художественный”). В ответ на наши ехидные подколы по этому поводу Семен пускался в неторопливые философские рассуждения, склонность к которым у него возрастала от одного стаканчика дешевенького портвешка к другому (как, впрочем, и у всех киномехаников, сапожников и сельских учителей астрономии).
— Сколько раз ни смотришь одну и ту же фильму (мне больше всего нравилось это его фирменное “фильма”), каждый раз увидишь что-нибудь новое.
— А цветной? Почему всегда цветной? — не унимался какой-нибудь особо въедливый ниспровергатель.
— Когда вспоминаешь любую фильму, — откровенничал Семен, — она всегда вспоминается в красках… если, конечно, у тебя хватает воображения…
Сейчас наше воображение было растрепано напрочь.
В густеющих сумерках последней августовской субботы мы стояли перед холстом клубной афиши. В самом верху ее было указано завтрашнее число и место действия — поселковый ДК. Чуть ниже сквозь свежую краску можно было разобрать извечное “новый-цветной-художественный”. Еще ниже, крупными черными буквами с красной окантовкой: “показательный суд. Начало в 11–00”. И на нижней половине холста то же, что и вчера: “танцы, начало в 19–00”…
— Доплясались, балбесы, — незлобно бросил участковый Александр Иванович, проходя мимо нас к клубу.
— Проверять пошел — заелозил, — прокомментировал появление Иваныча Серега.
— Ему-то чего елозить? Он вроде ни перед кем…
— Это он перед нами форсит… Доплясались ему… А вот Пашка с Генкой сдрыснут завтра с этого очага культуры — тогда он сам попляшет. Не тюрьма же — отсюда слинять с одного плевка…
— Куда им линять? Кино тебе тут, что ли?..
— Лишь бы Серегу к этому кино не прихомутали, — озвучил Мешок то, о чем мы пока что помалкивали.
Серега не отозвался.
Уже вовсю гудела открытая танцплощадка за клубом, но сегодня этот гудеж не будоражил, а угнетал.
Чуть больше двух месяцев назад почти у этого же места начинался тот новый, цветной, художественный, который обещала нам на завтра свежая афиша.
Каникулы были едва распечатаны, и лето только готовило все свои таинственные дары. Танцы переехали из душного клуба на открытую площадку, и было интересно наблюдать, как в меру цветастое (но в основном темно-белое) поселковое многолюдье стекалось к клубу, уплывало тонким ручейком к танцплощадке, набухало возле нее и перетекало обратно; парней уносило в соседнюю улицу, которая прямиком вела к единственному ресторану (он же столовая) и двум продмагам, а потом они, загруженные и нагруженные портвешком или плодово-ягодным, возвращались обратно и опять — все более шумно — перетекали “к” и “от” танцплощадки, постепенно все-таки перемещаясь туда, а вокруг становилось темно и тихо — весь свет и звон теперь только там…
Но все эти движения были пока в самом начале, еще и оркестранты не появились в открытой беседке, а только запустили музыку с магнитофона, чуть слышную оттуда, с другой стороны клуба. Молодой поселковый люд неспешно собирался, приветствовал друг друга, всматривался — кто с кем и кто в чем. Барышни скромно помалкивали рядом со своими парнями (ничего, они отыграются позже и за эту вынужденную молчаливость, и за эту необходимую скромность), а если барышни шли без парней — они быстренько прошмыгивали мимо и прямо к танцплощадке.
Тимка с Серегой отправили своих подружек туда же, и мы раскручивали по-взрослому основательного Генку на бутылку какого-нибудь пойла. Генка был старше нас на два года и работал в Сельхозтехнике, а точнее, болтался там на каких-то работах в ожидании призыва. Пашка из параллельного класса балагурил нам в помощь.
— Сегодня завезли такой портвейн! Не портвейн, а нектар. Ген, ты когда-нибудь пробовал нектар? Ва-аль, — теребил Пашка Генкину подружку, гордую уважительным вниманием к своему спутнику, — прикажи ему, и я тут же доставлю этот нектар прямо к столу.
— Подрасти сначала. — Генка похлопал маленького Пашку по темечку.
— Я расту всем вам на зависть и там, где всего нужнее…
Под общий одобрительный хохот Пашка норовил показать всем и сразу, как он растет, если только Валя позволит.
Пунцовая Валя не знала, как увести разговор от смущающей ее темы, и уцепилась за первую же подвернувшуюся под руку возможность. А под руку подвернулся высокомерный гаденыш Дубовец. Год назад он окончил нашу же школу и точнехонько нашел применение своей природной и фамильной дубоватости, поступив в военное училище, а сейчас, оттарабанив первый курс, фланировал по поселку, что твой генерал…
— И че Маруська нашла в этом воображале? — переключила Валя всех нас на курсанта.
Шебутной Пашка тут же принял пас.
— Ма-арусь, — приостановил он проплывающую пару, — бросай этот сапог и давай к нам…
Маруська фыркнула, а Дубовец хорошо поставленным голосом (не зря все-таки его там дрессировали целый год) сообщил нам, что все мы — дерьмо подзаборное и всю жизнь будем в этой деревне дерьмо месить, а когда попадем под его начало в армию, то будем там все дни напролет то же дерьмо месить на плацу…