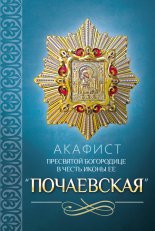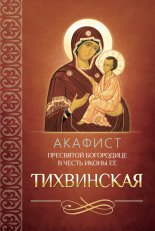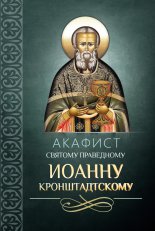Господи, сделай так… Ним Наум

Но на следующий день мы с Сашкой снова играли вместе, потому что при всех наших ссорах мы все равно были с ним друзья-товарищи — соседи, с одной улицы, свои…
Другое дело — та сторона.
А совсем скоро я стал довольно часто бывать на той стороне, с каждым разом все более и более высвобождаясь из привычной опасливой настороженности. Ходил я домой к Тимке из нашего второго “б” класса, которого, несмотря на то что он был Тимкой, правильно звали вовсе не Тимофеем, а совсем даже Вовкой. Новое имя ему досталось благодаря его же захлебывающимся россказням. Он почти полностью уверил всех нас, что видит в темноте не хуже, чем при свете, а самое главное в его выдумках там, в темноте, и происходило. Начало очередного рассказа всегда было однообразно, как в сказке:
“Привела, знач-т, мамка этого дядьку… То-се, трали-вали… Я делаю вид, что сплю. Тут они свет выключают — и на кровать. Ти-има вокруг!.. А я-то вижу. А там такое…”
Вот из-за этого протяжного “ти-има” Вовка и стал Тимой, а уж видел он на самом деле в темноте или не видел — этого точно установить пока что никто не мог, но подробные пересказы того, что он, по его словам, видел, вызывали некоторые сомнения в его правдивости. С какой бы это радости нормальные с виду люди вытворяли над собой такие издевательства? Впрочем, многое объяснялось тем, что все они были с той стороны…
Впервые Тимкину родительницу я рассмотрел, когда пришел к приятелю в самом начале зимних каникул. Веселая и ослепительная женщина была совсем не похожа на угрюмую тетку, с которой я иногда сталкивался на улице, и уж совсем было не похоже, чтобы каждую ночь ее так вот мордовали, как рассказывал нам Тимка.
— Ты к Вовке? Проходи-проходи… Мальчики, я сбегаю на ту сторону и принесу вам чего-нибудь вкусненького, а вы тут ведите себя хорошо…
Я сразу понял, что она, как говорится, ку-ку, и почти поверил выдумкам Тимы. На ту сторону она сбегает! Как это можно сбегать на ту сторону, если ты уже на той стороне?
Я откуда-то знал, что с такими странными людьми лучше не спорить, и промолчал, а когда вошел в горницу — так и совсем онемел. У них там заместо елки стояла разнаряженная сосна. Это же ни в какие ворота! Это все равно что Бабу-ягу обрядить в Деда Мороза…
Справедливости ради надо признать, что на школьных утренниках примерно так и было, когда старшая пионервожатая в дедморозовской шубе топотала свои опостылевшие хороводы. В первом классе, когда я еще надеялся, что и вправду к нам сюда пришел настоящий Дед Мороз, Витька Шидловский подергал его за рукав красной шубы и спросил, кто главнее — он или Дорогой Никита Сергеевич? Тут-то все и раскрылось. Пионервожатая Таисия орала, отплевывая белые усы, а мы мигом шуганули прочь, подбирая конфеты из разрывающихся в давке подарочных кульков. Теперь-то я знаю, что никаких Дедов Морозов на самом деле нет, по крайней мере у нас. Где-то в Москве, может, и есть: там же самая главная елка в стране — туда он и приходит. Ну так и там елка, а не сосна.
Тимкина мама перед уходом разрешила нам полакомиться карамельками с новогодней сосны (“Смотрите не объешьтесь”), а за это мы должны будем помочь ей развесить новые конфеты, когда она их принесет (“Только фольгу не рвите — мы в нее завернем другие”).
В общем, если присмотреться, то сосна ничем даже и не хуже елки…
Но все равно весь этот замечательный день закончился невероятным безобразием…
На задах Тимкиного переулка земля проваливалась в глубокий овраг, и на его животе была оборудована великолепная горка, а над ней — на здоровенной раскоряченной сосне — еще более великолепные качели: доска на замерзшей в ледяной трос веревке взлетала прямо в небо, чуть ли не выше самой сосны и ух как высоко над нетронутыми сугробами, сторожившими четкую лыжню на дне крутого оврага. Мы по очереди раскачивались на качелях и сигали в сугроб внизу — кто дальше, а потом снова карабкались к сосне и неторопливо выбивали снег из валенок, примериваясь к сладостному ужасу следующего прыжка.
Когда мы вскарабкались очередной раз, нас окружили здоровенные парни — может, даже семиклассники, а может, и постарше.
— Что-то мелюзга совсем оборзела…
— Как вы (мать… ля…мать…) посмели порушить лыжню?
Я тяжело дышал, пар пер от меня во все стороны, и на то, чтобы очень сильно испугаться, у меня просто не было сил. Но и в таком виде я понимал, что претензии нависшей над нами стаи были в основном справедливые. Лыжню, специально выбитую к аккуратному трамплину, мы истоптали в полную непригодность. Кроме того, все они были на своей стороне, и по извечным правилам жизни даже и безо всякой лыжни им полагалось гнать меня взашей и от своих качелей, и от своей горки.
Мне следовало немедленно тикать во весь дух, но сейчас и на это не было сил.
— Ты, Вован, чеши домой, а этому (мать… ля… хатому…) мы сейчас будем зубы выправлять.
(И этим моя щербатость мешает.)
— Давай, как я. — Тимка подкатился под ноги самому здоровенному дылде, сбил его и вместе с собой покатил в овраг.
Я прыгнул следом, а за нами посыпались остальные. Тимкин план отступления был самым дурацким из всех возможных, потому что мы завязли в глубоком снегу, и все преимущества нашего неожиданного рывка сразу же сошли на нет. Нам навесили звездюлей по самые макушки, затолкали вниз головами в сугроб, до крови ободрали льдистой снежной коркой носы и уши и оставили на истоптанном снегу, унеся с собой в виде трофея Тимкин валенок. Они нацепили этот валенок на палку и шли, размахивая им, будто победным знаменем.
Вот это было неправильно. Всем известно, что бить и изничтожать можно у человека только то, что принадлежит ему целиком. Вот, например, наши физиономии — они целиком наши, их и бейте, если можете, а валенки и другая одежка — это все не совсем наше, а скорее родительское, и это все нельзя не то чтобы забрать, но даже рвать или как-то еще портить, за чем, разумеется, в драке уследить трудно, и именно поэтому приходится иногда признавать некоторую справедливость родительских затрещин вдогон полученным в мальчишеской сваре.
Я прикладывал снег к расквашенному носу, а Тимка тихо и задушевно матерился. Голова кружилась, и яркие капли крови на снегу казались удивительно красивыми.
— Смотри, как здорово, — позвал я Тимку полюбоваться и полежать рядом со мной в этой красоте.
— Это еще не здорово — здорово еще будет, — прошипел Тимка. Глаза его косили, и смотреть в них было неприятно. — Вставай, чего разлегся?
Мы обмотали его ногу моим шарфом и полезли к засветившимся уже окнам нависших над оврагом домишек. По дороге Тимка подобрал здоровенный дрын и потащил меня дальше мимо незнакомых заборов неведомо куда. Наконец он остановился у какого-то дома, шибанул ногой завизжавшую калитку и протопал на крыльцо. Дверь была заперта, и Тимка затарабанил в окно.
— Выходи, Соловей, я тебе что-то спою…
— А ну марш отсюда, паршивцы! — заорал, выходя на крыльцо, Соловьев-старший, здоровенный, неровно бритый мужик.
— Пусть твой непаршивец валенок вернет.
Тимка топнул разутой ногой.
— В овраге валяется твой валенок. — Соловей-младший выглядывал из-за спины отца. — Иди и ищи…
— Пусть он сам найдет и принесет мой валенок! — заорал Тимка. — Откуда я знаю, куда он его выбросил?
— Какой валенок? — встречно загремел главный Соловьев. — Пошли вон отсюда!..
— Ах, гады!.. Вот вам!..
Тимка попробовал достать дрыном своего обидчика, но тот увернулся, и удар пришелся по боку его отца. Тот не успел еще ничего сделать, а Тимка размахнулся снова и саданул по звонко лопнувшему окну.
Это было совсем неправильно. Это даже хуже, чем валенок…
Нас схватили за шивороты и трясли, как нашкодивших котят, а мы только мявчили что-то, захлебываясь страхом и невольными слезами. Может быть, нас бы и прибили там вконец, но к дому притарахтел мотоцикл, и дядя Саша остановил самодельную экзекуцию, взяв дело расправы в свои властные руки.
Непонятно, откуда дядя Саша узнавал про всякие происшествия, но, как правило, он успевал появляться в самый разгар очередного безобразия. По-правильному его звали Александр Иванович Бураков — наш единственный поселковый милиционер, неотделимый от своего трофейного мотоцикла с коляской: то он едет на мотоцикле, то ремонтирует его у себя во дворе за открытыми настежь воротами, то поглядывает на него из-за решетчатого окна милицейской избы. Дядю Сашу в поселке уважали все, но все равно боялись и предпочитали держаться подальше, несмотря на всю его общеизвестную справедливость, честность и мудрость. Мы, например, никогда не решались трясти яблоки в его саду, и они там вырастали в невероятных количествах, ломая ветки и падая бесполезно на землю. Дядя Саша вздыхал и часто сам угощал нас своими яблоками, но и после этого никто не осмеливался забраться в его сад. Дядя Саша ведь всегда был, как говорится, при исполнении — всегда в сверкающих сапогах, в синих галифе и красивом синем кителе с капитанскими погонами и тремя рядами орденских планок (только весной и осенью надевал он сверху вечного кителя защитную плащ-палатку, а зимой — овчинный полушубок).
— Так-так, — постучал носком сапога в колесо мотоцикла дядя Саша. — Малолетних бузотеров я забираю, а взрослых прошу самостоятельно явиться ко мне в отделение.
Мы с Тимкой устроились в коляске мотоцикла, а Соловей — на заднем сиденье. Если бы не слабость и колыхающаяся волнами снежная дорога, то я бы, наверное, был абсолютно счастлив, но и так я не сомневался, что мне завидуют все-все, кто только меня сейчас видит.
— Бандитов споймал? — проворчал милицейский сторож и истопник Шидловский, однорукий и кособокий мужик, известный в поселке своими бесконечными запоями и ежегодно рождающимися детьми, общее количество которых он, пожалуй, и не представлял. — Герой какой — один троих бандитов зарестовал…
— Ты печь растопи и проветри здесь — ишь, надымил…
По мнению учителей, родителей и прочих взрослых, семейства Шидловских следовало всячески сторониться. Но сторониться их никак не получалось. Жили они в соседнем от меня переулке, и по своей многочисленности кто-то из них всегда оказывался участником любой игры и любого более предосудительного начинания. Да и в любом классе был кто-то из Шидловских, а значит, сразу же рядом оказывались и другие их братья и сестры, и своей шумной, дружной и веселой бесшабашностью они мигом испаряли в ничто любые предостережения ничего не понимающих взрослых. Правда, самого главу семейства мы все побаивались. Особенно когда он, сильно пьяный, шатался бессмысленно по улицам и орал военные песни. Иногда он не мог даже добраться домой и затихал под чьим-то забором, и тогда очень быстро за ним прибегала его замученная маленькая жена с кем-нибудь из детей, грузили его на старую тачку и везли домой, нисколько не смущаясь осуждающих взглядов из-за заборов. И это было замечательное зрелище, потому что на тачке отец семейства просыпался и начинал горланить очередную песню, и тут же ее подхватывала его жена, а пела она так здорово, что сам Шидловский замолкал и только мычал и жмурился от удовольствия, непослушной рукой дирижируя пением жены и движением колесницы.
На прошлые ноябрьские, когда всю школу с портретами и плакатами вывели на праздничный митинг, я впервые увидел Шидловского абсолютно трезвым. Поселковые начальники вместе с нашим директором стояли на трибуне и что-то торжественное говорили по очереди в свистящий микрофон. Рядом с трибуной был дядя Саша в сияющем кителе, на котором по случаю митинга сверкали вместо колодок самые настоящие ордена и медали. Мы все стояли перед трибуной, заполняя весь пятачок, откуда расходились в разные стороны четыре основные улицы, а где-то за заборами суетилась малышня, не допущенная по малолетству и неразумности к участию в торжественном событии. Раньше и я был среди них, пытаясь через щели забора рассмотреть, чем же таким интересным собрали на главном поселковом перекрестке всех наших людей, в праздничных одеждах немного не похожих на самих себя. Сейчас я впервые оказался участником митинга и вертел башкой во все стороны, стараясь разгадать ту же загадку.
Шидловский появился рядом с трибуной и тоже был не совсем похожий на себя. На его густой седой шевелюре торчала блеклая пилотка, а на заштопанной излинявшей гимнастерке сверкали военные награды, которых было, может, и не меньше, чем у дяди Саши. Даже сапоги у него были начищены не хуже, чем у дяди Саши. Но дядя Саша все равно глядел на него с явным осуждением. Он даже поправил свой ремень с кобурой и что-то непонятное показал рукой. Я не отрывал глаз от них и видел, как Шидловский ему подмигнул — нагло и весело.
В руке у Шидловского был портрет Сталина в военном мундире с золотыми погонами. Ни у кого больше такого портрета не было. Над нами колыхались какие-то толстые лица, из которых знакомым было только лицо Никиты Сергеевича. Портрет Шидловского был сделан на совесть — на крепкой ручке и в мощной раме. Неожиданно Шидловский углом своего портрета тюкнул в ближайшее изображение Никиты Сергеевича, пробив в его лбу рваную дыру. “Бей Хруща!” — заорал Шидловский и тюкнул по второму портрету.
Больше тюкнуть он не успел. Раньше, чем люди вокруг в полную силу возмутились, дядя Саша ловко заломил Шидловскому руку и увел с собой, унося в свободной руке сталинский портрет. Дядьки на трибуне делали вид, что ничего не случилось, и только один помахал, чтобы порванные портреты не выставляли над головами, а убрали куда-нибудь с глаз долой.
Недалеко от меня испуганно перешептывались многочисленные Шидловские, договариваясь после окончания митинга идти смотреть, как их папку будут допрашивать в милиции. Я увязался с ними, и через какой-то час мы буквально облепили окна милицейской избы, разглядывая две сгорбленные спины — в кителе и гимнастерке — и вслушиваясь через открытую форточку в невнятные голоса.
— Говно твой лысый, — в два раза выдохнул Шидловский, наливая водку в стакан.
— А твой усатый — вообще сука, — отозвался дядя Саша, звякнув орденами.
Портрет Сталина стоял в углу, а сам он, слегка прищурившись, очень даже неодобрительно смотрел прямо на нас. Потом дядя Саша обернулся к окну, и у него было такое незнакомое лицо, что мы враз бросились врассыпную.
Наверное, я на какое-то время куда-то провалился, потому что, когда я открыл глаза, в комнате милицейского отделения галдела куча народу. Мама Тимки о чем-то ругалась с моей, а родители Соловья наседали на дядю Сашу.
— Все! Тишина, — скомандовал Александр Иванович. — Я вижу, что каждый здесь хочет немедленно расправиться со своими обидчиками. Сейчас я вас помирю. Ты, — он тыкнул пальцем в Тимку, — хочешь расквитаться за отобранный валенок. Сейчас ты подойдешь и со всей силы ударишь младшего Соловьева. Согласен?
Тимка сглотнул и кивнул.
— Потом ты, — он указал на Соловьева-старшего, — как и собирался, оторвешь ему голову за разбитое окно. Правильно? А потом я тебя арестую и посажу за избиение ребенка. И все будет по справедливости. Вот только окно останется разбитым и валенки от этого не появятся.
Все притихли и недоуменно смотрели на дядю Сашу.
— А можно по-другому, — продолжил тот. — Ты, — он указывал на Тимкину маму, — вставишь разбитое стекло, а ты купишь валенки, ну а со своими детьми каждый разберется сам.
— Сам вставлю, — пробурчал Соловьев-отец, залепив своему сыну мощный подзатыльник.
— Сама куплю, — согласилась вслед Тимкина мама, отвешивая Тимке увесистую затрещину.
Я чувствовал, что некий высший закон справедливости требует, чтобы следующая затрещина отвалилась мне, но голоса и лица стали уплывать, и последнее, что я увидел, — это испуганные глаза дяди Саши, надвигающиеся на меня, и плавно падающую с его головы фуражку…
Я провалялся почти все каникулы, а когда снова выбрался догонять пропущенные зимние приключения, в моей башке что-то изменилось. Не думаю, что это было результатом затрещины, которую я задним числом все-таки получил за тот злополучный день (к слову сказать, получил абсолютно несправедливо, поскольку и за более серьезные проступки, как я уже знал, существует срок давности, испаряющий любые прегрешения).
В общем, та сторона перестала быть враждебной страной, наполненной неисчислимыми опасностями. Какие-то опасности конечно же там были, но они были везде и для их преодоления совсем не надо было переделывать тамошних людей, например, для того, чтобы они срочно меняли свои сосны на наши елки. Против извечных опасностей существовали извечные средства. Во-первых, можно было побороть свои страхи, и, как правило, все тут же приходило в норму. Ну а если не приходило, тогда надо было надеяться на свои слова, или свои кулаки, или свои ноги. На крайний случай оставался дядя Саша, и он уж точно никогда не подводил. Но главным было то, что даже все неприятности отныне будут случаться не на чужой — той — стороне, а в моем родном поселке — на моей земле.
Отныне “та сторона” означала только часть нашего поселка за железной дорогой — и ничего больше. Да и называл я ее теперь не “та”, а “другая” сторона, и эта другая сторона оказалась невероятным привольем для наших разнообразных предприятий. В полной мере я сумел все это оценить ближайшим же летом.
Дело в том, что другая сторона поселка переходила в бескрайний и почти сказочный сосновый лес. Его и называли по-сказочному — Воронцовый бор. И только так это и могло называться — бор. Лес — это были чащобы, куда перетекал поселок с нашей стороны, местами непроходимые, то поднимающиеся на сухие места, охраняемые колючей еловой стражей, то ныряющие к чавкающим болотным омутам.
А здесь была несказанная красота. Более всего это походило на роскошный природный дворец с ажурно-игольчатой зеленой крышей и золотистыми колоннами сосновых стволов, настоянными на солнце до горьковатого смолистого звона…
В самом начале лета бор заполнился чужим шумным людом, понаехавшим к нам из загадочных городов, о которых мы могли ранее только узнавать из книг, слышать по радио или — если кому охота — прочитать в газете. Больше всего их было из Ленинграда. Веранды и комнаты, которые они снимали в домах рядом с бором у наших радушных земляков, на их языке назывались дачами, и потому их самих тоже прозвали дачниками. Надо сказать, что натурально дачников этих было не слишком и много — семей десять-пятнадцать, но шума от них в бору было столько, сколько не производил и весь наш поселок, собираясь здесь на ежегодные майские маевки.
Все наши занятия как-то сразу изменились, и совсем не из-за гвалта, который начинался в бору каждым солнечным днем. Всегда ведь можно было забраться подальше, где тихий звон сосен никогда не прерывался людским гомоном, но мы никуда не забирались, а скрытно кружили вокруг полянок, которые выбирали для себя дачные люди.
Это были совсем неправильные люди, и, наверное, места, откуда они приехали, тоже были неправильными и совсем не предназначенными для нас, но оторваться от диковинного зрелища мы не могли. Все эти дачники были голые. То есть чуть ли не совсем голые, так как те маленькие кукольные одежки, которыми они себя слегка прикрывали, и в магазинах-то никогда не продавались. Даже на берегу озера, где людям можно было не стыдясь раздеваться вместе с другими, — даже там наши мужчины оставались в солидных трусах, а женщины — в купальниках, открывавших только шею и ноги. Кто помоложе, те, конечно, старались укоротить трусы или открыть побольше шеи и подлиньше ноги, но все равно — это были трусы и купальники. Только совсем малая малышня плескалась в озере и бегала по берегу голышом. А тут все — почти голышом, ведь то, что на них было, ничего на самом деле не прикрывало, и даже то, что вроде бы было прикрыто, все равно просвечивало насквозь.
Тимка глядел во все глаза, забывая сглатывать, а мне очень скоро стало неловко, и я старался смотреть на что-нибудь другое, потому что этого другого — необыкновенного и заманчивого — было навалом. У дачных детей были завидные игрушки, и я следил чуть ли не за всеми сразу, мечтая, как вон ту машину (или вон тот самолет) их неуклюжие владельцы забудут забрать с собой. А потом у одного шибздика я увидел в руках самый настоящий бинокль — и пропал: никаких других игрушек для меня уже не существовало, и если бы дядя Саша мог только догадаться, какие коварные планы с ходу замечтались в моей башке (а точнее, какие мечты запланировались), он сразу бы меня арестовал на всю оставшуюся жизнь.
Тут-то дядя Саша и притарахтел прямо на сосновую поляну, ловко крутя коляску между деревьями. Я даже не успел перепугаться, потому что он подкатил не к нам, а к тут же затихшим дачникам (да и как бы он мог нас увидеть?)…
— Не будем нарушать, товарищи дорогие, — как-то не совсем по-своему начал дядя Саша.
Если бы мы так хорошо его не знали, мы могли бы подумать, что наш бесстрашный милиционер чем-то смущен.
Дядя Саша что-то тихо втолковывал обступившим его людям, а потом властно оборвал недовольные возгласы: — Еще раз увижу — и будете загорать не здесь, а в милиции.
Протестовать дальше было бесполезно.
В поселке вообще был известен только один случай, когда его обитатели устроили дяде Саше что-то похожее на протест. Это было, когда недавно приехавший молодой армянин-сапожник порезал Шурку Шумарова — нашего баяниста.
— Он мою маму ругал грязным словом, — пытался доказать свою правоту сапожник Жора, затравленно скалясь и не выпуская окровавленный нож.
Вот тогда много-много народу собралось у милиции и что-то все разом кричали, требовали, ожидали, а потом — расколотили все стекла милицейской избы, скалящейся теперь на них голыми прутьями решеток. Самое интересное, что ни самого сапожника, ни окон в его доме никто не бил и даже не собирался.
Дядя Саша в момент оконного погрома был в больнице у раненого баяниста, а потом привез к себе Жору и долго ему втолковывал вполне справедливые истины, которые хоть и со скрипом, но все-таки доходили по назначению. Жора согласился оплатить время лечения и лечебного отдыха баянисту и застеклил милицейскую избу специальным плохо бьющимся стеклом. Но — главное — Жора в конце концов поверил, что никто ничего плохого про его маму даже и не думал, а все обидные речи — это на самом деле такой местный некультурный обычай, по которому осмысленные слова связывают между собой бессмысленными, даже если этих бессмысленных гораздо больше, чем остальных.
Через некоторое время Жора вполне приноровился к нашим нравам, и из молодежных группок где-нибудь у клуба вместе с неистребимыми “мать-перемать” можно было услышать Жорино “маму твою…”. “Мама” вместо “мать” как-то сбивала разговор с правильного ритма, и наступала продолжительная пауза, в которой, казалось, все пытаются осмыслить услышанное, но, как и объяснял дядя Саша, осмыслить бессмысленное невозможно, а поэтому дружная беседа возобновлялась с прежним жаром. В конце концов Жора совсем перестал следить за смыслом произносимого и как-то бросил звучное и звонкое “пидарас” парню, только что вернувшемуся из тюрьмы.
Теперь уже порезанного Жору отвезли в ту же больницу, и та самая его мама, которую он бросился когда-то защищать, гомонила под окнами дяди Саши. Но она даже и не пыталась бить стекла, а мы так и не узнали, действительно ли эти стекла какие-то особо крепкие…
Короче, у дачников против дяди Саши не было никаких шансов, и они расходились, шумно гомоня что-то про дикость и туземные нравы.
С этого дня они больше не ходили по бору голыми, но все равно не стали похожими на обычных людей. Во-первых, все их одежды были неправильно яркими, а во-вторых, эти одежды все равно просвечивали так, что их можно бы и не надевать, да и носились они чаще всего нараспах. Но зато уж на своих верандах приезжий люд вовсе не утруждал себя одеванием и отдыхал — как прежде в бору — наголо.
Мы это знали, потому что тщательно исследовали все дачные веранды в поисках той, где обитал бинокль. И нашли. Счастливым обладателем бинокля был очкастый малец, чуть поменьше нас, и для восстановления правильного и справедливого равновесия жизни мы ему устроили почти такую же блокаду, которую в давние военные годы перенес весь их далекий Ленинград.
В общем, ленинградский Боря боялся нос высунуть за калитку и мог выходить в большой мир только в сопровождении взрослых.
— Боря, опять ты слоняешься вокруг дома. — Ярко-белая дама высунулась в открытое окно веранды, ввергая Тимку в полное остолбенение. — Мы столько денег потратили, чтобы ты мог дышать этим целебным сосновым воздухом…
— Я тут буду дышать, — решительно отнекивался Боря.
— Ну что за упрямый мальчишка! Весь в тебя. — Женщина переключилась на мужа, который благодушествовал сбоку веранды в гамаке кверху волосатым пузом, почти полностью закрывавшим какие-то неприлично маленькие женские трусики.
— Не шуми, дорогая. Сейчас он пойдет погулять…
Глупые люди! Куда же он пойдет, если мы с Тимкой сидим здесь в колючем смороднике и зорко сторожим все пути?! Можно даже сказать, что мы здесь сидим на страже высшей справедливости, потому что всего первее в нашей войне — не бинокль, а то, что очкастый Боря приехал из чужого мира, для которого мы с Тимкой всегда будем туземцами и дикарями. А здесь вот — наш мир, и сосны эти — наши, и небо над ними — наше, и этот, как оказалось, целебный воздух — тоже весь наш. Так что — пусть знают.
К чести этого очкастого Бори следует сказать, что вел он себя по-правильному и родителям на нас не жаловался, а значит, была надежда на то, что мы с ним в конце концов договоримся и будем пускать его в наш бор, совместно распоряжаясь все это время его замечательным биноклем.
Скоро отец семейства заметил нас и, аккуратно вываливая себя из гамака, протрубил:
— Борис, что же ты своих друзей не приглашаешь в дом? Нехорошо, ох нехорошо… Идемте, молодые люди, идемте. Будем пить чай с пирогом.
Он раздвинул смородиновые ветки, и нам пришлось выбираться на свет.
— Я не люблю чай, — первым отказался Тимка.
Тимка был прав: нельзя пить их чай, потому что ведь потом уже было бы несправедливо гонять очкарика, и что же — прощай бинокль? А может, этот пузатый и сам все про нас понял и специально подкупает сейчас своим чаем?
— А лимонад любите? А пирог? Уверяю вас, молодые люди, это такой вку-усный пирог…
Пришлось пойти вместе с ним на веранду, где уже радостно суетился у стола их сын, понимая, что теперь его тяжкая доля непременно переменится к лучшему…
Бинокль стоял на этажерке, и я практически не мог оторвать от него глаз. Ну, а Тимка глядел… лучше даже не говорить, куда он глядел.
— Ты бы оделась, дорогая, — засмеялся Борькин папаша, постучав Тимку по носу.
И на следующий день мы тоже сидели на той же веранде и уплетали несказанно вкуснючий пирог…
Хозяйка на этот раз оделась во что-то такое, что на деле оказывалось куда хуже (а может — лучше) любой возможной раздетости. Она была весела и радушна и все время порхала вокруг нас, то подкладывая новые порции пирога, то теребя Тимкину макушку, то восторгаясь этим очаровательным местом, где (кто бы мог подумать?!) — настоящий рай…
— Ну, молодые люди, нравится вам у нас? — спросил Борькин отец.
— У-гум, — мыкнули мы почти одновременно.
— А что вам больше всего нравится?
Я тут же ткнул пальцем в бинокль, представляя, что по справедливой логике всей этой сцены сейчас мне его и подарят (пусть даже временно). Но облепившая веранду тишина намекала на то, что весы справедливости снова качнулись не туда.
Тимкин палец указывал точно в середину прозрачной хозяйкиной накидки.
— Вон отсюда, малолетние развратники, — заорал благим матом глава семейства, — а ты… чтоб… мать… лядь!
Отдышались мы только у себя — в сосняковом укромнике.
Тимка фантазировал, как он будет закатывать в банки вместо огурцов и помидоров наш целительный воздух и возить его на продажу в Ленинград, но я его не слушал.
От громыхающих вслед нам матюков у меня будто какаято пелена сошла с глаз и ушей. Так ругаться можно только за свою правоту на своей земле. Значит, пузатый Борькин отец и его очкастый сын — не враждебные чужаки, которых надо гнать, гнобить или, по крайней мере, обучать правилам одевания и жизни. Совсем нет. Они здесь тоже — у себя дома, и весь этот бор — не только наш, но и их тоже. И мне не было обидно это понимание, потому что я уже видел дальше, что вся земля, сколько ее ни есть, — она и моя тоже. И дальний-предальний Ленинград, и Москва с ее главной елкой, и дальше — сколько хватает географии — везде моя земля (ну и Тимкина, конечно, и очкарикова…). Пусть себе один украшает игрушками сосну, а другой выставляет напоказ голое пузо — это-то и здорово на моей земле. Главное, чтобы никто не заставлял меня оголять пузо, когда я этого не хочу, или делать еще что-то для меня непривычное и неправильное.
Я чувствовал, что только что сделал на долгие-долгие годы вперед очень важное, а может, и главное открытие… Сейчас за полтысячи верст и несколько жизней от тех открытий я гляжу на того глупого малька, которым был уже не вспомнить когда, и замираю перед ним в неловком смущении. Куда я растратил его способность удивленно радоваться неистощимому разнообразию мира — огромного и моего мира? Такое чувство, будто я разбазарил его наследство, и мне даже нечего сказать в свое оправдание.
Пацан смотрит на меня в ответ безо всякой симпатии.
Как бы ему передать туда, чтобы он не стремился так оголтело во взрослую жизнь, что, и узнав кучу разных сведений, он не станет умнее и уж точно не станет лучше, хотя бы потому, что не будет перед сном, укрывшись с головой одеялом, молить самодельных богов самодельными молитвами, чтобы никто-никто никогда не умирал, даже визгливая Таисия Николаевна…
Но туда ничего не передашь — оттуда можно только брать…
— А у тебя бинокль есть? — Пацан нащупал, чем мог бы со мной примириться. — Нету? Как же так?
Я так хотел вырасти, чтобы купить бинокль.
Мне нечем оправдаться.
Я тянусь к сигарете, выкарабкиваясь из зыбкого сна, записываю в блокнот с неотложными делами “купить бинокль” и сажусь к компьютеру, чтобы снова вернуться в тот бор, под те звонкие сосны.
Сезон в Воронцовом бору открывался майской маевкой. Никто не запрещал гулять там и раньше, но раньше в бору неуютно под мрачной хвоей среди пятен грязного снега, а вот после маевки все сразу преображалось в тепло и красоту. Маевка только называлась майской, но могла быть совсем и не в мае и не имела никакого отношения к первомайским праздникам, с таким же митингом, как и на ноябрьские, — с теми же флагами, портретами и речами в хриплый микрофон с трибуны на центральном перекрестке поселка.
В нашем третьем классе маевка была совсем даже в апреле, потому что устраивались эти маевки строго-настрого в тот же день, на который старики и старухи назначали свою Пасху, и эти старики говорили еще, что маевки специально справляют в Пасху, чтобы народ ходил туда, а не в церкву. Но это они привирали, потому что никакой церквы нигде и в помине не было и никто бы не мог туда ходить. Вроде бы церква была в областной столице, где-то за городом у черта на куличках, так тоже непонятно, кто же туда потащится — на кулички, — если уже каким-то чудом попал в город, где на каждом шагу мороженое, небывалые игрушки в витринах и яркие трамваи.
Да и будь этих церквей хоть тысяча штук, все равно никто не пропустил бы маевку в бору. Дорожка, которая вела от шоссе в бор, с двух сторон была уставлена грузовиками, и с ихних кузовов продавались всякие яркие и звонкие вещи, которых никогда не бывало в поселковых магазинах. Тут все разделялись по интересам. Женщины шумно облепляли машины с тазами, материей и посудой, мужики солидно и спокойно обступали грузовик, с которого торговали бутылочным пивом, а все мы с гвалтом штурмовали машину с мороженым.
Распаренная тетка вертелась в кузове, зачерпывала из открытого бидона ложку мороженого, ловко кидала его в вафельный стаканчик, отдавала стаканчик с льдышкой мороженого, кому показывала другая тетка, собирающая с нас рубли[1], болтала пустой ложкой в банке с мутной водой, била ею по лбу кого-то особенно настырного и снова черпала из бидона. Она так ловко управлялась со всем, что за каких-то пару часов бывали опустошены все бидоны и осчастливлена вся детвора, вплоть до старшеклассников, которые в штурме не участвовали, а появлялись когда вздумается небольшими компаниями, шугали нас врассыпную, довольно больно пиная зазевавшихся, брали стаканчики на всю компанию и удалялись, давая нам возможность возобновить штурм.
На поляне среди сосен с эстрады, сколоченной накануне, гремел клубный оркестр, под который девки и тетки в лентах из местной самодеятельности плясали красными сапожками, высоко раскручивая пышные разноцветные юбки. Тимка глядел во все глаза, забывая слизывать тающее мороженое. Потом на эстраду поднимались мужчины, правящие поселком, древесной фабрикой и лесхозом, изводящим наше главное богатство в кубометры с перевыполнением плана, и по очереди рассказывали про свою счастливую жизнь.
На этом торжественная часть заканчивалась, и народ семьями или еще большими компаниями здесь же, под соснами, устраивал праздничные застолья, щедро расставляя на припасенные скатерки припасенную снедь. Мы носились рядом, угощаясь от чужих столов крашеными яйцами и куличами, а те, что повзрослее, с интересом поглядывали на бутылки с мутным самогоном, но даже и не пытались умыкнуть выпивку у захмелевших односельчан. Это было бы просто глупо, потому что через два-три часа отяжелевший люд собирал свои скатерки и неспешно перемещался на кладбище, в которое плавно переходил поселок одной из своих улиц с нашей стороны железной дороги. Добираться дотуда через всю эту сторону, через железку, через весь поселок на нашей стороне, через маленький подлесок перед кладбищем — часа полтора, и только к раннему вечеру праздник перемещался туда. И вот там уже после ухода праздничных посетителей любой желающий мог от души допраздновать выпивкой и закусками, расставленными на могильных холмиках для угощения дорогих покойников.
Мы с Тимкой на маевке в конце третьего класса вслед за старшими пацанами и на их “слабо” тоже напробуемся вонючего самогона, но это будет только вечером, а сейчас мы глядим издалека на чокнутого Илью, заросшего до глаз сивыми курчавыми космами. Илья бодро перемещается от одного застолья к другому, останавливается и с высоты своего немалого роста осуждающе смотрит на праздничных людей, выпивает предложенный стакан, гневно распекает смеющихся односельчан, требуя сей же час отказаться от золотого тельца и ложных богов, закусывает пасхальным яйцом, обещает, что всех проглотит гиена (почему-то огненная), и переходит к следующей скатерке.
Сначала при любом появлении Ильи мы летели прочь сломя голову, но потом я все про Илью разузнал и рассказал Тимке, так что теперь мы его не боимся и можем даже поговорить с ним про жизнь и вообще, но на всякий случай обычно держимся повдалеке и дразнить не решаемся.
А узнал я про Илью из всяких взрослых разговоров в дому моего деда, когда там собирались его старики-приятели и опасливо шушукались про непонятное. Непонятно же было потому, что шушукались они в основном на языке “идиш”, таком редком и иностранном, что его даже в школе не изучают. Но я упрямо выковыривал из их перешепта редкие русские слова, которых становилось больше, когда к ним за стол присаживалась моя матушка, и в конце концов все понял.
С войны Илья возвернулся совсем целым, бодрым и с полной грудью боевых наград. Приезжающие из эвакуации евреи обнимали его и плакали, а соседи, которые гои, наоборот радовались ему, хлопали по спине, угощали и разглядывали его “иконостас”, щелкая языками. “Почем нынче в Ташкенте ордена?” — спрашивали они наперебой, хотя ни в каком Ташкенте Илья не был, а всю войну провоевал разведчиком. Не таким разведчиком, который в кино в клубе в красивой немецкой форме выведывал у фашистов важные секреты и в конце, когда ему предложили выпить за ихнюю победу, ничем себя не выдал и выпил не за ихнюю, а за нашу — так и сказал “За нашу победу”, а эти придурки ничего не поняли… В общем, Илья был другим разведчиком, типа следопыта, который в прериях мог по примятой траве определять и находить всякое зверье. Вот Илья и находил немецкое зверье и таскал через линию фронта без жалости, оберегая одни лишь языки. Натаскал на шесть орденов, не считая медалей, которых и не сосчитать.
Первым делом по возвращении Илья перенес из лесного рва на еврейское кладбище останки своего отца и тех стариков, которые вместе с отцом Ильи соблазнились на немецкую культуру. Кладбище это находится на Тимкиной стороне поселка, и даже не на окраине его, а в самой гуще домов, рядом с Тимкой, зажатое с трех сторон живой изгородью кустарников и заборами Тимкиных соседей.
Сейчас это громадный пустырь в сочной траве, из которой совершенно в неожиданных местах как будто прорастают старые неровные камни с выбитыми на них загадочными насекомными письменами и шестиконечными звездами. По кладбищу гуляют соседские козы вперемежку с мелкой живностью, отъедаясь на сытном выпасе. Соседи в каждом ремонте понемножку передвигают свои ограды, удушая покойницкий простор, и когда случается, что в результате очередного переноса забора древний камень попадает в личное подворье — его не выкорчевывают прочь, а спокойно присоединяют к хозяйству кто подставкой, кто наковальней, кто как. Евреи из поселка разъехались — в Израиль или к иным погостам, но кладбище пока живо. В центре этого зеленого раздолья все еще стоит обелиск, изготовленный тогда Ильей в память расстрелянных немцами стариков, и среди беспорядочно торчащих камней есть уголок, где могилки устроены в два ровных ряда с оградами, и там же — могила моего отца. На ее камне не могендовид, а пятиконечная звездочка и фотография юноши в лейтенантской форме, а выбитые на этом камне даты кричат о том, что я более чем на двадцать лет старше своего отца, но Родину, защищенную им для меня, я не защитил и не спас…
Во время, когда Илья хоронил своего отца, по кладбищу тоже, как у себя дома, гуляла соседская птица и выпасались более важные домашние животные, которые, как ни странно, пережили войну и оккупацию лучше, чем люди, может, потому, что были они для голодных горемыков последней надеждой и берегли их много бережней, чем людей. Но Илье не нравилось, что буренки оставляют по кладбищу свои лепешки, и в свободное от своей кузнецкой работы время он взялся городить кладбищенскую ограду и приводить в порядок весь погост.
Так все хорошо и продолжалось до самого того времени, пока в Москве не обнаружили врачей-убийц. Все вокруг сильно заволновались, даже те, кто сроду ничем не болел и к врачам не обращался. Местное начальство тоже очень переживало и каким-то образом перескочило в своих заботах о нашем счастье с врачей-убийц прямо на кладбищенские проблемы (впрочем, следует признать, что все это — очень близко). Еврейское кладбище приказали прекратить и перепахать, потому что весь советский народ должен лежать вместе со всеми, а не на обочине нашей жизни среди безродных и в космы повитых.
Тут они натурально заврались, потому что совсем не все лежали на кладбище безродными — у того же отца Ильи был наглядный сын, да и у многих других была всякая родня, а уж косматыми они все точно быть не могли, иначе бы знакомые мне еврейские старики не блестели через одного безволосыми лысинами.
Илью это вранье, понятное дело, возмутило, и он встал со своим охотничьим ружьем поперек начальничьего приказа. Его в ответ назвали безродным и косматым, и, хотя это уже была сущая правда, Илья все равно обиделся. Он сложил все свои награды в посылочный ящик и отправил генералиссимусу Сталину лично в руки вместе с большим письмом. Там он писал, что все радио целыми днями кричит, что Сталин один победил войну и поэтому все эти ордена евоные по-праву, а Илья больше не хочет воевать за Сталина, а хочет воевать за новое государство Израиль…
Посылка не успела еще отправиться с нашей почты, а за Ильей уже прислали машину с личной охраной и увезли в Израиль, а точнее — в солнечный израильский Магадан. А когда письмо Ильи дошло до Сталина и он его прочитал, он тут же дал дуба с разрывом сердца. Из-за этого Илью вернули из Израиля обратно в поселок, чтобы было кому заново восстановить кладбищенскую ограду, которую таки успели порушить и растащить в радости скорого уничтожения кладбища, но радость была напрасной, и, не считая ограды, ничего не было уничтожено.
Теперь Илья вернулся не таким бодрым и целым, как с войны. Он дергал глазом, говорил, что придет царство Израиля, все его называли сумасшедшим, сочувственно цокали и еще обзывали ребелитированным. Слово было трудное и совсем непонятное.
— Деда, кто такой ребе?… ребе лит?.. — Я запинался и не мог вспомнить точно.
— Ребе Литвак? — спросил дед, ласково глядя на меня.
Вроде фамилия Ильи и правда была Литвак, и я нерешительно кивнул.
— Ребе Литвак был очень умный и правильный еврей, — сказал дед. — До войны он у нас был раввином, и за это фашистско-немецкие изверги его застрелили.
— Не. — Я замотал головой. — Я про Илью…
— Илья тоже был очень умный еврей, и за это культ Сталина свел его с ума, а теперь он бедный еврей, но если ты будешь послушным, ты, может быть, станешь таким же умным, как ребе Литвак.
Дед осмотрел меня с надеждой и, уходя, дал рубль.
Мне совсем не улыбалось быть таким же умным и застреленным, как ребе Литвак, да и по поводу незнакомого слова я ничего не узнал, но зато я безо всяких трудов получил рубль. Надо сказать, что мой дед всякий раз глядел на меня либо с надеждой, либо с опаской, либо с полным разочарованием, и для каждого случая у него была своя такса: с надеждой — рубль, с опаской — рубль (иногда — два), с разочарованием — подзатыльник…
Позже от нашего одноклассника, сына знаменитого на весь поселок хирурга Баканова, я узнал, что ребилитация — это когда человеку отрежут ногу, а взамен дадут сверкающий пружинами протез. Теперь мне было ясно, почему вслед Илье иногда ворчали, что наребилитировали зазря невесть кого. Конечно зазря, если никакого протеза у Ильи не было и в помине, а была у него больная голова в вечной ушанке и зычная глотка, через которую он трубил на весь поселок о каре, гиене и победном сиянии Израиля над всеми странами и народами.
Так он и трубил до 67-го, когда невероятные сведения с фронтов ближневосточной войны заставили местные власти прислушаться повнимательней к громовым пророчествам Ильи. К его дому с воем подкатили сверкающие мигалками машины — милицейская и “скорая помощь” — и укатили нашего Илью навсегда.
— Ишь, на каких колесницах за ним, — более сокрушенно, чем восхищенно поцокал Соловей-старший, живший по соседству с Ильей и зарабатывавший трубой в нашем похоронном духовом оркестре.
Духовой оркестр был один на два кладбища, и по этой причине Соловей-старший глядел на всех односельчан одинаково учтиво, справедливо полагая их всех надежным источником своего завтрашнего благополучия. Отсюда же и его сокрушенное цоканье вслед исчезающему клиенту…
Но это все будет нескоро, а сейчас, третьеклассниками, на маевке мы с Тимкой следим за вышедшим из ума Ильей. Мы ползаем по-пластунски и воображаем себя такими же разведчиками, каким он сам был на войне. Потом мы заоглядывались в поисках Ильи и обнаружили того стоящим над Серегой из нашего класса. Было видно, что Серега боится Илью, но держится мужественно и никуда прочь со всех ног не летит.
Серега был сыном какой-то большой шишки, и потому по суровым правилам справедливости с ним никто не водился и он вынужден был маяться особняком ото всех, играя сам с собой. Сейчас он играл с игрушечным самолетом, в который, наверное, была вставлена батарейка, потому что он мигал разноцветными огоньками и попискивал. Точнее, не играл, а сжимал двумя руками, с опаской глядя вверх на Илью, а тот не мог отвести глаз от мигающих огоньков.
Через несколько дней на переменке Тимка отвел меня в сторону.
— Помнишь, мы на маевке ползали в лесу? — спросил Тимка. — Так там же окопы были.
— Какие окопы?
— Немецкие или наши… Не важно — военные окопы.
Я вспомнил узкие неглубокие рвы, зарастающие извилистыми рядами, между соснами.
— Ну и что?
— Балда, это значит, там можно накопать пороху или даже снарядов — там же везде бомбили и стреляли…
Тимка был прав.
— Надо будет вернуться туда с лопатой, — хозяйственно запланировал Тимка.
Накануне в нашей жизни появились новые слова, понуждая нас к новым занятиям. Космос, ракета, скорый полет на Луну — все это переместилось из фантастических книг в завтрашний уже день и в сегодняшние игры.
— Ракета — это проще простого, — объяснял сегодня на школьном дворе пацан из шестого обступившим его с раскрытыми ртами младшеклассникам, — как два пальца… Берешь железную трубку, хоть даже цилиндр от велосипедного насоса, один конец — заклепать наглухо, со второго — натолкать порох, поджечь — и ракета…
— А ракета Гагарина?
— То же самое, только цилиндр не от насоса, а с водонапорную башню.
— Это ж сколько пороху надо!
— Ну, может, там не порох, а тол, что в снарядах. Снарядов после войны осталось — море целое: тол вытапливай, шнур запали — и готово…
В следующие же дни малышня и пацаны постарше потянулись с раскопками в близлежащие леса, в земле которых и вправду полным-полно было мин, снарядов и бомб — изржавевших, но сохранивших еще свою убойную мощь ошметков не слишком давней войны. Патроны, из которых упорной возней добывался ценный порох, за стоящую добычу и не считались.
Удивительно, что в это “космическое” лето все мы не подорвались, а наши самодельные ракеты не спалили поселок со всеми лесами вокруг. Впрочем, один старшеклассник взорвался насмерть, другому — из нашего класса — взрывом оторвало ногу, и мы все его сильно и долго жалели, хотя он и уковыливал побыстрее на своих костылях от нашей жалости, а еще одного из пятого — шарахнуло дослепу, и его тоже жалели, но не так, как безногого, а со страхом и держась поодаль. В этом не было какой-то особенной бесчеловечности — обычная детская практичность. Обезноженному помогали все взрослые и с уроками, и с чем угодно, и даже в кино его пускали бесплатно. Эта облеплявшая его жалость казалась нам всеобщей любовью, не такой, конечно, как любовь к Юрию Гагарину, но все-таки — любовью, а кто же не хочет всеобщей любви?.. Видимо, нам ее сильно не хватало, и любой из нас, не задумываясь, поменялся бы с подорвавшимся приятелем, только ненадолго — на недельку, может, на две. А с ослепшим парнем никто бы меняться не стал, и хотя его тоже жалели, но никакого толку не было с той жалости и с того, например, что его тоже могли бесплатно пустить в кино.
Но все это чуть позже, а пока мы с Тимкой переговариваемся на перемене.
— А помнишь его самолет? — Тимка кивнул на Серегу, сидящего за партой. — Как думаешь — он железный?
— Не знаю.
— Если железный, то это намного лучше насоса.
— Раз в сто лучше.
Мы замолчали, а потом Тимка прервал наши молчаливые планы похищения самолета совершенно неожиданным предложением:
— Ты знаешь, а мне жалко Серегу. Правила правилами, но те, кто их придумал, не знал же, что Серега — нормальный пацан. Давай его подберем и позволим дружиться.
— Давай, — сразу согласился я.
Так почти полностью определилась наша дальнейшая жизнь. Не хватало только Мешка, но в тот день Мешка мы в упор не видели. Мешок появится еще через месяц с гаком, и только через два года свалится на него его небывалая ноша.
— Ну пошли? — подтолкнул меня Тимка.
— Куда?
— К Сереге. А чего ждать?
— Пошли.
3. Серега (Наперекор)
Серега был родом из начальства, а на начальство мои белорусские земляки смотрели с опаской и недоверием, ничего хорошего не ожидая и надеясь, что плохое пронесет как-нибудь стороной. Начальство наказывало, отбирало, обирало, разоряло, запрещало, рушило — с того и жило. Теоретически начальство могло и наградить и одарить, но любому понятно, что у него самого тех наград и падарунков с гулькин нос, и потому правильней их растратить на собственные хозяйства, на жонок и сынов, а еще не забыть своих начальников за доброе их расположение и обязательно какими-то крохами оделить подчиненных и прихлебателей, без которых особо не накомандуешь. В общем, как ни крути, но начальствовать приходится в основном ором да разором. Поэтому и относились к начальству, да и вообще к власти, как к неизбежному и неизбывному гнету.
Точнее, как к погоде, от которой надо защищаться, но совсем надежно не заслониться даже стенами дома, и, значит, остается терпеть и приноравливаться. В южных землях еще хорошо: там действительно — погода, но в нашем климате — сплошная непогодь, а случится передышка от ненастий (та же маевка, например), так и спасибо. Ну не бунтовать же против погоды!.. Если же найдется какой-нибудь чудик, который не приноравливается, а протестует, то к нему относятся крайне неодобрительно, потому что ото всех его сопротивлений сложившемуся порядку всегда нелегкой жизни можно ожидать в ответ только грома-молний, которые, по обыкновению, обрушатся не только на голову неразумного бунтаря, но и на всех, кто рядом, — без разбора.
Мне чрезвычайно привлекательна эта особенность моей очарованной родины, где люди живут так же упрямо и терпеливо, как и деревья в их бескрайних лесах: кряхтят в грозы, поскрипывают морозными ночами, запасливо прогреваются впрок под любым (даже и обманным) теплом — живут себе, пока все вокруг леса изводятся под корень…
Так здесь воспринимают любую власть — так поначалу терпели немцев, так приняли возвернувшийся строй, так глядят и на власть нынешнюю… В общем, в дружной семье советских народов мои земляки жили одними со всеми несчастьями, но несколько наособняк. “Да здравствует советская власть!” — восторженно ликовала Россия. “Хай живе радянська влада!” — аукалась Украина. “Няхай жыве радзяньская улада!” — соглашалась (а куда денешься?) Беларусь. Без власти ведь никак, так что — няхай сабе. Ни душевных проклятий, ни сердечных восторгов, и всем опытом предков нажитое мудрое отстранение и от власти вообще, и от любого начальства со всеми его чаяниями, чадами и домочадцами.
За оградой собственного дома Серега попадал в эту полосу отчуждения.
— Пропал бы без нас Серега — хорошо, что мы его подобрали, — совершенно правильными словами встретил меня Тимка, не прекращая играться китайским фонариком на круглых батарейках.
Еще в прошлом году из Китая к нам в страну посылали такие вот фонарики, красивые термосы в цветах и птицах, очень нужные для жизни и спорта кеды и дружбу навек, но до нашего поселка доходила одна только дружба, а все остальное продавалось в районном центре. Теперь же ни из радио, ни из телевизора никакой дружбы не слышно, а слышно только, что у них по всей стране ревизионизм, и, значит, магазины закрыты точно так же, как и у нас, когда вывешивают табличку “ревизия”, и уже нипочем не дождаться от них ни кедов, ни фонариков. Лично мне фонарик и не нужен — фонарик у меня дома есть, но батарейки в нем сдохли, потому что я с этим фонариком читал под одеялом, когда матушка совсем уж свирепо требовала, чтобы я выключал свет.
— Где взял? — спросил я, кивая на фонарик.
— У Сереги — ему без надобности: его же ночами спать заставляют.
— А где он?
Мы готовились начать запланированные позавчера раскопки и ждали Серегу, который обещал принести настоящую саперную лопатку.
Почти неделю мы упорными кротами вгрызались в затянувшиеся с войны траншеи. Нарыли несколько горстей ржавых патронов и спешно перебрались в лес за нашей стороной поселка, потому что всю школу взбудоражила новость, что взрослые пацаны именно в этом лесу отрыли целый ящик настоящих винтовок. Винтовки сразу же конфисковал дядя Саша и долго еще допрашивал копателей, но все это нас не останавливало, а только будоражило. “Как новенькие, — пересказывали друг за другом старшеклассники, и мы ловили их разговоры растопыренными ушами. — В заводской смазке”.
О ракетах забыли почти все искатели, тем более что несколько совершенных уже запусков самодельных ракет закончились одним только шипением и верчением по земле раскуроченных велосипедных насосов. Теперь искали оружие, мечтая о собственных пистолетах и автоматах.
Мы забирались подальше от конкурентов, с головой закапываясь в землю и фантазии о пистолете за пазухой. Это безумие продолжалось около месяца, до самого почти окончания третьего класса.
Мы сидели километрах в пяти от поселка, на склоне густо поросшего ельником холма, и подсчитывали свою добычу. Ничего желанного мы не нашли — даже гранат, которые, по словам Тимки, лучшее средство для рыбной ловли. В арсенале у нас накопились две кастрюли, которые по-правильному назывались противотанковыми минами, один снаряд и несчитаная горка патронов. Пора было начинать выковыривать или, как говорили старшие копатели, вытапливать из всего этого добра тол для ракет, но было страшно. Этого мы очень старались друг другу не показать и даже не говорили о подорвавшемся на прошлой неделе однокласснике.
— Я думаю, что никуда эти ракеты не полетят, — начал издалека Серега. — Там надо взрывчатку совсем не из снарядов.
— Ясный пень, — согласился Тимка.