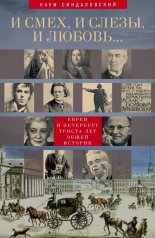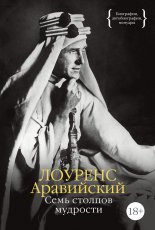К развалинам Чевенгура Голованов Василий
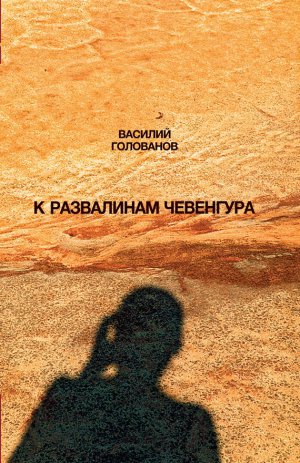
Отвергнутый официальной культурой.
Создатель собственного театра.
Проложивший свою собственную дорогу в искусстве.
В искусстве сопротивления – прежде всего.
Разумеется, перед этим колоссальным списком, который можно было бы продолжать еще и еще, я утратил чувство соразмерности. Поэтому я и не представлял, как произойдет наша встреча. При этом я знал, что Элен хотела бы, чтоб эта встреча состоялась. Вряд ли она рассчитывала на разговор, ибо нас разделяла целая пропасть несоизмеримого жизненного опыта. Но иногда разговор даже не требуется – а встреча все равно происходит. Встреча, способная перевернуть твою жизнь.
Гатти сидел в просторной комнате за столом, который показался мне огромным, – стол в виде подковы, занимающий добрую половину комнаты. Он – в центре этой конструкции, как капитан в своей рубке. Сзади во всю стену – портрет Че и еще один – думаю, Буэнавентуры Дуррути, главы анархистов Барселоны, убитого в боях с фашистами во время гражданской войны в Испании в 1936-м. Гатти был действительно велик. Он был настолько велик, что безо всякого труда и без остатка мгновенно поглотил мою назойливую тревогу. Глаза его глядели приветливо, внимательно, но без нажима, рукопожатие большой старой руки было ласково. Он сделал жест, приглашающий нас пройти дальше и быть смелее, при этом он чуть приподнялся в кресле своим большим костистым телом, которое просторная черная блуза делала еще больше. От окна навстречу нам шагнул его сын или даже внук. Девочка лет шести, видимо внучка (правнучка), осталась рядом с дедом.
– Ну вот, – сказал он ей, завершая прерванный нашим появлением разговор. – Это кит. La baleine. Давным-давно мне сделал его отец. Когда я работаю, я разговариваю с ним… Должен же я с кем-то разговаривать?
Он оттянул пальцем челюсть кита, и тот закачался на невидимой оси, делая глотательные движения челюстью и поводя взад-вперед большим черным глазом.
Девочка улыбнулась. Ей понравилась игрушка деда.
Арман Гатти за своим огромным столом сам был похож на кита, заплывшего погреться в теплую лагуну.
Потом произошла какая-то сбивка ритма, и мы отправились ужинать в местный ресторанчик. Не прекращая, моросил дождь. Я поглядел на недостроенный театр, на Гатти, чуть ссутулившись шагавшего под мокрым от дождя зонтом. Ему 84 года. Надеется ли он в один прекрасный день все-таки дать представление на сцене нового театра? Хотя бы одно? Надеется ли он, что без него театр сможет существовать, что кто-то кроме него сможет управиться с его труппой – его «loulous»56 – буйным племенем отверженных, бывших безработных, наркоманов и потерпевших полное или частичное крушение в жизни романтиков? Кто еще кроме него сможет обратиться к ним и сказать: «Ваша честь – это литература»? Или: «Заниматься театром – все равно, что строить собор»? Ведь совершенно очевидно, что в обозримом человеческом пространстве замены ему нет. И тем не менее и Элен, и Гатти говорят о театре как о чем-то таком, что непременно будет иметь продолжение. Разумеется, театр будет другим, но все равно дух останется, хотя и он получит новые языковые и человеческие воплощения, новые сценические формы. Кто-то из учеников придет ему на смену, и поначалу он будет слаб и несовершенен в поступках, но постепенно, если он призван, он возмужает, окрепнет и сможет поступать и говорить так же безошибочно, как это делал учитель. В этом – «принцип надежды», который исповедует Гатти. Если бы он думал, что все, во что он вдохнул душу, проживет лишь до его смерти, он бы не смог быть оптимистом. Первый раз он был приговорен к смерти в 18 лет. Он говорит: «Не думаю, что я смог бы сказать что-нибудь другим людям, если бы перед моими глазами не стояла камера смертников. Она всегда рядом. Я часто навещаю ее…»
Стол в ресторане был уже сервирован. Мы быстро расселись, французы заказали pour l’entre57 устриц, мы с Ольгой – салаты с fruits de mer58. Хозяин, хорошо, очевидно, знавший и Армана, и Элен, взялся обслуживать нас сам. У него был совершенно вытертый, в некоторых местах протершийся до дыр воротник рубашки.
– Здесь лучшая в округе кухня, – как будто перехватила мой взгляд Элен.
Разумеется, не могло быть ничего безусловного и прямолинейного в том волшебном мире, где жила Элен, и к этому надо было привыкнуть с самого начала, когда за воротами на улице генерала Леклерка вдруг открывался нетронутый карман пространства и времени позапрошлого века, куст жасмина, птичьи голоса по утрам, земляника у входной двери, странная квартира со странной геологией книг, оседающих в ней, и вещей, будто бы и не подозревающих о бурных метаморфозах компьютерной эры, когда изменения претерпело все – от кухонной посуды до телефонов… А хозяин! Автор превосходного утреннего кофе Николя Планше, живущий тайной для нас параллельной жизнью актера и мима, все, все имело в этом мире незаметную поначалу, но неизменно превосходную обратную сторону, как и этот ресторатор, которого на улице можно было бы принять – ну, я не знаю, за кого можно было бы принять человека, если судить о нем по воротничку его рубашки, – и который на поверку оказывался утонченнейшим кулинаром.
Яства воспоследовали.
Некоторое время все молча ели.
В партизанском отряде восемнадцатилетнего Армана Гатти звали Дон Кихот, или, короче, Донки. Все это долго объяснять, и сейчас у нас, читатель, почти нет времени для этого, просто там, в отряде, быстро поняли, что этот парень – не от мира сего. Дело в том, что он пришел не с пустыми руками. Он, разумеется, принес с собой оружие – это был странный, едва ли не самодельный револьвер калибра 6,35, купленный, вероятно, на барахолке. Но главное было не это. Он принес с собой книги. Стихи Рембо и Мишо, афоризмы Чжуан-цзы, статьи итальянского коммуниста Антонио Грамши и еще пятую книгу, относительно которой сведения расходятся: некоторые считают, что это был томик Малларме, другие не менее уверенно утверждают, что это был сборник статей по физике Нильса Бора.
Возможно, живой Гатти мог бы развеять эти сомнения и сказать, по крайней мере, что за книгу принес он в отряд Сопротивления. Но может быть, он не помнит и сам. А может, он давно уже добрую половину жизни проживает в легенде и не хочет мешать ей твориться по своим мифическим законам. Во всяком случае, книг было пять. Разумеется, этого одного с лихвой хватило бы, чтобы зачислить его в подразделение для особо странных, но этого было мало: во время долгих ночных дежурств Донки читал стихи деревьям. И был убежден, что они отвечают ему шелестом листьев.
Он пробыл партизаном восемь месяцев, так и не убив ни одного немца или, на худой конец, жандарма, так и не поучаствовав ни в одном налете. Но он и не стремился к этому. Много лет спустя он скажет (впрочем, он, может быть, сказал это уже тогда: неимоверно трудно разобраться в колоссальных толщах его биографии) – так вот, он сказал или скажет свою знаменитую фразу: «С точки зрения истории, важно только одно – чтобы мы здесь были». Важно, чтобы там, в лесу со сказочным названием Бербейролль, на плато Тысячи Коров, были несогласные со всем, что происходит внизу, и чтобы люди там, внизу, знали про это. Знали про их несогласие, их сопротивление, в каких бы формах оно ни выражалось. Отважный партизан Донки считал адекватной формой сопротивления фашизму чтение деревьям стихов Рембо и Мишо.
Когда его схватили, его спросили, разумеется, какого черта он очутился там, где ему не положено быть.
– Чтобы заставить Бога свалиться в наше время, – ответил Донки.
Однажды во время встречи с лицеистами один паренек спросил его, что он, собственно, хотел этим сказать.
– А я и сам не знаю, – ответил Гатти. – Я только открыл для себя, что слова освобождают меня, что мои слова – это их поражение.
Его отвели в камеру, где сидели еще трое его товарищей, и там их жестоко связали попарно, спина к спине, так что движение одного неизбежно причиняло другому муки, которые со временем должны были превратиться в настоящую пытку. И вот, когда боль уже стала пыткой, партизан, к которому был привязан восемнадцатилетний Гатти, спросил: «Донки, ты жалеешь о чем-нибудь?» – «Нет, – не раздумывая, ответил юный Дон Кихот. – А ты?» – «Нет». Никто ни о чем не жалел. Ни один из четверых.
«Я подумал тогда, – вспоминал позже Гатти, – что вот, существует разъяренный мир, война, армии, которые уничтожают друг друга, эта тюрьма… Но даже в этой тюрьме оказалось возможным найти и сказать самые правильные, самые главные слова. Может быть, нас ждет смерть. Но если моя жизнь должна оборваться сейчас, в этих стенах – что добавить к ней? Она была наполненной. На своем уровне сознания я осуществил все основные встречи, и последней встречей был этот разговор с товарищами… Потом я понял, что жизнь и состоит из такого рода встреч. Все остальное – это попусту уходящее время…»
Если бы тогда, в ресторане, я знал про эту историю, я ни за что не открыл бы рот.
Но мне показалось, что молчание неловко затянулось, и, обратившись к Арману, я спросил:
– На фотографиях театра и там, дома, я видел портрет Мао. Чем он вас так заинтересовал?
– Своими стихами, – ответил Гатти. – Вообще, у него интересный опыт. Я трижды был в Китае и прошел весь путь Великого похода.
Он не был настроен прерывать беседу. Это я не был готов ее продолжать. Я не читал стихов Мао. Я не читал пьесы Гатти «Одинокий человек», посвященной китайской революции. Я безрассудно бросился вперед и почти мгновенно очутился в вакууме.
Встреча не состоялась.
Разумеется, Гатти был настолько опытен и стар, чтобы по достоинству оценить мой порыв и отнестись к нему снисходительно. Даже бережно. Во всяком случае, весь вечер я чувствовал себя под его опекой. Но возобновить разговор он больше не пытался. Я получил хороший урок. И мне пришлось заткнуться. Рядом со мной сидел один из самых значительных людей, которых я встречал когда-либо в жизни, и чтобы эта встреча, несмотря на мою ошибку, в конце концов хотя бы чуть-чуть оказалась встречей, мне следовало заткнуться и помолчать. Повпитывать его молчание хотя бы.
В тот вечер Элен рассказала о нем прекрасную историю.
Дело было в Монако в самом начале войны. Монако – крошечное государство, границы которого почти ничего не значат, особенно в те грозные годы, когда на землю приходит война. Франция была уже разгромлена и поставлена на колени. В соседней Италии свирепствовал фашизм. Но именно в этот момент почти оказалось больше, чем ничего. В Монако не было войны. Монако не знало, что такое танки, дивизии СС и пикирующие бомбардировщики люфтваффе. В Монако (поначалу) не выслеживали и не отправляли на уничтожение евреев. Никого не уводили по ночам. Никто не знал, что такое голод, гетто, взаимная подозрительность. Булочники пекли свой хлеб. Ростовщики ссужали деньги в рост. Рыбаки возвращались с моря со свежим уловом. Гатти было уже 16, он одержал в жизни главную свою победу – он полюбил, впитал в себя и сделал своим французский язык – он, сын бедного итальянского эмигранта, сделал его языком своей поэзии, как Рембо и Верлен, он грезил им наяву, бормоча и бормоча вслух какие-то строки. В школе его звали Лермонтофф. В эти последние мирные дни, когда слово было еще только наваждением и надеждой, но еще не стало оружием, Лермонтофф влюбился. Ее звали Николь, она была ослепительно красива – пятнадцатилетняя еврейская девочка, с которой он странно сошелся, споря о Ницше, защищая его экзистенциальный выбор, его аристократизм, его артистизм, даже безумие. Она боялась Ницше, которого идеологи фашизма хотели сделать «своим» философом, а он смеялся в ответ: как же он может быть «их», когда он ненавидел и презирал плебс – а они и есть квинтэссенция плебса? У этой любви не было надежды: ведь в Монако не было войны. А значит, война не стерла в порошок те перегородки, что люди выстраивают между собой в мирной жизни. Лермонтофф был люмпен, сын дворника и прислуги, а Николь была дочерью богатого ювелира… Но он верил в силу слова и в силу любви. Он посвятил ей поэму и сказал – нет, он не просто сказал, он объявил всем, – что в день ее рождения, 26 января, он прочтет свою поэму, шагая по морским волнам. Настал этот день. Он пришел на пирс, где собралось уже довольно много народу. Но она не пришла. Он понимал, насколько незащищенным становится без нее, насколько возрастают опасности, подстерегающие его, но не отступил – он шагнул в море прямо с пирса, успев прокричать на лету несколько слов, прежде чем скрыться в волнах. Он не умел плавать.
А потом война сделала свое дело, границы Монако совсем истончились, и однажды Николь вместе со всем своим семейством была тайно вывезена из города и переправлена в концентрационный лагерь, где и сама она, и все ее близкие исчезли без следа.
В 1942 году отец Гатти, дворник Огюст, решил возглавить забастовку рабочих против каких-то фашиствующих хозяев. Полиция насмерть забила его на баррикаде, запиравшей ворота. После этого у его сына не оставалось выбора: он должен был оставить прибежище Лермонтоффа и уходить хотя бы в Дон Кихоты – туда, где сражались друг с другом мужчины.
Он принял вызов и ушел к Генгуэну в лес Бербейролль.
Вечер подходил к концу. Хозяин ресторана подал десерт и кофе для Гатти.
– Врачи запретили мне пить вино, – грустно сказал он и посмотрел на меня. – Хочешь знать, что я об этом думаю?
Не дожидаясь ответа, он выплеснул полчашки кофе, долил ее вином, опрокинул себе в рот и расхохотался:
– C’est le caf anarchiste59, ты понял? Когда мне было десять лет, мой отец делал мне такой же и отправлял в школу со словами: «Ну, теперь иди, покажи им, на что ты способен!»
Дождь по-прежнему легким туманом висел над улицами Монтрё.
Когда мы с Ольгой вернулись домой и сели покурить в нашем дворике, пахнущем жасмином, я никак не мог отделаться от счастливого чувства, что встреча – она все-таки состоялась, и последние слова, которые он нашел для нас, нет, целая сцена, которую он разыграл перед нами, – она была коротким, точным, поражающим ударом из тех, которые забыть невозможно. Он не хотел, чтобы вечер кончился ничем. Он хотел запечатлеться в нас, и он нашел момент, когда нужно было произнести эти единственно нужные слова про «анархистский кофе»…
Арману Гатти на роду было написано стать одним из самых необыкновенных людей своего времени. Предварительное предначертание было сделано еще родителями – отцом-революционером, который, как писал Гатти в одной из своих первых пьес, посвященной отцу и его революционному наследству60, «завещал» своего сына революции, и матерью, Летицией, которая, к моменту рождения своего сына оказавшись в обстоятельствах, в чем-то близко напоминающих библейскую историю девы Марии, бегущей гнева жестокого Ирода, чтобы спасти своего ребенка, разрешилась от бремени даже не в хлеву, а у дороги, обсаженной персиковыми деревьями, внезапно оглушенная пушечным залпом, раздавшимся со стен княжеского замка, и, несомненно, пораженная видением пожираемого драконом пламени корабля на рейде города, к которому она подходила61 . Будучи впечатлительной и очень религиозной женщиной, она назвала своего первенца Данте Спаситель, тем самым навсегда, и даже в большей степени, чем отец, предопределив его будущую судьбу. Он стал поэтом, он стал революционером.
Отец, Аугусто Гатти, принадлежал к тому же поколению эмигрантов в Америку, к которому принадлежали Сакко и Ванцетти, которых я всегда считал персонажами какой-то шекспировской драмы о любви, но которые оказались вплетенными совсем в другую историю вместе с тысячами или десятками тысяч таких же бегущих от непосильной бедности итальянских чернорабочих-романтиков, которые, что и было неопровержимо засвидетельствовано казнью того и другого на электрическом стуле, в конечном счете и при зрелом размышлении оказались-таки Америке не нужны. Аугусто Гатти не избег общей участи: его, как анархиста, выследили легавые – а это были честные убийцы из частного агентства Пинкертона – и, избив, как они полагали, до смерти, сунули в мешок и бросили с моста в реку. В воде Аугусто, однако, пришел в себя, взрезал ножом мешковину и чудом выплыл, чтобы тут же кануть на дно подполья: жизнь в Чикаго была ему отныне заказана. Он сумел пробраться на пароход и уплыть обратно на родину, но на родине в 1924 году уже настало время Муссолини, и Аугусто – мусорщику и революционеру – тут тоже не было места. Когда Летиция, возблагодарив Пресвятую деву Марию и всех святых, отправилась за мужем в Европу, она не знала о нем ничего, кроме того, что он жив, а не мертв, как она долгое время полагала.
В Италии она получила от него весточку о том, что он теперь во Франции и в безопасности, торопя ее присоединиться к нему. Она собралась немедленно, ибо ей предстояло пройти до родов не такой уж близкий путь, но случай распорядился иначе: пушки со стен княжеского замка выстрелили слишком громко и слишком внезапно, и Летиция разродилась Спасителем, так и не дойдя до Франции. Семья в результате воссоединилась в Монако. Разумеется, здесь, в одном из прекраснейших, но в то же время захолустных феодов старушки Европы, жизнь революционера не могла реализоваться с той же полнотой, как во Франции, которая в те годы буквально дышала революцией и то грезила правительством Народного фронта, то отправляла интербригады в республиканскую Испанию. Но дворник Огюст, вынужденный жить в трущобах Тонкин одной из самых великолепных декораций Средиземноморья, не переставал мечтать о революции; во всяком случае, его сын вспоминал впоследствии, что в детстве у него был один кошмар: проснуться в один прекрасный день, узнать, что революция свершилась, и по малолетству так и не смочь сыграть в ней достойную роль. Но революция все не шла (и не пришла), хотя отзвуки классовых битв долетали и до столицы казино. В мае 27-го, получив известие о казни Сакко и Ванцетти, отец повязал черный анархистский платок на шею трехлетнего сына, и с тех пор тот носил его не снимая. Однако к тому моменту, когда дворник Огюст погиб-таки на баррикадах революции, возглавив забастовку рабочих в 1942-м, в самое неподходящее для забастовок время, его сын избрал для революционного действия несколько иную территорию, нежели отец: слово, язык, культура, сознание.
Возможно, Малларме с его сакраментальной фразой: «Je ne sais autres bombes, que des livres»62 послужил здесь детонатором, но взрыв получился глубокий, преобразовавший всю структуру личности Гатти. Вступив в Сопротивление в 18 лет, он просто начинает применять на практике свою теорию слова: он мыслит зрело, говорит чуть ли не афоризмами, ни на минуту не сомневаясь ни в своей правоте, ни в том, что ему открыто знание, неизвестное большинству людей. Когда его арестовывают, он ведет себя и говорит так, что остается непонятым не только своими палачами, но и самыми близкими товарищами-партизанами.
– Для чего ты пишешь? – спрашивают они его в камере.
– Для того, чтобы изменить прошлое…
Но разве прошлое можно изменить? Разве он – маг? Разве он может сделать их, пленных партизан, вновь свободными? Разумеется, над замками и надзирателями он не властен. Но словесная магия подразумевает не менее фантастические превращения: как врач, нащупывающий в прошлом корень болезни, чтобы распечатать в настоящем источник выздоровления, так и юный Дон Кихот прежде всего ищет в прошлом смысл, чтоб навсегда обрести избавление от страха…
Однажды, когда его увели на допрос, товарищи открыли его тетрадь; там было записано, что он чувствует себя свободным и здесь, в тюрьме. Их возмущению не было предела: не считает ли он тюрьму местом, достойным партизана? Н оправдывает ли полицию, хватающую коммунистов – организаторов Сопротивления? Что вообще, говоря напрямую, он имеет в виду?
Разумеется, оправдывать полицию он не собирался, он лишь искал слова, которые были бы неотразимы, как разящие стрелы. И разве слово «свобода», которое все враги – от генерала до рядового – так ненавидели, не было одной из таких стрел?
На стене камеры смертников в Тюлле он нацарапал: «Мы не говорим здесь “история”, мы говорим – “вселенная”». Битва идет не только за историческую правду с ее сиюминутными и даже мелочными моментами; люди сражаются за мир расширяющихся смыслов. Пожалуй, он еще очень далек от понимания того, что он делает – и что он будет делать всю жизнь, – но он прекрасно осознает, что враг прячется в крошечных смысловых корпускулах: в ненависти к евреям, идее величия Третьего рейха или расовой теории, но совершенно бессилен перед любым языком, в котором эти «незыблемые опоры» теряют всякий смысл, будь то язык поэзии, язык квантовой физики или человеческого братства…
Жандармы его не расстреляли – Гатти был еще слишком крепок, чтобы запросто расходовать такой прекрасный человеческий материал. Последовала переправка в концлагерь, обязательный допрос:
– Кто ваши ближайшие друзья?
– Два немца.
– Назовите их.
– Ницше и Гёльдерлин.
Немудрено, что помимо учетного номера 73713 он носил на арестантской робе черный треугольник – знак сумасшедшего. Сумасшедшим его считали за то, что в лагере он, предчувствуя конфликт или опасность, начинал читать стихи. Они думали, что он – всего лишь жалкий псих, пытающийся отгородиться от мира стихами, которые он придумывал и запоминал по собственной методе, загибая пальцы рук, ног… Нет-нет, все могло выглядеть так, но обстояло совершенно иначе: он понял, что выжить здесь можно, только поднявшись на один уровень выше обыденности с ее повседневным языком, которым выражалось торжество оккупантов, мучение, унижение, смерть и позор. Поэзия позволяла ему уходить из концлагеря в другой, переполненный прекрасными смыслами параллельный мир.
Это не помешало (а может, помогло?) вырваться реально, воспользоваться налетом американских бомбардировщиков, чтобы бежать; при этом бежал он буквально из ворот лагеря, которые не успела закрыть охрана, конвоирующая заключенных с места работ – он один бежал не обратно в загон, а на волю!
Он шел почти месяц, хоронясь от патрулей, питаясь желудями, ночуя на вершинах деревьев. Москва, руководившая французской компартией, тщательно искореняла дух вольных стрелков, который еще жил в партизанских отрядах, когда Дон Кихот Гатти пришел в Сопротивление63. Когда он вернулся, этот дух почти повсеместно был искоренен. И хотя командир отряда, Жорж Генгуэн, был по взглядам скорее коммунар, чем коммунист, он тоже вынужден был принять предложенные правила игры, иначе его отряд не получил бы ни оружия, ни снаряжения. Командиры носили нашивки и ревниво поддерживали подразумеваемый этими нашивками статус. Кругом звучали команды, приказы. Донки, читающий на посту стихи деревьям, здесь больше не был нужен, скорее за беспечность подобного рода такого персонажа следовало бы расстрелять. Он нашел способ переправиться в Англию, поступил в школу парашютистов-диверсантов, но когда закончил ее, война тоже подошла к концу…
В 1945 году он начал работать как журналист в «Parisien Libr»; именно тогда редактор, увидев его материал, подписанный «Данте Спаситель», вызвал его и сказал: «По-моему, мой дорогой, это слишком. Что, если мы придумаем вам псевдоним и подпишем этот материал… скажем, Арман? Арман Гатти? Это звучит!»
Он принял псевдоним, хотя не думал отказываться от судьбы. За пятнадцать лет журналистской работы в самых престижных газетах и журналах он объездил весь мир или по крайней мере все страны, где пахло свежей революцией: Китай, Гватемалу, Северную Ирландию…
Революция, которой он был завещан отцом и которой так никогда и не увидел, заставляет его все глубже, все парадоксальнее вдумываться в те реалии, которые ему открываются; самым непоправимым кажется естественное безразличие, которое уже в момент победы революции или сразу вслед за нею поглощает неизвестных, часто анонимных борцов – и тех, что погибли, и тех, что выстояли. Кто вспомнил о казненных в Чикаго? Их давно забыли! Убитых во время Коммуны были десятки тысяч, во время гражданской войны в Испании – сотни, в России – миллионы… И тогда что такое эти революции, в которые они так веровали? И что это такое – революция? Или она, как Христос, не что, а кто? Тот самый маленький человек улицы, который в момент своего бунта становится «кем-то бльшим, чем человек». Для Гатти абсолютно одно: «новый человек» рождается не в будущем; вообще, если это словосочетание имеет смысл, он может появиться только в настоящем войны и крови, как Нестор Махно на Украине в 1918-м или Буэнавентура Дуррути (другая фигура революционного пантеона Гатти) в Барселоне 1936 года. Он говорит: «История пишется с начала. Новый человек уже на улицах, и история изобретает его каждый день». Для Гатти весьма сомнительно, что новый человек может родиться, вырасти и утвердиться после победы революционеров. Ибо что такое победа революции? После режимов Сталина и Мао – кто ответит? Гатти отвечает по-своему: победа революции – это отказ от власти.
Значит ли это, что в паре Сопротивление – Революция только первое несет в себе какой-то положительный ответ, надежду на обновление нашей повседневной жизни? И что в конечном счете общество, свободное от эксплуатации, от голода, от всех форм нищеты, получается, вырисовывается только в сопротивлении этой эксплуатации и неравенству, а не в результате следования неким революционным доктринам?
Ни нам, ни автору это не ведомо. Просто есть эта история во всех ее проявлениях, история Сопротивления и Революций, каждый раз начинающихся снова, и есть народ, убитые мужчины и женщины, казненные, истерзанные, которых нельзя ни отрицать, ни забыть. Они-то, безвестные, не успевшие воплотиться до конца, и двигают историю вперед. Вот, оказывается, какие мысли вынашивал в своем Сопротивлении юный Донки. «История, наша история, – это попытка дать существу его существование…» Поставленные в перекрестье сплошного вопрошания, как каждая фигура, о которой пишет Гатти, все его герои говорят на языке, дышащем необъяснимым оптимизмом, направленным против любых, самых мрачных «очевидностей». «Может быть, это и есть революция», – парадоксально заключает эту тему Ив Бено, один из исследователей Гатти. Что ж, может быть. Может быть, оптимизм – это и есть наиболее глубокая и революционная трансформация сознания…
В 1955 году Арман Гатти неожиданно получил премию за репортаж «Ваш специальный корреспондент передает из клетки с дикими зверями». Статус премии предполагал приз за репортаж, написанный в далеком путешествии, поэтому Армана срочно командировали в Аргентину. Аргентина в то время была демократической страной без признаков латиноамериканского диктаторства. За время командировки в стране произошел переворот, и Донки бежал через границу в автомобиле молодого прогрессивного врача, которого звали Эрнесто. Эрнесто Гевара. Тот еще не был революционером. Весь свой революционный путь – от встречи с Фиделем до последней пули в Боливии в 1967-м – он прошел перед глазами своего друга, анархиста с душою художника. Свой фильм об Эрнесто Гевара, каким он его знал, Арман Гатти назвал «El otro Сristobal». И хотя в 1962-м именно эта работа Гатти представляла Кубу на фестивале в Каннах, никто, включая самих кубинцев, не мог не признать, что образ великого Че представлен в весьма необычной трактовке. «El otro Сristobal» – значит другой Христофор, другой Колумб, первопроходец и первооткрыватель Нового Света, может быть, света новой революции – не той, которую возглавил его друг Фидель, а той, с образом которой он сумел стать «кем-то большим, чем человек». При этом ассоциативный ряд увлекает нас еще дальше: Колумб – Colombo – Голубь. Эрнесто Гевара = голубь революции. Возможно ли? Сейчас бренд «команданте Че» решительно не допускает такой трактовки, ибо она изнутри подрывает собственно бред, являющийся дорогостоящей товарной маркой. Но кто знает, с кем переходил аргентинскую границу Арман Гатти? А уж ему-то, поверьте, наплевать на товарные марки, его интересует истина – в том виде, в котором она стала достоянием его собственного опыта.
Он был слишком крут для этого мира. Та самая газета, которая дала ему имя, в конце концов вынуждена была отказаться от его репортажей как «оскорбляющих правительственное достоинство». Что ж, он вынужден был покончить с газетой. Журналистика не была ведь первым шагом на пути непонимания его окружающими. Пытаясь воплотить собственные взгляды, он неизбежно доходит до пределов того, что предлагается ему системой.
В конце концов из всех возможностей осталась одна – театр. Первая его пьеса – «Воображаемая жизнь дворника Огюста Г.» – была посвящена отцу и прогремела на весь Париж, когда на представление в театр «Одеон» были приглашены все парижские дворники. В 1970 году он подвел суровый предварительный итог своей работе: «Если театр – это не борьба, если его не интересуют заботы, битвы и надежды людей моего века, то он не имеет смысла… Написание пьесы требует чистой совести и ясного сознания. Того же я требую от других… Что я по-настоящему ненавижу – так это успех, “успешных” людей, все, что они вкладывают в это слово. Я твердо убежден в одном: я буду всегда, всегда на стороне угнетенных…»
Но это только половина правды. Да, он на стороне угнетенных, но последние интересуют его по-настоящему лишь в тот момент, когда они осмеливаются противостоять угнетению («страдания, если они не ведут к борьбе, становятся соучастием»), когда они утверждаются как персонажи борьбы и оставляют на этот счет свидетельство, пусть нелепое и смешное с практической точки зрения: оперу на лебедином языке или платье королевы майя. «Вопрос не в том, выиграть или проиграть. Вопрос в том, чтобы сражаться». Без этого неумолимого сопротивления не работает «принцип надежды» Армана Гатти. История ужасна в слишком многих своих проявлениях, но только сопротивление спасает ее от отвратительного торжества палачей. Сопротивление и есть надежда.
Театр выстреливал революционными пьесами, которые становились сгустками надежды; увы, нет смысла перечислять их, поскольку ни одна из них не известна ни русскому зрителю, ни хотя бы читателю. В 1969 году цензура запретила пьесу «Страсть генерала Франко». Гатти порывает с официальным театром и уезжает в Германию, чтобы там, на улицах, с актерами альтернативных театров наметить то, что он создаст потом сам, со своими. В конце восьмидесятых со своими «loulous» он начинает самую сложную работу – работу над семантикой языка. Все эти «мальчики и девочки» – отбросы общества – особенно уязвимы со стороны языка, подметил Дж. Иреленд, «ибо быть маргинальным сегодня – это быть прежде всего лишенным своего языка. Циничное присвоение языка улицы рекламой и кинематографом (в коммерческих целях) заключает этих молодых в пустоту слов, которая мешает им думать иначе, чем в терминах общества, которое их обрекло». Противостоять этой деградации слова, превращению слова в этикетку, «запустить» язык, загрузить его новыми возможностями становится как никогда политической задачей. «Быть творцом языка, быть его первопроходцем, его охранителем – значит находиться в эпицентре тех сил, которые нами управляют сегодня».
Вот это сказано!
Ну а что, что противопоставляет он, бывший юный Лермонтофф и Донки, этому безъязыкому миру? Какие гимны он поет и сохраняет ли силу его слово, которое когда-то уже не удержало его в хождении по волнам?..
Слова читают меня
Те, которые я пишу сейчас
И те, что рассеяны вокруг, в книгах
Которые мне удалось прочитать.
А что до слов моих учителей
Мишо
Чжуан-цзы
Грамши
И Рабби Абулафия —
Они поют меня…
Иногда мне кажется, что его подолгу читает и даже поет Элен – удивительная женщина, в волшебном мире которой по-прежнему неустрашимый, но сильно постаревший Донки нашел самое надежное оружие сопротивления – любовь.
Первый город, в который мы направлялись, был Тюлль. Именно там размещался знаменитый книжный магазин Пьера Ландри, который умудрился распродать треть тиража моей книги и не вернуть издательству ни одного экземпляра; позже я узнал, что великий Пьер никогда ничего не возвращает, в отличие от других книготорговцев. Он долго выбирает книги, но, выбрав, покупает нужное, с его точки зрения, количество экземпляров и уж потом распространяет их, как хочет. Мою книгу он заполюбил так, что в новом, только что отстроенном магазине выложил ее на круглом столике рядом с другим русским автором, с которым неуместно любое сравнение. И все. Больше в магазине тогда ничего не было. Только две любимые книги. Именно тогда, в марте, он звонил мне в электричку и приглашал погостить к себе домой.
Я спросил Элен, как мы поедем в Тюлль: автомобилем Жерара или железной дорогой.
– Железной дорогой.
– Почему? – Путешествие на автомобиле представлялось мне куда как более романтичным.
– Потому что Жерар переоборудовал свой автомобиль в пикап, и теперь сзади там просто кузов, в котором он развозит книги.
– Шеф издательства сам развозит книги по магазинам?
– Да. А почему бы и нет?
Я задал еще один идиотский вопрос, на который правильный ответ могла найти только Элен.
– Элен, – спросил я, – а какой вообще смысл издательству отправлять нас втроем, оплачивать нам гостиницу и все такое прочее, если мы объедем от силы пять-шесть городов и увидимся, самое большее, с пятьюстами человек?
– Вася, – сказала Элен, подумав, – такой смысл есть.
Ее убежденности просто следовало верить.
Очевидно, у французских издателей совсем другое отношение к читателям, чем у наших. Им важно показать людям писателя. Живого. Тем более русского, автора успешной книги. Тем более дать им возможность пообщаться. Это стоит затрат. И это отнюдь не прогулка по городам Франции.
Тюлль – это маленький город, который кажется большим, потому что он втиснут в долину Корреза и как бы карабкается на его почти отвесные берега; и по первому взгляду кажется, что там, за вершинами, тоже скрывается город, может быть, даже большая его часть. Но этого города нет. Там, за вершинами, – еще и еще вершины, там «плато Тысячи Коров» и лес Бербейролль, где когда-то начинал свои опыты сопротивления Арман Гатти. Здесь, в Тюлле, он сидел в камере смертников. И можно было бы даже найти дом, где была эта камера: домов-то ведь не так уж много. Все улочки круты и каскадами сбегают к реке. Несколько ключевых развилок, несколько великолепных обзорных точек, набережная, вязы, центральная площадь с собором Св. Мартена (XII век), несколько кафе на той же центральной площади и – книжный магазин Пьера Ландри. Если бы мне сказали, что некий книготорговец в Тюлле, население которого не перевалило «максимума» XVII столетия, когда город славился знаменитым оружейным заводом и мануфактурой по производству тюля и равнялось, как и сейчас, 21 тысяче человек, продал среди этого количества людей 2 тысячи экземпляров моей книги, я бы не поверил. Это невероятная цифра для такого маленького городка. Но надо знать Пьера: он заказал у «Verdier» еще тысячу экземпляров!
Когда мы вошли в librairie64 , из-за прилавка, чем-то неуловимо напоминающего барную стойку, к нам вышел человек могучего сложения, с крупными чертами лица, седой шевелюрой, в маленьких очках, болтающихся на носу, и стиснул меня так, как будто ждал всю жизнь. Почему-то я неважно понимал его по-французски (он говорил с каким-то странным акцентом), но Элен поправила обстановку. Как сказала Элен, книжный магазин Пьера – это одно из мест, благодаря которым в Тюлле можно жить. Если бы в Москве продвинутый книжный бутик имел бы такой набор книг, это составило бы ему честь. Словари по истории и по искусству, энциклопедии всех сортов, живопись, география, фотоальбомы на выбор, французский аналог «Библиотеки всемирной литературы», полный подбор классических и новых авторов. Пьер в курсе всех книжных новинок, он связан примерно с 14 директорами книжных магазинов на юге и продавливает среди них свою политику. Например, неистово продвигает мою книгу. Честно говоря, именно Пьеру я обязан своей известностью во Франции: «loges…» взяли Тюлль и покатились отсюда по всей стране…
Позже я увидел, как работает Пьер: любого, кто заходит в магазин, он горячо приветствует, усаживает за стол, угощает чашкой кофе, рассказывает о наиболее удачных, на его взгляд, новинках, которые он приобрел, и предлагает свободно пройтись и порыться в книгах. А напоследок говорит: «Но я все-таки советую тебе приобрести то-то и то-то». И друг-читатель, он начинает вертеть в руках присоветованную книгу и в конце концов покупает. Но если Пьер видит человека, который давно к нему не заглядывал, он раскрывает ему объятья, как лучшему другу, и говорит:
– Ты видел мой новый магазин?
– Еще нет.
– Ну, у тебя будет время посмотреть… Что желаешь: коньяк, вино, кофе?
На столике в центре магазина появляется рюмка коньяка, бокал вина или чашка кофе.
– Ну, расскажи, как дела, сто лет тебя не видел, – говорит Пьер.
И посетитель, может быть случайный, сдается такому напору радушия, которое излучает Пьер, и начинает рассказывать что-то про нелады с женой, про виды на урожай, про детей, про работу – ну, про что там еще рассказывают…
И вдруг Пьер говорит:
– Слушай, а я знаю, какая книга тебе сейчас нужна.
И дает ему. Ту самую. Нужную. Единственную.
И человек уходит осчастливленный.
Мы немного устали с дороги и поэтому, выпив кофе, спросили, где можно было бы сейчас пообедать.
На лице Поля изобразилась боль досады.
– Господи! – сказал он. – Тюлль не Париж – сейчас невозможно. Слишком поздно для обеда. Единственное – вот там, на углу, продают сэндвичи и салаты. Пойдите купите и идите пока домой, расположитесь…
Он дал ключ, объяснил, как идти, и в придачу к ключу еще сунул мне в руку двадцать евро.
– Нет-нет-нет, – запротестовал было я.
– Послушай, дорогой, я хотел бы тебя accueillir65, поэтому эти деньги – они не имеют никакого значения…
И каким-то добрым напутствием буквально выдохнул нас из магазина.
Мы с Элен условились, что она пойдет, отыщет своих «горных философов» и обоснуется пока у них, а мы воспользуемся гостеприимством Пьера и его жены. Поэтому, попрощавшись, мы действительно купили сэндвичи и отправились по указанному адресу. Улица была крута, узка и живописна: стены домов казались нарочно украшенными средневековым фахверком – толстыми брусьями дерева, связанными в сложную несущую конструкцию. Цвет стен Тюлля: серый. Голубые ворота. Голубые или розовые рамы окон. Почти все двери на нашей улице были огромны, так что казалось проще достучаться кольцом-колотушкой (которое представляла из себя дверная ручка) до обитателей этих домов, чем обычным ключом открыть такую… Впрочем, подалась она легко. Мы поднялись наверх, интуитивно ища глазами двери множества квартир, но дверь была толька одна: дом прежде принадлежал аристократии и строился из расчета одна квартира на этаж. Ко всему прочему дверь была приоткрыта. Этого обстоятельства в предписании Пьера не было, и мы замешкались было у этой двери, как вдруг она открылась. Миловидная, крепкая женщина в очках стояла внутри.
– Здравствуйте, – сказала она по-русски.
Мы были препровождены в кухню с камином, где очень скоро выяснилось, что Пьер и Франсуаза – оба выходцы из Канады; что прежде Пьер был барменом, но потом бросил это дело, перебрался в Тюлль, где основал свой первый книжный магазин. Потом он его расширил, задвинул местных конкурентов и со временем стал одним из самых знаменитых книгопродавцев на всем юге Франции. И уж, во всяком случае, – самым пассионарным. У Франсуазы оказалась то ли четвертушка, то ли восьмушка русской крови, и хотя это никак не сказывалось на ее русском языке, что-то неуловимо родное – то ли мимика, то ли жесты, то ли выражение замешательства – очень облегчало наше общение. Вероятно, стоило бы отдельно сказать о квартире, которую снимают Пьер и Франсуаза: она – в старинном здании XVIII века, первый хозяин был казнен в эпоху якобинского террора за то, что его сын в Англии собирал ополчение в пользу короля. Сейчас это три просторные, очень прохладные комнаты, в это время года обогреваемые только каминами, что придает им определенный шарм; открытые детали потолка – мощные, потемневшие от времени балки, создают особый колорит, особенно на кухне, где Франсуазой была устроена искусная инсталляция из скупленной старой посуды и сухих букетов. Пьер очень много читает, поэтому в доме необычайно много книг. Крашенные в белый цвет стены, сменившие напластования бесчисленных обоев, глухие ставни и чудом уцелевшая деталь прошлых интерьеров – ширмы – дополняли это скромное, но достойное убранство. Мы заняли «свою» комнату, как я понял по обилию книг и журналов по медицине – комнату Франсуазы (она врач), наскоро перекусили сэндвичами, запили своим адским чаем, и, в общем-то, пора было идти. Но описание квартиры было бы неполным, если бы была упущена одна деталь: в ней без скрипа не открывалась и не закрывалась ни одна дверь, в том числе и входная. Дом немало пожил, осел, принял очертания, приближенные к очертаниям склона, на котором он стоял…
В шесть вечера за столиками у книжного магазина Пьера уже сидела Элен, похожая на усталую и слегка простуженную птицу, с двумя своими «горными философами», которых отличали отличные зубы, обнажавшиеся при улыбке, ясный, почти детский взгляд, загорелые лица и общая подтянутость, какая-то пружинистость фигуры, четкость жестов. Рядом с Мишель, учительницей русского языка местного лицея, сидел Жерар Бобиллье, подкативший на своем пикапе к такому спектаклю и медленно, как всегда, потягивающий красное вино. Была еще публика, которой я не знал. Пьер время от времени выходил из своего магазина и из-под матерчатого козырька с удовлетворением оглядывал площадь и подошедших: как-никак, а именно он устраивал для своего сонного городка такое шоу!
По счастью, мы с Ольгой успели, ворвавшись в магазин, уже довольно-таки наполненный слоняющейся публикой, развесить на стенах фотовыставку; после этого мы перемолвились с Элен несколькими словами о том, какие отрывки мы будем читать, я еще успел сбегать через дорогу и взять две бутылки перье для нее и для меня… Ну, а потом началось! Разумеется, нам дали исполнить все части обязательной программы, но когда мы закончили, нас и не думали отпускать. Нас снимали на видео, рисовали с натуры, задавали все новые и новые вопросы… Может быть, об этом «триумфальном» вечере и не стоило рассказывать, чтобы не впасть в дурной тон. Но коль уж я впал, скажу одно: здесь постарался Пьер. В Тюлле читатели знали меня, знали из моей же книги, написанной с предельной откровенностью, – но они хотели большей откровенности и любви, которая бы соответствовала их любви к написанному. Поэтому они изорвали, истормошили и иссверлили меня всего, пока не увидели наконец, что сейчас я упаду, как раненый гладиатор. Часа полтора я подписывал книги. Одна женщина попросила подписать книгу ее внучке, которая родилась сегодня. Я не помню, какие слова находил, чтобы не повторяться. Если бы не Мишель, очень милая, как оказалось, учительница-русичка, я бы не смог выдержать этот нескончаемый поток людей, ждущих от меня, любимого автора, хотя бы одного нетривиального слова.
Жерар прохаживался среди пьющих вино, поданное Пьером, и сам потягивал маленькими глоточками, улыбаясь улыбкой сатира. Было видно, что он остался очень доволен. Нет-нет, он совсем не был так прост, наш издатель! В конце концов, какие книги он издавал? О-о, он тоже выбрал свою стратегию в жизни, он издавал далеко не простые книги, и сейчас на его глазах одна из них подорвала-таки славный город Тюлль! Помните? «Je ne sais autres bombes, que des livres»66…Пьер сиял. Он подарил людям праздник, по сравнению с которым приезд субботнего луна-парка был просто надоевшим балаганом. Зато книга стала праздником для всех. Мне поднесли фотоальбом с очень удачными фотографиями Тюлля. Я с выражениями предельно благодарности принял его. Но людям хотелось, чтобы я радовался еще больше.
– Вот здесь, смотрите (на снимке был запечатлен интерьер хлева с лежащей посреди породистой коровой), вам не кажется, что это похоже на Россию?
– Да, похоже: сено, люди. Но корова – французская.
– Корова французская?
Я не знал, как им объяснить, что и раньше-то такие породистые коровы водились только на ВДНХ. Но почему-то уперся:
– Да, корова французская.
– А люди, они похожи на русских, правда?
– Конечно. Очень похожи.
Альбом был вручен мне с дарственной надписью.
Но меня ждало еще последнее испытание: дело в том, что с того самого звонка Пьера в электричку я решил привезти ему русское издание «Острова…». И эту книгу я довез. И, как умел, подписал: «Пьеру Ландри. Человеку мечты и силы». И в какую-то минуту я достал эту книгу из рюкзака и подарил ему.
– Так и так, – говорю. – Это я привез специально для вас.
Он прочитал посвящение, и на глазах его показались слезы. Черт возьми, он был тронут до глубины души!
– Знаешь, – сказал он, отерев пальцем слезы под очками. – Иногда мне кажется, что ради таких моментов я и затеял все это дело…
И тут уже я пал жертвой его неумолимой щедрости.
– Какую книгу ты хочешь? Выбирай! – вскричал он.
– Я уже выбрал, вот: фотоальбом Николя Бувье и очень красивую, самодельную книгу местной художницы для моей дочери.
– Ну, этого мало, – резюмировал Пьер. – Хочешь полное собрание Малларме?
– Нет, – честно сказал я. – Боюсь, чтобы читать Малларме, мой французский слишком примитивен…
Тут Пьер снова стал Пьером.
Он отвел меня к барной стойке и, вкладывая все свои могучие душевные силы в произносимые слова, сказал:
– Знаешь, почему я хочу тебе подарить эти два тома? Однажды, когда дела у меня шли не лучшим образом, я взял вот эту книгу, – он взял в сильную ладонь второй том, – и прочитал письмо Малларме Верлену. И после этого я записал в своем дневнике…
Тут Пьер порылся под стойкой и действительно извлек оттуда дневник, раскрыл его и с чувством прочитал написанное. Честно говоря, я уже ничего не в силах был понять.
– Вот, – сказал Пьер. – Поэтому возьми. Придет трудная минута, и ты вспомнишь Пьера Ландри… Ты найдешь тут опору…
Отказать ему было невозможно.
Действительность плыла у меня перед глазами. Танец «желтых бабочек» давно был завершен, но люди и не думали расходиться. Теперь они хотели общаться друг с другом. Пьер достал еще ящик вина. Здесь он крутил ось мира и хотел, чтобы люди радовались…
– Почему Пьер уехал из Канады? – улучив минутку, спросил я Элен.
– Боюсь, тебе непросто будет это узнать.
Я пошел напролом.
– Пьер, – прямо спросил я, – а почему вы уехали из Канады?
Пьер не смутился.
– Я хотел сменить амплуа. Бар – это очень маленький мир подвыпивших людей. А я хотел войти в мир книг. Я уехал, чтобы читать. Чтобы прочитать, например, тебя… Считай, что книги – это и есть оправдание моего «бессмысленного путешествия» по жизни… А этот магазин – мой Остров…
Не знаю, что там стояло такого за всей этой обезоруживающей откровенностью. Мир жизненных передряг может быть крайне запутанным. Но Пьер сказал правду – он обрел необъятную вселенную и совсем другой тип отношений между людьми посредством иных смыслов.
Под конец вечера меня интересовали еще только два человека – те самые «горные философы», у которых остановилась Элен. Мы подошли к ним. Они повернулись к нам не только своими загорелыми лицами, но и, казалось, всей душой. Я попросил Элен перевести. Сам я говорить уже не мог. Язык болтался в моей пасти, как у собаки.
– Я хотел бы знать: с тех пор как они уехали туда, в 1968-м, прошло сорок лет. И что они сделали за это время?
Элен перевела.
– Коммуну, – решительно отвечала маленькая, гораздо более энергичная, чем ее спутник, женщина.
– Но вы же должны как-то общаться с миром? Вы нашли там, скажем так, свой остров, но надо же что-то и поведать людям о нем?
– Нет-нет, никаких контактов, – не поняла меня горянка. – Все свое: хозяйство, школа, жилища…
– Но вы же философы, вы ушли не только для того, чтобы доить коз, рожать детей и ткать холсты, правда? Вы должны что-то вернуть миру, хотя бы в виде опыта, идей…
– Идей – да. – Было видно, что это женщина действия и не знает сомнений в повседневной жизни.
– И что это за идеи?
В ее чистых глазах промелькнул голубой восторженный блеск:
– Бакунин.
Так вот где все еще звучит эхо твоих слов, Мишель! Как странно все. Я только зимой закончил статью о Бакунине. И думал, что слова эти отзвучали уже лет девяносто назад…
Потом была дорога домой по горбатым ночным улицам, среди домов, казавшихся фантастическими готическими декорациями при свете луны. Просторная комната, прохладная постель, глухие ставни…
Уезжая на следующее утро, я совершил маленькую подлость: сделал вид, что «забыл» подарок Пьера – двухтомник Малларме – на столе за вазой. Он бы все равно не влез в чемодан. По счастью, Пьер не мог заметить этого – он уже ушел в свой магазин. В воскресенье в скучном Тюлле все магазины закрыты. Кроме одного – книжного магазина Пьера Ландри.
Пробуждение: чистые белые стены. Огромная, толстая, как подушка, и, как подушка, квадратная перина поверх одеяла. Кисейные занавески, черный стул с кожаным сиденьем у окна. На нем сложены наши вещи. Как будто кто-то зашел в кадр старого-старого фильма и оставил там эти вещи. И они там не то чтобы неуместны, просто их привнесенность очевидна. Справа от меня – круглый столик орехового дерева с бежевым фарфоровым кувшином для умывания, слева – зеркало, на мраморной столешнице которого стоит большая, толстого стекла бутылка с питьевой водой. За окном – сад; вернее, бывший виноградник с растущими когда-то по окоему черешневыми деревьями, осыпанными крупными спелыми ягодами. Ясное ощущение, что путешествие во времени возможно. Нет, не так: само время нелинейно и сохраняет множество параллельных русел для своего течения, в том числе и попятного. Сейчас мы оказались в настоящем прошлого. Прованс. Арль. Время поездки туда Гогена и Ван Гога – живое, никакое не законсервированное, а подлинно живое время настоящего прошлого. 1898 год. Только в комнате у Ван Гога кувшин был не бежевый фарфоровый, а обычный, синий эмалированный. А так – узнаваемость полная.
У нас так больше уже нигде не может быть. Разве в каком-нибудь староверском селе. У нас время издрипано, опростано, обесточено. Его все гонят-погоняют вперед, к будущему без прошлого, и оттого все меняется с такой скоростью. За десять лет – до неузнаваемости. Как будто не живем, а декорации строим. А здесь со временем происходят какие-то медленные, органические процессы. Помните: Ван Гог, «Красные виноградники в Арле»? Ну вот, они не изменились. Разве что им далеко еще до красноты: лоза только-только еще окрепла, май. Да и крестьяне подразъехались из этих мест, их не увидишь столько, сколько на полотне Ван Гога. Так что и часть виноградников пришлось вырубить. Вчера я видел черные, сухие витые корневища виноградной лозы, сложенные в кучи у амбара. Ими отлично топится камин. И пепел при сгорании остается такого благородного серого цвета, будто сигарный. Там же, у амбара, стояло колесо телеги. Вернее, не телеги – потому что это было больш-о-ое колесо, – а повозки, в которой ездили по виноградникам, собирая виноград. Так что в настоящем прошлого тоже, конечно, происходили изменения. Но важно, что нигде не было видно следов его, прошлого, торопливого уничтожения. Прошлое не подвергалось здесь террору и экспроприации со стороны будущего. Поэтому его так много. Поэтому связь времен не разорвана, поэтому оно все еще прекрасно, как старый сад. Да, скажем – сад. Тут садовник решил превратить грядки в площадку для конного выезда, а тот угол сада совсем заглох, задичал. И вот именно в этих задичавших углах возможны почти невероятные прорывы во временной противоток – в прошлое. В настоящее прошлое без дураков, как на машине времени. Утром я сбегал к ручью, через который за сто лет так и не наложили мост, к тому месту, которое я заметил еще вчера. И вот, было ощущение, что я бегу-бегу и вдруг – бац! – с размаху влетаю прямо в цитату: Клод Моне. «Маки». 1873 год. А когда я вернулся из своей цитаты, Жерар уже развел огонь в камине, накрыл белой скатертью стол, нарезал сыр, выставил вино и, кажется, немного пригубив, принялся готовить омлет. Все, все в кухне было так, как 100 или 130 лет назад, – камин, тарелки на стенах, сковороды, белый абажур, умывальник со сливом в таз…
Так случилось, что главным впечатлением от поездки в Прованс остался у меня этот дом. Когда-то, в прошлом прошлого, это была овчарня, но потом прадед, что ли, Колетт Олив (заместительницы Жерара по делам издательства) перестроил овчарню в дом, придав ему тот вид, который он в основном сохранил до сих пор. Есть только один холл на втором этаже с большим окном (вид на горы), откуда разведены в туалет и ванную современные коммуникации: холодная и горячая вода из крана, электрическое отопление… Холл тоже отапливается электричеством. А в остальных комнатах по-прежнему греются не батареями, а перинами, и у изголовья каждой кровати по-прежнему стоит столик с кувшином для утреннего умывания. Вы, может быть, спросите меня – зачем? При современных технологиях… И потом, это же не просто так, чей-то дом, – это, считай, летняя резиденция всего издательства «Verdier». Все они отсюда, с юга. Жерар так вообще здесь за своего. И, казалось бы, издательство могло все устроить по-человечески. Но не устроило. Почему? – спрашивал я себя. И я нашел ответ. Но я скажу его потом, а сейчас просто буду рассказывать и рассуждать о том, что в этой приверженности старине мне нравилась упругость и неподатливость здешнего времени, оно неожиданно обнаруживало качество сопротивления и противотока, порождая химерические формы противодействия настоящему: в виде вышедшей из употребления посуды, старых бутылок, мельничных камней, конусов для просушки бутылок перед розливом вина… Эта нелинейность времени делает его живым, ветвящимся, как дерево. Но главный вопрос в другом – что обретает, обитая в таком времени, человек?
В Прованс мы приехали по настоянию Жерара, чтобы поучаствовать в открытии нового книжного магазина в аббатстве (название забыл) возле крошечного городка Лаграсс. Это было принципиально: сколь бы ни мал был городок, на «своей» территории издательство должно было держать позицию. На вокзале в Каркассоне нас встретил человек, настолько похожий на Даниила Хармса, что не оставалось ни малейшего сомнения, кто это. Пряди длинных волос падали по обе стороны высокого лба. На переносице сидели роговые очки. При этом на голове была фетровая шляпа – совершенно нашенская шляпа, единственная, которую я видел во Франции вообще. Конечно, это мог быть только переводчик Хармса Иван Миньо. Тот самый, с которым Элен «орала» тексты Хармса, бегая по лесу, чтобы почувствовать тона и полутона его речи. Теперь Иван занят другой непосильной задачей – переводами Хлебникова. И, в общем, судя по степени «сумашечести», именно ему это, возможно, удастся. Иван при всей своей неотмирности оказался владельцем модного автомобиля и отличным водителем. Мы не успели разобрать и нескольких хлебниковских метафор, в которых отразились жуткие реалии русской Гражданской войны – харьковская чека, Саенко. Выдавливал пальцами людям глаза… – как уже были в аббатстве. До выступления оставалось пять минут. Порция резаных помидоров и чашка кофе с дороги должны были подкрепить наши силы. Мы с Элен отлично выдержали двухчасовую программу, найдя в себе даже силы для импровизации, но когда в конце этого действа одна пожилая соотечественница попросила меня надписать ей книгу по-русски, я вдруг ощутил себя в звенящей пустоте…
Она вежливо подождала минуты две, потом спросила:
– Что, писать по-русски трудно?
Я хотел сказать, что иногда – очень. Особенно после такой штуки, как Тюлль. Но, ничего не сказав, я сделал над собой усилие и – ну да, написал что-то хорошее.
После Тюлля я был совершенно пуст. Почти мертв.
А потом Жерар привез нас в этот дом, окруженный черешневыми деревьями, и я понял, что оживаю, и более того, с каждым шагом внутри или вокруг дома я становлюсь все живее и живее… Из чего ткалась эта сила, я не знаю, но, думаю, ею обладали и предметы, в которых, в свою очередь, были свернуты те самые времена, о которых я говорил вначале. Я отснял внутри и вокруг дома кадров сто и к вечеру был уже в полном порядке. Я ловил кайф от каждой комнаты, от каждой книги, от старой – голубой и белой – эмалированной посуды, планировки комнат, огня в камине, отблесков огня на стенах…
Жерар, которому никогда нельзя было отказать в наблюдательности, вдруг предложил нам маленькую экскурсию по окрестностям. Сначала мы поехали на склад издательства, разместившийся в старой винодельне. Господь свидетель, запах вина еще не выветрился оттуда, какими-то рудыми потеками вино проступало на потолке, у чаши слива…
– Здесь виноград загружали в корзины и лебедками поднимали наверх. Там, где сейчас пятно на потолке, был чан давильни. Отсюда оно сбегало в бочки… Пахло дубом, свежим красным соком, кислым жомом, горьковатыми косточками, человеческим потом… Наверху несколько человек, негромко переговариваясь между собой, давили виноград босыми ногами. Скрипел ворот, поднимая наверх Преполненные корзины… Кипучий красный сок сбегал по желобу в очередную бочку. Я отхлебнул немного свежей виноградной крови… и очнулся.
Последний глоток исцелил меня окончательно.
Как замечательно, что издательство устроило склад своих книг имено здесь, а не в каком-нибудь цементном подвале или железном ангаре. Я не буду дальше развивать эту очевидную мысль, но в таком случае все было бы иначе…
На стене одного из домов в Лаграссе, куда мы приехали поужинать, можно прочитать примерно такую надпись: в этом доме с начала XVII по середину XVIII века проживали метафизик такой-то, философ такой-то, астроном такой-то и математик такой-то… Редкий и драгоценный подбор, достойный семейства Буэндиа (выдуманного, однако, великим Маркесом). При этом Лаграсс – это действительно крошечный город с населением в 700 человек; у нас такое поселение как город не удержалось бы, расползлось бы деревней; но во Франции, как показал опыт, оно лучше сохранилось в миниатюрных городских формах – узеньких улочках, крошечной площади, церкви, домах, глухими стенами, образующих как бы городскую окружность, и аббатстве через заросшую камышами речку. Я силюсь представить себе это место в прошлом прошлого – то есть во времени, еще более отдаленном от нас, чем время Ван Гога и Гогена. И я вижу живым этот город, вижу красные виноградники и винодельни вокруг, вижу крестьян, приезжающих на рынок, и жизнь, преисполненную разнообразными смыслами, как плодами, о чем так красноречиво свидетельствует семейство метафизиков и философов, проживающее в доме неподалеку от центральной площади. Жизнь людей не была так жестко обусловлена, как сейчас. Она подчинялась неизменным ритмам природы, но в то же время была лишена тех линейных зависимостей, в которые погружает цивилизацию наших дней власть денег. В прошлом прошлого найдется место и для тяжкого крестьянского труда, и для праздника урожая, и для любви, для всей той сакральной жизни, которая сопровождает человека от рождения до смерти (аббатство), ну и, наконец, для пытливых взглядов в глубину материи, в глубину человека, в глубь неба и чисел… Разумеется, сегодняшняя Франция вовлечена в мировые процессы глобализации, которые подразумевают прежде всего нивелировку человека. Но от патологических и болезненных последствий этого процесса она защищена традицией, в том числе и миром вещей, которые образуют миры со специфическими свойствами пространства/времени. И это позволяет человеку оставаться многомерным, не превращаться в человекофункцию. Француз твердо ощущает свою почву, свои корни. Roots, как говорят в Америке. Поэтому он не будет выбрасывать старую посуду ради новой и даже модной, перестраивать дедов дом в соответствии с предписаниями новейшего архитектурного журнала и даже закрашивать пятно на потолке бывшей винодельни, используемой под склад или под что угодно. И даже неудобства быта (элементарное отсутствие центрального отопления) он не принесет в жертву одномерности. В конце концов, перина и грелка защищают от холода ничуть не хуже батареи, а живой огонь в камине, право же, стоит больше, чем этакая дура современного отопительного котла… Поэтому, кстати, и Иван Миньо, которого при одномерном взгляде на мир запросто можно записать в придурки, здесь превращается в редкого, драгоценного человека, метафизика слова…
Помню, я сказал Элен, что вот во Франции немало, должно быть, богатых людей, но я нигде не вижу их домов – ни одного, грубо говоря, коттеджного поселка, как в России, ни одной виллы, которая резко отличалась бы своей архитектурой и размерами – ничего такого…
– Во Франции не может быть коттеджного поселка, – сказала она, усмехнувшись. Это Голливуд родил коттеджный поселок со всей его психологией: если у тебя есть коттедж – ты преуспеваешь, ты звезда. Если нет – ты так, остальное население, лузер, неудачник. Эта жесткая, как приговор, смысловая решетка превращает жизнь современного общества в концлагерь, вырваться из которого можно, только перейдя на уровень более высоких смыслов (Гатти!) – поэзии, метафизики, виноделия, чего угодно. Современный российский коттедж – плод стяжательства или безудержной эксплуатации нефтегаза – это знак человеческой одномерности и одновременно отторжения и жестокости по отношению ко всему, что не такое же. Сопротивление ослаблено, потому что вырождение идет как на уровне языка, так и на уровне деградации временных потоков. Корни подрезаны. Две-три бабки, оставшиеся в живых на всю деревню, не могут быть полноценными носителями традиции и памяти. И все же сопротивление не бесполезно. Оно в чтении других книг, изучении других языков, в другом образе жизни, другой манере одеваться и общаться между собой. Точнее говоря – в осознании того, что только отказ от навязанных стандартных ценностей способен спасти нас от морального фашизма нефтегазового комплекса, всеми силами старающегося распространить свое понимание жизни на все население страны и/или превратить всех не своих в одураченных соучастников преступлений власти. Может быть, читать стихи деревьям, как делал Арман Гатти в отряде Сопротивления, так же наивно, как уезжать из столицы в деревню, замещая или даже создавая новый народ, писать картины, устраивать фотовернисажи в Интернете или искать живые стихи в грудах мертвой поэзии, но, кажется, само осознание того, что Сопротивление есть, – оно важнее всего. Только зная, что там, наверху, на плато Тысячи Коров, сидят невидимые партизаны, можно надеяться однажды сказать власти и ее холуям: не думайте, не вы хозяева страны. Не вы – носители нового духа времени. Вы – просто переводные картинки мировой глобальной Сети. Мутанты. Клоны. Предатели. И победа – она обязательно будет за нами. Клянусь кувшином для утреннего умывания!
На Марсель шел мистраль; он шел с севера, спускаясь по течению Роны, – резкий, порывистый ветер с вкраплениями дождя. Говорят, когда дует мистраль, все женщины в Марселе сходят с ума. Очевидно, я реагировал на действительность по-женски: Марсель мне сразу не понравился. Не понравилось ни сходство его с Одессой, о чем с гордостью говорят все одесситы, не понимая, что гордиться вызывающей провинциальной эклектикой – глупо. Не понравилось, что, как в глубокой провинции, большинство ресторанчиков закрывались здесь уже в восемь часов. Не понравилась комната на 6-м этаже отеля «Belle Vue»67 – низкий каземат под самой крышей, в котором я мог выпрямиться в полный рост лишь у самого входа. Слава богу, был еще только май и это прибежище отверженных не успевало как следует прокалиться за день. Вид из окна, правда, был недурен: прямо по курсу бухта старого порта, забитая тысячами частных яхт и туристскими теплоходами; на левом траверсе – собственно город, вываливающийся к бассейну старого порта по улице Каннебьер, в тени домов которой сидели десятки бродяг и темнокожих выходцев из Магриба, здесь, в отличие от Парижа, предпочитающих носить африканское платье, не меняя его на европейское, и, наконец, на правом траверсе – старые форты, закрывающие вход в порт и замок Фаро. Однако, чтобы разглядеть все это, надо было, согнувшись, протиснуться к окну, вернее, к смотровой щели высотой никак не более 40 сантиметров и отдраить его, чтобы впустить в склеп хотя бы глоток свежего воздуха. Элен, как всегда, уехала ночевать к каким-то своим знакомым, предварительно договорившись с нами, что завтра в десять мы встретимся в нашем чудном отеле в кафе «Каравелла», названном так, вероятно, потому, что там имелся крошечный балкончик, который с пьяных глаз можно было принять за капитанский мостик. Когда мы с Ольгой вышли в город, уже стемнело. Кругом светились огни плохих туристских ресторанов. Мы выбрали самый плохой и самый дорогой и съели по отвратительному куску пиццы. Пробрызнул дождь. Прогулка по набережной вокруг старого порта в надежде выйти к морю привела нас в гущу самой многолюдной пьянки, которую мне доводилось видеть за последние годы: она охватывала примерно полквартала вокруг пивной «Гиннесс» и колыхалась, как нефтяное пятно на воде. Как удалось выяснить, сегодня к Марселю подошли два американских эсминца, и, перефразируя слова из песенки моего детства, «на берег сошли, по трапу перешли пять тыщ американских морячков». Все они, не зная города, болтались возле пивной, пили, пели, блевали, хватали девок и валялись на газонах. Пахло солдатчиной, шлюхами и грязной морской водой. Обойдя наконец залив порта, мы попробовали просунуться к морю по незаметной, но культурно обустроенной дорожке. Это нам не удалось: за шлагбаумом оказалось частное владение. Дальше дорога пошла в гору. Мы все еще не потеряли надежды посидеть на прибрежных камнях. Вскоре справа открылся крошечный парк, в центре которого стоял памятник. На скамейке вокруг него не спеша укладывались спать два бомжа. Я подошел к памятнику и прочитал, что он установлен здесь в честь Месака Манучана, командира группы французского Сопротивления, расстрелянного здесь вместе с 22 товарищами. Ниже был приведен список расстрелянных. Я прочитал: Юзеф Пучо, Марсель Раймон, Ольга Бансик, Силестино Альфонсо, Жорж Клоарез, Рино де ла Негро, Тамас Флек, Моска Фингерцвайс, Спартако Фонтано, Ионе Цудульдик, Эмерик Глаш, Лайб Гольдберг, Сламак Кришвач, Станислас Кубацки, Чезаре Лукарини, Роже Руксель, Антонио Сальвадори, Соломон Шапиро, Арпен Тавитян, Амадео Осеглио, Вольф Вайсброт, Роберт Витчиц…
Я знал из истории Гатти, что все расстрелянные принадлежали к так называемой «банде Манучана» – одному из самых кровавых партизанских отрядов, на счету которого было 56 покушений, 150 убитых и 600 раненых военнослужащих врага. Это кровавое геройство и методы, которые применял отряд, оспаривалось еще в годы войны самими партизанами. Как ни странно, именно в «банде Манучана» оказался Роже Руксель – удивительный юноша-идеалист, судьба которого всегда волновала Гатти. Он был расстрелян накануне своего восемнадцатилетия. Его предсмертное письмо любимой знают все школьники Франции:
«Пишу тебе первое и последнее письмо, которое не слишком весело. Меня приговорили к смертной казни, и сегодня в три часа пополудни меня расстреляют вместе с многими товарищами. Прошу тебя, будь мужественна. Я умру, думая о тебе до последней секунды моей жизни… Я умираю без страха за свою родину. Прошу тебя – будь счастлива, как ты этого заслуживаешь. Найди доброго, честного человека, который сумеет сделать тебя счастливой. Помни обо мне, как ты хотела, но знаешь, я скажу тебе одну вещь – никто не живет с мертвыми. Я мечтал о прекрасном будущем для тебя и для меня, но судьба распорядилась иначе…» Роже Руксель мог бы стать не менее романтической фигурой французского Сопротивления, чем Донки – но он избрал путь прямой, не знающей пощады борьбы. Я понимаю, что большинство людей скажет: «Ну и правильно; война есть война, и когда приходит время убивать – надо убивать». Но я думаю: человечество убивает на протяжении пяти тысяч лет своей истории. И что, в результате – есть победители? Люди изобретают все более совершенные и сложные механизмы убийства – и что, в результате они избавились от своих проблем? Кто скажет – зачем велись войны последних двадцати лет, в которых, как утверждалось, «добро» торжествовало над «злом»? У меня слишком мало собственных мыслей, чтобы ответить на все эти вопросы, но я согласен с Арманом Гатти: существует беспощадная история с ее войнами, революциями, мучениками и невинными жертвами. Но ответ на исторический вызов, на ужасающую бессмыслицу истории может быть различным. Протест может быть и символическим. На вызов Гражданской войны Велимир Хлебников ответил своими стихами, как позже ответил Донки. «Студенческая революция» 1968 года была чисто карнавальным действом, которое привело к глубоким преобразованиям всей жизни Франции. Можно ли было каким-то символическим образом расправиться с фашизмом? Опыт войны, которую вела наша страна, и той, которую вели против немцев союзники, подсказывает как будто однозначный ответ: нет. Этого монстра можно было только убить. Но я знаю также, что и само рождение монстра в мюнхенской пивной, его выкармливание, неудачная попытка приручить и последующее коллективное убийство были обусловлены низостью интересов и скудостью смыслов окружающего человечества. Так что борьба за полноту смыслов есть, может быть, самая главная борьба в человеческой истории. Я знаю, со мной легко спорить. Но пусть те, кто со мною не согласен, поспорят с Иисусом Христом. Я не хотел бы говорить об Иисусе. Я хотел бы только увидеть Его лицо…
Утром меня разбудили какие-то странные хлопки, доносившиеся с улицы. Я выглянул из своей амбразуры: справа, по нашей стороне залива старого порта, набережная была перегорожена железными заграждениями, по одну сторону которых была жандармерия, по другую – густая человеческая толпа. Со стороны жандармерии иногда в эту толпу вместе с хвостиком дыма летел хлопок непонятного свойства. Будь оно неладно, подумал я. Если они перекроют еще метров двести, мы не сможем встретиться с Элен! Почему-то это побудило меня к поторапливанию жены, хотя таким образом я не мог ни оттянуть, ни приблизить время нашей с Элен встречи. В конце концов в половине десятого мы спустились в «Каравеллу», взяли два несъедобных круассана и по чашке кофе. Какой-то журналист с балкона наблюдал за событиями на набережной и по мобильнику тут же передавал новости в редакцию. Ровно в десять появилась Элен в сопровождении подтянутого парня лет 45 по имени Жан-Франсуа, с которым она делала один из своих фильмов, с лица которого никогда не сходила доброжелательная, но слегка ироничная усмешка. На нем была полосатая рубашка, красные кроссовки и какие-то невообразимые, слегка коротковатые джинсы с дыркой на колене. Жан-Франсуа пожал мне руку и улыбнулся этой своей усмешечкой, которую можно было истолковать как угодно, если бы я по опыту уже не знал, что передо мною – один из сопровождающих Элен братьев, один из партизан с плато Тысячи Коров, шутовская внешность которого призвана то ли обозначить, то ли завуалировать глубочайший протест против Взрослого Мира Серьезных Людей. Разумеется, внешность была обманчива, как и у всех «сумашечих» Элен: за шутовским обличьем скрывался мастер высокой пробы. Жан-Франсуа был превосходным звукооператором. Похоже, столпотворение на улице никак не влияло на настроение Элен и Жана-Франсуа. Они заказали по чашке кофе и приступили наконец к делу.
– У нас выступление в семь часов вечера, – сказала Элен. – Чем вы хотите сегодня заняться?
На этот счет у меня был однозначный ответ:
– Я хочу любой ценой убраться из города и провести время до вечера где-нибудь на море.
Жан-Франсуа сказал, что его машина в нашем распоряжении.
– Ну, тогда собирайтесь, – сказала Элен. – Что вы хотите делать на море? Купаться?
– Конечно, – сказал я. – Надо подняться за плавками и за полотенцем.
Когда, вскарабкавшись на шестой этаж, я открыл дверь нашего номера, со стороны набережной раздался залп. Похоже, события приобретали все более крутой оборот. Я успел найти плавки и полотенце и сунуть их в рюкзак, как вдруг в амбразуру окна жестко потянуло слезоточивым газом. Я бросился к окну, чтобы задраить его, но было поздно: должно быть, ветер переменился и наша комнатушка вмиг наполнилась невообразимой для дыхания смесью. Инстинктивно применяя какую-то сложную систему вдохов и выдохов, я вышел из номера, закрыл дверь на ключ и стал спускаться вниз по лестнице. Однако вертикальная шахта подъезда гостиницы, похоже, идеально втягивала в себя газ, как печная труба – дым, так что о том, чтобы дышать здесь, не могло быть и речи. Разбавленный газ немилосердно драл глаза. Когда я сбежал наконец на второй этаж в «Каравеллу», в моих легких уже не оставалось воздуха. Как ныряльщик, занырнувший слишком глубоко, я рванулся к балкону, от которого тянуло живительным сквозняком, и сделал пару освежающих вдохов. Журналист, прежде освещавший события с этого самого балкона, сидел теперь у стойки, сморкался в платок и пил кофе. Элен, Жан-Франсуа и Ольга тактично покашливали, как бы давая мне понять, что здесь ничего серьезного не случилось.
– Прежде чем ехать на море, нам надо зайти в «Les Orades»68, где мы будем выступать вечером, – сказала Элен. – Предупредить их, что мы приехали.
В это время с набережной раздался второй залп.
– По-моему, пора уходить отсюда, – сказал Жан-Франсуа со своей неизменной улыбкой.
В балконный проем опять потянуло газом.
В результате мы, как говорится, ретировались быстрее, чем позволяют правила приличия.
На улице атмосфера была не столь ядовита.