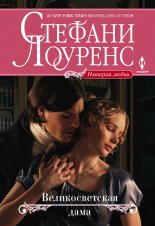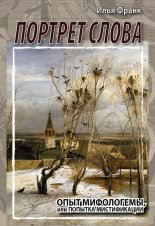Опыты Монтень Мишель

Я до того восприимчив, совершенно не отдавая себе в этом отчета, квнешним и поверхностным впечатлениям, что если три дня подряд у меня несходило с уст «ваше величество» или «ваше высочество», то еще с добруюнеделю они будут срываться с них вместо «вашей светлости» или «вашеймилости». И что я примусь говорить в шутку или ради забавы, то на следующийдень я скажу совершенно всерьез. Вот почему я с большой неохотой пользуюсь вмоих сочинениях простыми доводами и доказательствами — я страшусь, как быони не были позаимствованы мной у других. Всякий довод для меня одинаковоплодотворен. Я извлекаю их из любой безделицы — и да пожелает господь, чтобыи те, которыми я сейчас пользуюсь, не были подхвачены мною по внушению стольсвоенравной воли. И что из того, что я начинаю с тех доводов, которые мнепочему-либо понравились; ведь все, о чем бы я ни говорил, связано друг сдругом неразрывными узами.
Но я недоволен моею душой, потому что все свои наиболее глубокие мысли,наиболее дерзкие и больше всего захватывающие меня, она порождает, какправило, неожиданно и тогда, когда я меньше всего гоняюсь за ними; эти мыслиприходят внезапно и в таких местах, где я не могу их закрепить; онинастигают меня, когда я на коне, за столом, в постели, но больше всего,когда я еду верхом и веду сам с собой наиболее продолжительные беседы. Мояречь несколько щепетильна и нуждается во внимании и тишине, если я говорю очем-либо важном: кто прерывает меня, тот вынуждает замолчать. В путешествиинеобходимость следить за дорогой пресекает беседу; к тому же я чаще всегопутешествую без попутчиков, способных поддержать связные разговоры; вотпочему у меня в пути бывает сколько угодно досуга беседовать с собою самим.И тут происходит то же, что и с моими снами; видя сны, я препоручаю их моейпамяти (я то и дело вижу во сне, что мне снится сон), но назавтра я могупредставить себе не более, чем их краски — веселые, или грустные, иликакие-то странные; но в чем, собственно, состояло содержание моих снов,сколько бы я ни силился установить, я все глубже погружаюсь в забвение. Также обстоит дело и с этими случайными, западающими в мою фантазию мыслями; уменя в памяти запечатлевается лишь их расплывчатый образ, который толькопобуждает меня к тщетным попыткам восстановить забытое и бессильнодосадовать на самого себя.
Итак, оставив в стороне книги и переходя к вещам более осязательным ипростым, я нахожу, что любовь, в конце концов, не что иное, как жаждавкусить наслаждение от предмета желаний, а радость обладания — не что иное,как удовольствие разгрузить свои семенные вместилища, и что оно делаетсяпорочным только в случае неумеренности или нескромности.
Для Сократа любовь — это стремление к продолжению рода при посредстве ис помощью красоты. Но если обдумать все: забавные содрогания, неотделимые отэтого удовольствия, нелепые, дикие и легкомысленные телодвижения, на которыеоно толкает даже Зенона или Кратиппа [133], непристойную одержимость, нашуярость и жестокость, искажающие лицо человека в самые сладостные мгновениялюбви, и затем какую-то непреклонную, суровую, исступленную важность привыполнении столь пустых действий, а также то, что здесь вперемешку свалены инаши восторги и отбросы нашего тела и что высшее наслаждение связано собмиранием и стонами, как при страдании, — я считаю, что Платон прав,утверждая, что человек — игрушка богов [134],
- [quaenam] ista iocandi
- Saevitia! [135]
и что природа, насмешки ради, оставила нам это самое шалое и самоепошлое из наших занятий, дабы таким способом сгладить различия между нами иуравнять глупого с мудрым и нас с животными. И когда я представляю себе затаким делом самого вдумчивого и благонравного человека, он начинает казатьсямне наглым обманщиком, выдающим себя за вдумчивого и благонравного; это ногипавлина, принижающие его величие:
- ridentem dicere verum
- Quid vetat? [136]
Кто, предаваясь забавам, отметает от себя серьезные мысли, те, каксказал кто-то, похожи на боящихся приложиться к фигуре святого, если она неприкрыта набедренною повязкой.
Мы едим и пьем совсем как животные, однако это такие занятия, которыене препятствуют деятельности нашей души. В этом мы сохраняем преимуществоперед ними; но что до занятия, являющегося предметом нашего рассмотрения, тооно сковывает всякую мысль, затемняет и грязнит данной ему над намибезграничною властью все высокоумное и возвышенное, что только ни есть уПлатона в его теологии и философии, и тот все же ничуть на это не жалуется.Во всем другом вы можете соблюдать известную благопристойность; все прочиеваши занятия готовы подчиниться правилам добропорядочности, но это — его ипредставить себе нельзя иначе, как распутным или смешным. Попытайтесь-ка,ради проверки, найти в нем хоть что-нибудь разумное или скромное! Александрговаривал, что оно-то, главным образом, да еще потребность во сне побуждаютего признавать себя смертным; сон гасит и подавляет способности нашей души;половое сближение также рассеивает и поглощает их. И оно, разумеется, —свидетельство не только нашей врожденной испорченности, но и нашей суетностии нашего несовершенства.
С одной стороны, природа, связав с этим желанием самое благородное,полезное и приятное изо всех своих дел, толкает нас на сближение сженщинами; однако, с другой стороны, она же заставляет нас поносить его, ибежать от него, и видеть в нем нечто постыдное и бесчестное, и краснеть, ипроповедовать воздержание.
Ессеи [137], как сообщает Плиний [138], обходились на протяжении многихстолетий без кормилиц и без пеленок, что было, впрочем, возможно благодаряпритоку к ним чужестранцев, которых привлекали их простые и благочестивыенравы и которые постоянно пополняли их численность. То был целый народ,предпочитавший скорее исчезнуть с лица земли, чем оскверниться в объятияхженщин, и скорее потерять сонмы людей, чем зачать хоть одного человека.Передают, что Зенон лишь один-единственный раз имел дело с женщиной, да ито, можно сказать, из вежливости, дабы о нем не подумали, что он упорныйненавистник этого пола [139]. Всякий избегает присутствовать при рождениичеловека, и всякий торопится посмотреть на его смерть. Чтобы уничтожить его,ищут просторное поле и дневной свет; чтобы создать его — таятся в темных итесных углах. Почитается долгом прятаться и краснеть, чтобы создать его, ипочитается славой — и отсюда возникает множество добродетелей — умениеразделаться с ним. Одно приносит позор, другое — честь, и получается совсемкак в том выражении, которое, как говорит Аристотель, существовало в егостране и согласно которому оказать кому-нибудь благодеяние означало убитьего.
Афиняне, дабы подчеркнуть, что они испытывают равную неприязнь как кпервому, так и к второму, и стремясь освятить остров Делос и оправдатьсяпред Аполлоном, воспретили в пределах этого острова и роды и погребения [140].
- Nostri nosmet poenitet. [141]
Наше существование мы считаем порочным.
Известны народы, у которых принято есть, накрывшись [142]. Я знаю однудаму — и из самого высшего круга, — которая уверяет, что смотреть на жующихмалоприятно и что при этом они очень теряют в привлекательности и красоте,так что на людях она крайне неохотно притрагивается к пище. И я знаю одногочеловека, который не выносит ни вида едящих, ни того, чтобы кто-нибудь виделего за едой, и он больше избегает чьего-либо присутствия, когда наполняетсебя, чем когда облегчается.
В империи Султана можно встретить множество людей, которые, дабывозвыситься над остальными, насыщаются так, чтобы никто их при этом невидел, и они делают это всего раз в неделю; которые раздирают и надрезываютсебе лицо и другие части своего тела; которые никогда ни с кем неперемолвятся ни единым словом, — все это люди, считающие, что они воздаютчесть своему естеству, лишая его естественности, возвыщаются, уничижаясь, иулучшаются, портя себе жизнь [143].
Но до чего же чудовищно животное, которое внушает ужас самому себе,которому его удовольствия тягостны и которое по собственной воле обрекаетсебя несчастьям!
Есть и такие, которые таят свою жизнь,
- Exilioque domos et dulcia limina mutant, [144]
и прячут ее от других, которые бегут от здоровья и веселости, как откачеств злостных и пагубных. И не только немало сект, но и немало народовпроклинает свое рождение и осыпает благословеньями смерть. Есть и такойнарод, которому солнце представляется отвратительным и который поклоняетсямраку [145].
Мы щедры на выдумки лишь в одном, а именно, как бы причинить себе зло,и оно, поистине, дичь, гонясь за которой, мы растрачиваем силы своего ума,этого опасного орудия нашей беспутности!
- О miseri! quorum gaudia crimen habent. [146]
О несчастный человек! У тебя и так достаточно неотвратимых невзгод, аты еще умножаешь их надуманными; ты и так достаточно жалок, незачем тебеумышленно делать свою участь еще более жалкой. У тебя более чем довольноощутительных и самых что ни на есть настоящих уродств, чтобы создаватьвдобавок и воображаемые. Ужели ты мнишь, что слишком благоденствуешь, если ктвоему благоденствию не примешивается неудовольствие? Ужели ты мнишь, чтовыполнил все обязанности, которые на тебя возложила природа, и что онапокинет тебя или перестанет тебя направлять, если ты не возьмешь на себяновых? Ты ничуть не страшишься преступать ее бесспорные и всеобъемлющиезаконы и цепляешься за свои собственные, фантастические и личные, и чемпричудливее, туманнее и противоречивей эти законы, тем больше ты силишьсяследовать им. Непреклонные правила, которые ты сам изобрел, и правила,принятые в твоем приходе, владеют тобой и связывают тебя, но божественныеустановления и законы всего мироздания нисколько тебя не трогают. Окиньвзглядом примеры, подтверждающие эти мои слова: в них — вся твоя жизнь.
Стихи двух поэтов, повествующих о любострастии со свойственной имсдержанностью и скромностью [147], раскрывают, как мне кажется, и освещаютего с возможною полнотой. Дамы прикрывают грудь кружевами, священникинабрасывают покровы на многие предметы священной утвари, художникнакладывает тени на произведения, созданные его искусством, чтобы тем ярчезаиграл на них свет, и, как говорят, лучи солнца и дуновения ветра наделеныбольшей силою не тогда, когда они прямые, как нитка, но когда онипреломляются. Один египтянин мудро ответил тому, кто спросил его: «Что тыпрячешь там под плащом?!» — «Потому-то оно и спрятано под плащом, чтобы тыне знал, что там такое» [148]. Но существуют иные вещи, которые только затеми прячут, чтобы их показать. Послушайте-ка вот этого: он не в примероткровеннее,
- Et nudam pressi corpus adusque meum [149].
да я читаю эти слова, точно бесполое существо. Сколько бы Марциал низадирал Венере подол, ему все равно не показать ее в такой наготе. Ктоговорит все без утайки, тот насыщает нас до отвала и отбивает у нас аппетит;кто, однако, боится высказать все до конца, тот побуждает нас присочинятьто, чего нет и не было. В скромности этого рода таится подвох, и он-товыводит нас, как эти двое [150], на упоительную дорогу воображения. И вделах любви и в изображении их должна быть легкая примесь мошенничества.
Мне нравится любовь у испанцев и итальянцев; она у них болеепочтительная и робкая, более чопорная и скрытная. Не знаю, кто именно заявилв древности, что ему хочется иметь глотку такую же длинную, как журавлинаяшея, дабы он мог подольше наслаждаться тем, что глотает. Подобное желание,по-моему, еще уместнее, когда дело идет о столь бурном и быстротечномнаслаждении, как любовное, и особенно у людей вроде меня, склонных кпоспешности. Чтобы задержать и продлить удовольствие в предвкушенииглавного, испанцы и итальянцы используют все, что усиливает взаимнуюблагосклонность и взаимное влечение любящих: взгляд, кивок головой, слово,украдкой поданный знак. Кто обедает запахом жаркого и ничем больше, несберегает ли груду добра? Ведь это такая страсть, в которой существенного иосязательного самая малость, а все остальное — суетность и лихорадочныйбред; отплачивать и служить ей следует тем же. Так давайте научим дамнабивать себе цену, относиться к себе самим с уважением, доставлять намразвлечение и плутовать с нами. Мы начинаем с того, чему подобает бытьзавершением, и здесь, как повсюду, — причина в нашей французскойстремительности. Затягивая милости дам и смакуя каждую такую милость вподробностях, любой из нас, вплоть до печальной и жалкой старости, будетрасполагать, в меру своих сил и достоинств, хоть каким-нибудь их лоскутком.Но кто не знает других наслаждений, кроме этого наслаждения, кто жаждет лишьсорвать банк, кто любит охоту лишь ради добычи, тому незачем идти в нашушколу. Чем больше пролетов и ступеней на лестнице, тем выше и почетнееместо, которого вы достигаете, поднявшись по ней. Нам должно нравиться,когда нас ведут, как это бывает в великолепных дворцах, через всевозможныепортики и переходы, длинные и роскошные галереи, делая множество поворотов.Это отвлечение идет нам на пользу; мы задерживаемся и любим дольше; безнадежд и желаний мы не доберемся ни до чего стоящего. Нет для женщины ничегоопаснее и страшнее, чем наше господство и безраздельное обладание ею: едваони отдают себя во власть нашей честности и нашего постоянства, как их доляделается сомнительной и незавидной. Это — добродетели редкие, и соблюдать ихдо крайности трудно; как только женщина становится нашей, мы перестаем ейпринадлежать.
- Postquam cupidae mentis satiata libido est
- Verba nihil metuere, nihil periuria curant. [151]
И юноша-грек Фрасонид был настолько влюблен в свою собственную любовь,что, завоевав сердце возлюбленной, не пожелал насладиться ею из опасенияубить, насытить и угасить наслаждением то беспокойное горение страсти,которым он так гордился и которое питало его [152].
Лакомствам придает вкус их цена. Заметьте, насколько ныне принятыйспособ здороваться, особенно распространенный в нашем народе, снизил, ввидуих доступности, значение и очарование поцелуев, о которых Сократ говорит,что они так всесильны и так легко похищают наши сердца [153]. Пренеприятныйи наносящий оскорбление дамам обычай — подставлять свои губы всякому, когосопровождает трое лакеев, как бы противен он ни был,
- Cuius livida naribus caninis
- Dependet glacies rigetque barba:
- Centum occurrere malo culilingis. [154]
Да и мы, мужчины, ничего от него не выигрываем, ибо, — так уже устроенмир, — чтобы поцеловать трех красавиц, надо проделать то же самое сполусотней дурнушек. А для желудка нежного и чувствительного, каков он улюдей моего возраста, невкусный поцелуй обходится много дороже вкусного.
В Италии находятся поклонники и воздыхатели даже у тех, кто торгуетсобою, и эти влюбленные в свое оправдание говорят следующее: в наслажденииможет быть несколько степеней, и своими ухаживаниями они жаждут добитьсятой, где оно наиболее самозабвенно и целостно. Женщины эти торгуют толькосвоим телом; волю их невозможно пустить в продажу, она для этого слишкомнезависима и своенравна. Таким образом, их поклонники заявляют, что хотятзавоевать волю, и их желание вполне обоснованно. Именно за волей нужноухаживать, именно ее нужно пленять. Я не могу представить себе безсодрогания свое тело свободным от всякого чувства влюбленности, и мнекажется, что подобное исступленное и голое вожделение мало чем отличается отвожделения юноши, набросившегося в любовном чаду на чудесное изваяниеВенеры, созданное Праксителем [155], или от вожделения того бешеногоегиптянина, который воспылал страстью к трупу, отданному ему длябальзамирования и облачения в погребальное одеяние, — последнее и дало поводк обнародованию закона, введенного позднее в Египте и содержавшего в себепредписание выдерживать трое суток трупы молодых и красивых женщин, а такжеженщин знатного рода и лишь после этого доверять их тем, кому будет порученоприготовить их к погребению [156]. А Периандр — его поступок еще чудовищнее,ибо, охваченный супружеским влечением (более упорядочным и правомерным), оннаслаждался и со своей покойной женою Мелиссой [157].
Не является ли подлинно лунатической причудой Луны то, что она, не имеявозможности наслаждаться с Эндимионом, своим милым, усыпила его на несколькомесяцев, чтобы трепетать от счастья с юношей, содрогавшимся только во сне? [158].
Равным образом, я утверждаю, что любить тело без его согласия и желания — то же самое, что любить тело без души или без чувств. Наслаждение никоимобразом не одинаково: бывают наслаждения, так сказать, чахоточные и чахлые:тысячи других причин, кроме благоволения, могут доставить нам этуснисходительность женщин. Она не может быть сочтена достаточнымсвидетельством их влечения; в ней может таиться предательство, как и во всемостальном; порою они участвуют в любовном соитии только своими бедрами иничем больше,
- tanquam thura merumque parent:
- Absentem marmoreamve putes. [159]
Я знаю таких, которые предоставляют вам это охотнее, чем свою карету, икоторые не знают других видов общения, кроме этого. Нужно выяснить, нравитсяли им ваше общество еще чем-нибудь, или вы нужны им только для этого, каккакой-нибудь здоровенный конюх, и как они к вам относятся, и насколько васценят,
- tibi si datur uni,
- Quo lapide illa diem candidiore notet. [160]
А что, если она насыщается вашим хлебом, сдабривая его вкуснойподливкой, изготовленной ее воображением?
- Те tenet, absentes alios suspirat amores. [161]
Не видели ли мы в наши дни кое-кого, кто использовал любовные ласки,чтобы свершить ужасную месть, чтобы отравить и убить в эти мгновения, как они сделал, честную и ни в чем не повинную женщину?
Кто знает Италию, те никогда не сочтут странным, если я не стануотыскивать для своей темы примеры в каком-нибудь ином месте, ибо в делахэтого рода она ведет, можно сказать, за собою весь мир. Женщины Италии чащевсего хороши собою, и безобразных там меньше, чем среди нас; но что касаетсяредкостных и совершенных красавиц, в этом отношении, по-моему, у нас с неюполное равенство. То же я думаю и об уме итальянцев. Умов, скроенных наобычный лад, у них много больше, да и грубости у них несомненно не в примерменьше нашего; но что касается душ необыденных и вознесенных высоко надвсеми другими, то в этом мы им не уступим. Если б мне нужно былораспространить это сравнение и на все остальное, я мог бы сказать, кажется,что доблесть, напротив, по их же оценке, у нас повсеместна и дана нам отприроды; зато у них ее видишь порою такой законченной и неодолимой, что онапревосходит все те примеры, которые мы могли бы найти у себя. Браки в этойстране, однако, прихрамывают, и вот в чем их слабость: итальянские нравыобычно предписывают женщинам законы такие суровые и до того рабские, чтодаже самое далекое знакомство с кем-нибудь посторонним карается у них так жестрого, как и самое близкое. От этого проистекает, что всякое сближениепоневоле становится у них любовною связью, и так как за все в равной меренужно держать ответ, они не очень-то колеблются в выборе. И если такая-топреступила эти границы, то знайте, что она вся в огне: luxuria ipsisvinculis, sicut fera bestia, irritata, deinde emissa [162]. Нужно немножко ослабить поводья, на которых ихдержат:
- Vidi ego nuper equum, contra sua frena tenacem,
- Ore reluctanti fulminis ire modo. [163]
Жажда общения заметно ослабевает, если ей предоставить хоть некоторуюсвободу.
Мы подвергаемся почти такой же опасности, как итальянцы. Они доходят докрайностей в стеснении своих женщин, мы — в предоставлении им свободы. Унашего народа есть хороший обычай, состоящий в том, что наших детейпринимают в богатые и знатные семьи пажами, дабы растить их там ивоспитывать в своего рода школе знатности и благородства. И отказатьдворянину в этом — как говорят, вопиющая нелюбезность и оскорбление. Язаметил (ибо в каждом доме свои порядки и нравы), что дамы, пожелавшиепредписать состоящим в их свите девицам наиболее строгие правила, добилисьэтим не очень-то многого. Здесь требуется умеренность; определяя, как имподобает себя вести, нужно во многом полагаться на их собственнуюскромность, ибо, как ни старайся, нет такой дисциплины, которая могла быобуздать их во всем. Но верно и то, что девица, которой посчастливилось,пройдя свободное воспитание, ускользнуть от соблазнов и сохранитьцеломудрие, внушает гораздо больше доверия, нежели та, которую такая жешкола сделала суровой и неприступной.
Наши отцы стремились добиться благопристойного поведения своих дочерей,вселяя в них стыдливость и страх (впрочем, их сердца и желания были такимиже), а мы — дерзость, ибо в этих вещах мы решительно ничего не смыслим. Этопристало каким-нибудь савроматам, у которых женщине дозволялось лечь вместес мужчиною лишь после того, как она своими руками убьет на войне мужчину [164]. Что до меня, чьи права покоятся только на их добром желаниивыслушивать мое мнение, то я буду доволен, если женщины станут обращаться комне как к советчику, принимая во внимание привилегии моего возраста. И япосоветую им (как и нам) воздержность; но поскольку наш век с нею в такихнеладах, пусть женщины не нарушают, по крайней мере, благопристойности иприличий. Ибо, как повествуется в рассказе об Аристиппе, он ответил темюношам, которым стало за него стыдно, когда они увидели его входящим кгетере: «порок в том, чтобы не выходить отсюда, а не в том, чтобы сюдавойти» [165]. Кто не хочет сохранять в чистоте свою совесть, пусть сохранитнезапятнанным хотя бы имя: если сущность не заслуживает доброго слова, пустьстоит его хотя бы внешность.
Я одобряю тех женщин, которые жалуют нам свои милости постепенно ирастягивая их на длительный срок. Платон говорит, что во всяком виде любвидоступность и готовность не приличествуют тем, кого домогаются [166]. Еслиженщины сдаются с легкостью и поспешностью, не оказывая сопротивления, — этосвидетельствует об их жадности к наслаждению, а им подобает скрывать ее совсем их искусством и ловкостью. Распределяя свои дары умеренно ипоследовательно, они гораздо успешнее распаляют наши желания и прячут свои.Пусть они всегда убегают от нас, и даже те среди них, кто не прочь позволитьсебя поймать, — они верней побеждают нас, убегая, как делали скифы. Идействительно, в соответствии с теми особенностями, которыми их наделилаприрода, им не дано выражать свои чаянья и желания, — их доля терпеть,подчиняться и уступать; вот почему природа вложила в них никогда неугасающее влечение, у нас сравнительно редкое и достаточно смутное; их часбьет в любое мгновение, дабы они были неизменно готовы, когда бы ни пробилнаш, — pati natae [167]. И пожелав, чтобынаше вожделение выказывало и явно выражало себя, природа сделала так, чтобыу них оно таилось внутри, и снабдила их ради этого органами, неспособнымиего обнаруживать и пригодными лишь к обороне.
Настойчивость в делах подобного рода подобает лишь свободе, царившей вплемени амазонок. Александр, проходя по Гиркании, встретился с царицеюамазонок Фалестрис, поспешившей к нему с тремястами воинов своего пола — наотличных конях и отлично вооруженных, — опередив все свое сильное войско,которое следовало за ней и находилось по ту сторону ближних гор. Она прямо иоткрыто сказала, что слух о его победах и доблести привел ее в эти места,чтобы увидеть его и предложить ему все, в чем он нуждается, а также своемогущество, и оказать ему таким образом помощь в его предприятиях; и что,увидев его столь прекрасным, юным и мощным, она, столь же совершенная,советует ему разделить с нею ложе, дабы от самой доблестной в мире женщины исамого доблестного из всех ныне живущих мужчин родилось для будущего нечтовеликое и поистине редкостное. Александр поблагодарил ее за все остальное и,согласившись исполнить последнюю из ее просьб, остановился тут на тринадцатьдней, и пировал в течение этого срока так весело и беззаботно, как толькомог, в честь столь смелой властительницы [168].
Мы почти во всем — несправедливые судьи совершаемых женщинамипоступков, как они — наших. Я признаюсь в истине, когда она мне во вред,ничуть не меньше, чем когда она мне на пользу. Отвратительное распутство —вот что так часто заставляет женщин менять возлюбленных и мешает имсосредоточить свое чувство на ком-либо одном, кем бы он ни был, как мы этовидим на примере той самой богини, которой приписывается столько измен идружков [169]; но, с другой стороны, верно и то, что природа любви нетерпит, чтобы она была лишена пылкости, а природа пылкости — чтобы любовьбыла прочной. И те, кто удивляется этому, сокрушается по этому поводу ивыискивает причины этой болезни в женщинах, считая ее чем-топротивоестественным и поразительным, почему-то не видят, до чего часто онисами заражаются ею, нисколько не пугаясь ее и не находя в ней ничегонеобычного! Было бы, пожалуй, более странным, если бы любовь моглаоставаться неизменною: ведь это не просто телесная страсть; если нет пределаалчности и честолюбию, то точно так же нет предела и распутству. Оно непрекращается с пресыщением, и ему нельзя предписать, чтобы оноудовлетворилось раз навсегда, как нельзя положить ему навеки предел: ононеизменно влечется к тому, что вне его власти, и, пожалуй, женщинам оно внекоторой мере простительнее, чем нам. Они могут ссылаться в своеоправдание, наравне с нами, на свои склонности, такие же, как у нас, напотребности в разнообразии и новизне, но, кроме того, и на то, на что мыссылаться не можем, а именно, что они, как говорится, покупают кота в мешке(Иоанна, неаполитанская королева, повелела удавить своего первого мужаАндреаццо на решетке окна своей спальни изготовленным ею собственноручношнурком из золотых и шелковых нитей, и все из-за того, что не обнаружила внем на супружеском ложе ни силы, ни усердия, которые отвечали бы упованиям,возникшим в ней при виде его прекрасного стана, красоты, молодости и прочихособенностей телосложения — всего того, что пленило и обмануло ее [170]).Наконец, они могут сказать, что действовать всегда много труднее, чемтерпеть я оставаться в бездействии, и если их не пугают трудности, то это,по крайней мере, вызвано необходимостью, тогда как у нас дело может обстоятьсовсем по-иному. Именно по этой причине Платоновы законы мудро повелевают,чтобы судьи, заботясь о прочности браков, подвергали осмотру собирающихсяжениться юношей раздетыми донага, а девушек обнаженными только до пояса [171].
Испытав наши объятия, женщины порой находят, что мы недостойны быть ихизбранниками,
- Experta latus, madidoque simillima loro
- Inguina, nec lassa stare coacta manu,
- Deserit imbelles thalamos. [172]
Не все зависит от воли, сколь бы добропорядочной она ни была. Мужскоебессилие и недостаточность служат законными поводами к разводу:
- Et quaerendum aliunde foret nervosius illud,
- Quod posset zonam solvere virgineam, [173]
а почему бы и нет? Почему бы в соответствии со своими потребностямиженщине не искать возлюбленного более проницательного, жадного инеутомимого,
- si blando nequeat superesse labori. [174]
Но не величайшее ли бесстыдство приносить наши слабости и недостаткитуда, где мы жаждем понравиться и оставить по себе хорошее мнение и добрыевоспоминания? Несмотря на ничтожность того, что мне ныне нужно,
- ad unum
- Mollis opus, [175]
я не хотел бы вызвать досаду в той, перед кем мне полагаетсяблагоговеть и чьего неудовольствия я должен страшиться:
- Fuge suspicari,
- Cuius undenum trepidavit aetas
- Claudere lustrum. [176]
Природе надлежало бы ограничиться тем, что она сделала пожилой возрастдостаточно горестным, и не делать его к тому же еще и смешным. Мне противносмотреть на того, кто, обретая трижды в неделю жалкую крупицу любовногожару, суетится и петушится в этих случаях с такою горячностью, как если быему предстоял целый день доблестных и великих трудов, — настоящий пороховойшнур, да и только. И я дивлюсь на его горение, столь бурное и стремительное,которое, однако, мгновенно сникает и гаснет. Этому безудержному влечениюподобало бы быть принадлежностью лишь цветущей поры нашей неповторимойюности. Попытайтесь-ка ради проверки поддержать этот пылающий в васнеутомимый, яркий, ровный и жгучий огонь, и вы убедитесь, что он изменит вампосередине дороги и в самую решительную минуту! Лучше дерзко несите его ккакой-нибудь хрупкой юной девице-полуребенку, испуганной и неопытной в этихделах и все еще дрожащей и краснеющей, лежа в ваших объятиях,
- Indum sanguineo veluti violaverit ostro
- Si quis ebur, vel mista rubent ubi lilia multa
- Alba rosa. [177]
Но кто сможет дождаться рассвета и не умереть от стыда, прочитавпрезрение в этих прекрасных глазах — свидетелях вашей подлости и наглойсамоуверенности.
- Et taciti fecere tamen convitia vultus, [178]
тот никогда не ощущал удовлетворения и гордости собою самим от того,что его усердие и неутомимое рвение в минувшую ночь заставило их померкнутьи потускнеть. Когда я замечал, что та или иная моя подруга начинает мнойтяготиться, я не торопился обвинять ее в легкомыслии; я принималсяраздумывать, нет ли у меня оснований обижаться скорей на природу. Это,конечно, она обошлась со мной несправедливо и нелюбезно,
- Si non longa satis, si non bene mentula crassa:
- Nimirum sapiunt, videntque parvam
- Matronae quoque mentulam illibenter [179],
и нанесла мне величайший ущерб.
Любая моя принадлежность в такой же мере является частичкою моего «я»,как и все остальное. И никакая другая не делает меня мужчиною в подлинномсмысле слова больше, чем эта.
Я должен нарисовать для читателей мой портрет во всех частностях иподробностях. Вся мудрость моих наставлений — в их правдивости,независимости, существенности; презирая мелочные, надуманные, обиходные иникчемные правила, она не находит их для себя обязательными; она целикоместественна, неизменна, всеобъемлюща; учтивость и церемонность — лишьпобочные ее дочери. Мы легко одолеем внешние недостатки, если победимвнутренние. А разделавшись с ними, примемся за какие-нибудь другие, еслирешим, что от них нужно избавиться. Ведь существует опасность, что, стремясьизвинить наше пренебрежение своими естественными обязанностями, мы измыслимдля себя новые и постараемся свалить те и другие в общую кучу. А что делообстоит именно так, подтверждается тем, что в местах, где проступкисчитаются преступлениями, преступления считаются не более чем проступками ичто народы, у которых законы благоприличия менее многочисленны и болееснисходительны, нежели принятые у нас, не в пример лучше нашего соблюдаютзаконы естественные и всеобщие, ибо бесчисленное множество обременяющих насобязанностей подавляет, изматывает и сводит на нет наше старание.Приверженность к малым делам отвлекает нас от насущно необходимых. До чегоже путь, избранный этими безмятежными и бесхитростными людьми, легче ипохвальнее нашего! Ведь все, чем мы прикрываемся и чем платим друг другудань, — бесплотные тени. А ведь судье, великому и всесильному, срывающему снаших срамных мест тряпье и лохмотья и не брезгающему смотреть на нас в чеммать родила, как и на наши испражнения, мы не платим никакой дани и темсамым умножаем свой долг перед ним. Это проявление благопристойности,внушенной нам поистине девическою стыдливостью, могло бы быть оченьполезным, если бы препятствовало ему обнаруживать наши мерзости. Корочеговоря, отучив людей от излишней щепетильности в выборе выражений, мы непричиним миру большого вреда. Наша жизнь складывается частью избезрассудных, частью из благоразумных поступков. Кто пишет о ней почтительнои по всем правилам, тот умалчивает о большей ее половине. Я ни в чем самперед собою не извиняюсь; если бы я когда-нибудь это делал, то извинялся быскорее за свои извинения, чем за что-либо другое. Но извиняюсь я перед теми,кого, как мне сдается, больше, чем тех, кто на моей стороне. Имея в видуименно их, я еще скажу следующее (ибо мне хочется угодить всем и каждому, аэто дело исключительно трудное, esse unum hominem accommodatum ad tantammorum ac sermonum et voluntatum varietatem) [180], чтобы они небранили меня за приводимые мной на этих страницах слова общепризнанных иодобряемых всеми авторитетов; и еще я хочу добавить, что несправедливолишать меня, только из-за того, что в моих сочинениях отсутствует рифма, тойснисходительности, которою пользуется в наш век столько моихсоотечественников, и среди них лица духовные, и притом занимающие оченьвысокое положение. Вот два примера:
- Rimula, dispeream, ni monogramma tua est.
- Un vit d’ami la contente et bien traitte. [181]
А сколько других? Я люблю скромность и отнюдь не умышленно избрал этотрискованный способ изложения своих мыслей; он избран для меня самоюприродой. Я не восхваляю его, как не восхваляю и других форм обхождения,противоречащих общепринятым, но я его извиняю и, исходя как из общих, так ииз частных соображений, нахожу для него целый ряд смягчающих обстоятельств.Но продолжим. Равным образом, откуда может проистекать то присвоение намиверховной власти, которое мы позволяем себе по отношению к женщинам,расточающим нам милости за свой собственный счет? И почему,
- Si furtiva dedit nigra munuscula nocte, [182]
мы тотчас же принимаемся проявлять по отношению к такой женщинесвоекорыстие, супружескую власть и супружеский холодок? Это ведь свободноесоглашение; так на каком основании мы не считаем для себя обязательнымвыполнять его так же, как хотим, чтобы его выполняли женщины? Где всепокоится на добровольных началах, там нет места для приказаний.
Хотя это и противоречит общему правилу, но, вступая в свое время вподобные сделки, я и вправду соблюдал, насколько это можно совместить с ихприродою, все вытекающие из них обязательства с честностью идобросовестностью, которой придерживался в других сделках, и притом незабывая о справедливости; и при таких отношениях с женщинами я всегдаизображал им свою страсть такою, какою она представлялась мне самому,сообщая со всей искренностью и непосредственностью о ее ослаблении, еепылкости, ее зарождении, ее приливах и ее отливах. Ведь не всегда идешьодной и той же походкой. Я был настолько скуп на обещания, что неизменнодавал, как мне кажется, сверх того, что было мною обещано и что я должен былдать. И я был настолько верен моим возлюбленным, что порою даже содействовалих изменам. Я говорю об изменах, в которых они мне признавались и которые,случалось, совершали неоднократно. И никогда я с этими женщинами не рвал,если меня привязывала к ним хотя бы тончайшая ниточка; а в технемногочисленных случаях, когда они вынуждали меня пойти на разрыв, япорывал с ними так, что не уносил с собой ни презрения к ним, ни ненависти,ибо близость этого рода, даже тогда, когда она даруется нам на самыхпостыдных для женщин условиях, заслуживает хотя бы крупицы признательности.Что касается гнева и нетерпения, хватавших у меня иногда несколько черезкрай, то от них я не всегда мог удержаться; это бывало, когда меня донималиженские хитрости и отговорки и когда у нас разгорались ссоры, ибо по своемудушевному складу я подвержен внезапным вспышкам, которые мне часто вредят вотношениях с людьми и в делах, хотя они кратковременны и не очень яростны.Если мои приятельницы выражали желание, чтобы я говорил о них со всейоткровенностью, я никогда не вилял, не уклонялся от отеческих инелицеприятных советов и пощипывал их там, где им было от этого больно. Иесли они впоследствии вспоминали обо мне с теплым чувством и сожалением, тоэто происходило главным образом потому, что они находили во мне — и особеннопо сравнению с современными нравами — любовь на редкость и до нелепостисовестливую. Я свято соблюдал свое слово и в таких случаях, когда меня отнего легко могли бы освободить; в те времена женщины порою сдавались, незаботясь о своем добром имени и условиях, которые они легко позволялинарушать победителю. Что до меня, то, заботясь об их чести, я не разотказывался от наслаждения в самый разгар его; и когда меня побуждало кэтому благоразумие, я сам вкладывал в руки женщин оружие против меня, и еслиони со всей искренностью следовали преподанным мною правилам, то вели себя иболее рассудительно и более строго, чем если бы руководствовались своимисобственными.
Я всегда принимал риск, связанный с нашими встречами, по возможности насебя одного, дабы полностью снять его с них. И я всегда устраивал нашисвидания в местах, казалось бы, непригодных для этого и неожиданных, потомучто это подает меньше поводов к подозрениям и, сверх того, по-моему, гораздоспокойнее и безопаснее. Чаще всего любовников накрывают именно там, где, поих мнению, им всего безопаснее. Чего меньше боятся, против того меньшепринимают меры предосторожности и за тем меньше следят; и с большейрешимостью можно отважиться на то, на что, по общему мнению, вы неотважитесь и что становится легким вследствие своей трудности.
Никто никогда не занимался любовью так несуразно, как я. Этот способлюбить более добропорядочен, но кому, как не мне, знать, насколько он смешондля моих соотечественников и как малоуспешен. И все же я нисколько и ни вчем не раскаиваюсь; да и терять мне теперь больше нечего:
- me tabula sacer
- Votiva paries indicat uvida
- Suspendisse potenti
- Vestimenta maris deo. [183]
Пришла пора сказать об этом открыто. Но совсем так же, как я сказал быпри случае всякому: «Друг мой, ты бредишь; в твое время любовь имеет малообщего с искренностью и честностью».
- haec si tu postules
- Ratione certa facere, nihilo plus agas,
- Quam si des operam, ut cum ratione insanias; [184]
если бы мне пришлось начинать сызнова, я бы пошел, наперекор всему, тойже походкой и по той же дороге, сколь бы бесплодным это для меня ни было.Бездарность и глупость в том, что непохвально, — похвальны. Чем дальше яотхожу от общего взгляда на эти вещи, тем ближе я подхожу к своему.
И все же я не позволял себе погружаться в подобные дела с головой; яполучал удовольствие, но не забывался; я полностью сохранял в себе ту малуютолику здравого смысла и рассудительности, которыми меня наделила природа,чтобы они всегда могли быть к услугам как женщин, так и моим; я бывалнемного взволнован, но не впадал в беспамятство. Бывало, что я поступалвопреки своей совести и доходил до излишеств и до распутства, но чтокасается неблагодарности, предательства, злобы и жестокости — нет, в этом янеповинен. Я не покупал наслаждения любой ценой; я платил за него не больше,чем оно действительно стоило. Nullum intra se vitium est [185]. В почти равной мере мне ненавистны каксонная и оцепеневшая праздность, так и усеянная шипами, докучная занятость.Одна меня усыпляет, другая держит в тисках. По мне все равно — что раны, чтопобои; что порезы, что синяки. Когда я был пригоднее к этим делам, я умелдержаться должной умеренности, пребывающей посередине между обеимикрайностями. Любовь — бодрое, оживленное, веселое возбуждение; она никогдане вселяла в меня тревогу, и я никогда от нее не терзался; я бывал еюразгорячен, и она вызывала у меня жажду: на этой черте и следуетостанавливаться; любовь вредна лишь глупцам.
Один юноша спросил у философа Панэция, пристойно ли мудрецу влюбляться.Тот ответил: «Оставим мудреца; а вот ты да я, отнюдь не мудрецы, давай-калучше остережемся столь беспокойной и буйной страсти, порабощающей насдругому и внушающей нам презрение к себе» [186]. Он был прав, утверждая, чтостоль неукротимую по своей сущности страсть нельзя доверять душе, бессильнойустоять перед ее натиском и лишенной средств опровергнуть на деле мнениеАгесилая, считавшего, что благоразумие и любовь несовместимы [187]. Любовь —и вправду занятие непристойное, постыдное и недозволенное; но если невыходить из указанных мною рамок, она, по-моему, делается целительною,способной расшевелить отяжелевшие ум и тело; и будь я врачом, я бы с такойже готовностью, как и всякие другие лекарства, прописывал ее людям моегосложения и образа жизни, дабы возбуждать и поддерживать их в пожиломвозрасте и тем самым замедлить наступление старости. И пока мы еще наокраине, пока у нас бьется пульс,
- Dum nova canities, dum prima et recta senectus,
- Dum superest Lachesi quod torqueat, et pedibus me
- Porto meis, nullo dextram subeunte bacillo, [188]
необходимо, чтобы нас будоражило и подстегивало какое-нибудь сильноевозбуждение, а его-то и приносит с собою любовь. Взгляните-ка, сколькомолодости, мощи и бодрости вернула она мудрому Анакреонту! [189] А Сократ,когда он был старше меня, говоря о том, к кому его влекло любовное чувство,рассказывает: «Опершись плечом о его плечо и приблизив голову к его головетак, чтобы нам обоим можно было смотреть в ту же книгу, я внезапнопочувствовал — ив этом нет ни капельки лжи, — как в мое плечо вонзилосьострое жало, точно меня укусил какой-нибудь зверь; после этого я в течениепяти дней ощущал в том же месте резкое жжение, вливавшее в мое сердценепрерывно мучившее меня желание» [190]. Прикосновение, и к тому жеслучайное, и не более чем плечом, разгорячило и опалило душу, успевшую сгодами охладеть и увянуть, и притом душу, намного опередившую все остальныена стезе самоусовершенствования! А почему бы и нет? Сократ был человек и нехотел ни быть, ни казаться чем-либо иным.
Философия нисколько не ополчается против страстей естественных, лишь быони знали меру, и она проповедует умеренность в них, а не бегство от них; ееусилие в борьбе с ними направлены лишь против тех страстей, которые чуждынашей природе и привносимы извне. Она говорит, что побуждения нашего тела недолжно усиливать измышлениями ума, и мудро предостерегает нас от желаниявозбуждать в себе голод пресыщением, от желания набить свой живот вместотого, чтобы его наполнить; она увещевает избегать всякого наслаждения,заставляющего нас алкать еще больше, избегать еды и питья, обостряющих нашиголод и жажду; так и в любви она предписывает нам избирать для себя предмет,утоляющий потребность нашей плоти, но не задевающий нашей души, котораядолжна оставаться невозмутимой, и единственное, что ей надлежит делать, это — следовать по пятам за плотью и ей соприсутствовать [191].
Но разве у меня нет достаточных оснований считать, что эти предписанияфилософии, — к тому же, по-моему, слишком суровые, — относятся лишь к такойплоти, которая безотказно выполняет свои обязанности, и что, следовательно,изнуренную плоть, так же как и вялый желудок, извинительно согревать иподдерживать искусственно, усилием воображения возвращая ей бодрость ичувственное влечение, раз она их утратила? Не можем ли мы сказать, что внас, пока мы пребываем в этой земной темнице, нет ничего ни чисто плотского,ни чисто духовного и что мы беспощадно разрываем на части живого человека; иразве, как мне кажется, не было бы гораздо справедливее, если бы мыотносились к принятым среди нас любовным утехам по крайней мере с таким жесочувствием, какое испытываем к страданию? Оно, например, доходило в душе усвятых, всем своим существом предававшихся покаянию, можно сказать, докрайних пределов; и вследствие тесных уз, связывающих плоть с душою, плоть,разумеется, тоже несла при этом свою долю страдания, хотя могла быть инепричастной к причине, его породившей; и все же этим святым было мало,чтобы плоть лишь следовала за скорбящей душой и ей соприсутствовала; ониподвергали ее жестоким и только ей одной предназначенным истязаниям, дабы идуша и плоть, соревнуясь друг с другом, погружали человека в страдание, темболее благотворное, чем оно было мучительней.
Подобным же образом справедливо ли отвращать нашу душу от плотских утехи говорить, что она должна вовлекаться в них как бы по обязанности, в силунеизбежной и рабской необходимости? Но ведь именно душе и подобаетвынашивать их и пестовать, влечься к ним и управлять ими, ибо всем руководиттолько она; ведь как раз она и присущие ей наслаждения и должны, по-моему,внушать и передавать плоти все свойственные их сущности ощущения изаботиться о том, чтобы они были для нее сладостными и благодетельными. Ибоесли разумно утверждение тех, кто говорит, что плоть не должна удовлетворятьсвои желания и стремления в ущерб духу, то почему не разумно и обратноеутверждение, то есть что дух не должен удовлетворять свои желания истремления в ущерб плоти?
У меня нет другой страсти, которая могла бы меня захватить. То, чтолюдям, не имеющим, как и я, постоянных занятий, дают алчность, честолюбие,ссоры, судебные тяжбы, — все это — и с большей приятностью — дала бы мнелюбовь; она вернула бы мне проницательность, трезвость, любезность,стремление заботиться о своей особе; она придала бы уверенность моейвнешности, так что ее не искажали бы гримасы старости, жалкие иотвратительные черты; она побудила бы меня к занятиям здравым и мудрым, и ястал бы и более уважаемым и более любезным; она избавила бы мой дух ототчаянья в себе и своем одиночестве и примирила бы его с самим собою; онаотвлекла бы меня от тысячи тягостных мыслей и тысячи печалей и огорчений,насылаемых на нас в пожилом возрасте праздностью и плохим здоровьем; онасогрела бы по крайней мере во сне эту кровь, уже забываемую природой, оназаставила бы меня выше держать голову и продлила бы хоть немного силу, икрепость, и бодрость души в том несчастном, который стремительно идетнавстречу своему концу. Но я хорошо знаю, что вновь обрести подобное счастье — редкостная удача. Из-за немощности и чрезмерной опытности наш вкус сталболее нежным и изысканным; мы требуем большего, тогда как сами приносимменьше, чем прежде; мы становимся прихотливее, тогда как возможностей длязавоевания благосклонности у нас меньше, чем когда бы то ни было; зная засобой слабости, мы делаемся менее смелыми и более недоверчивыми: никто не всостоянии убедить нас, что мы, и в самом деле, любимы, — ведь нам отличноизвестно, каковы мы и каковы женщины. Я стыжусь бывать в обществе зеленой икипучей молодежи,
- Cuius in indomito constantior inguine nervus,
- Quam nova collibus arbor inhaeret [192].
К чему среди такой жизнерадостности выставлять наше убожество?
- Possint ut iuvenes visere fervidi,
- Multo non sine risu
- Dilapsam in cineres facem? [193]
На их стороне сила и справедливость; им честь и место; нам же только иостается, что потесниться.
К тому же этот росток расцветающей красоты не терпит прикосновениянаших закоченевших рук; да и обладание им не достигается при помощи однихматериальных средств. Ибо, как ответил некий древний философ насмешнику,подтрунивавшему над ним за то, что он не сумел пленить сердце юной девицы,которую преследовал своими ухаживаниями: «За столь свежий сыр, друг мой,крючок не цепляется» [194].
Ведь это отношения, требующие взаимной приязни и сродства; все прочиедоступные нам удовольствия можно испытывать за то или иное вознаграждение.Но это — оплачивается только той же монетой. И в самом деле, когда япредаюсь любовным восторгам, наслаждение, которое я дарю, представляетсямоему воображению более сладостным, нежели испытываемое мною самим. Такимобразом, кто может срывать цветы удовольствия, ничего не давая взамен, в томнет ни капли благородства: это возможно только для человека с низкой душой,всегда берущего в долг, никогда не отдавая; ему нравится поддерживатьотношения с теми, кому он в тягость. Нет такой чарующей и совершеннойкрасоты, прелести, близости, которых порядочный человек домогался быподобной ценой. Если женщины не могут оказывать нам благоволение иначе, кактолько из жалости, то, по мне, лучше вовсе не жить, чем жить подаянием. Яхотел бы иметь право требовать их любви, делая это, скажем, по образцу нищихв Италии: «Fate ben per voi» [195]; или так, как делал Кир, обращавшийся к своим воинам со словами:«Кто хочет себе добра, пусть идет за мной» [196].
— Раз так, — могут мне на это сказать, — сходитесь с женщинами вашеговозраста; благодаря общности их и вашей судьбы вы с ними скорее поладите. Онелепая и жалкая связь!
- Nolo
- Barbam vellere mortuo leoni; [197]
Ксенофонт, понося и обвиняя Менона, выставляет в качестве довода и егоисключительное пристрастие к перезревшим возлюбленным [198].
Я нахожу несравненно большее наслаждение в том, чтобы присутствоватькак простой свидетель при естественном сближении двух юных и прекрасныхсуществ или даже представлять себе его в моем воображении, нежели бытьучастником сближения грустного и безобразного. Я уступаю эту причудливую идикую склонность императору Гальбе, который признавал только жесткое истарое мясо [199], и еще этому несчастному горемыке,
- O ego di faciant talem te cernere possim
- Caraque mutatis oscula ferre comis,
- Amplectique meis corpus non pingue lacertis. [200]
Но самое большое уродство в моих глазах — это красота поддельная идостигнутая насилием над природой. Эмон, юноша с Хиоса, считая, что ловкимиухищрениями ему удалось заменить природную красоту, которой он был обделен,пришел к философу Аркесилаю и спросил его, может ли мудрец ощутить в своемсердце влюбленность. «Почему же, — ответил Аркесилай, — лишь бы его непленила красота искусственная и лживая, вроде твоей» [201]. Откровенноеуродство, по-моему, не так уродливо и откровенная старость не так стара, какони же, нарумяненные и молодящиеся.
Могу ли я сказать то, что хочу, не боясь, что меня огреют за это поголове? Естественная истинная пора любви, как мне кажется, — это возраст,непосредственно следующий за детством.
- Quem si puellarum insereres choro
- Mille sagaces falleret hospites
- Discrimen obscurum, solutis
- Crinibus ambiguoque vultu. [202]
И то же самое относится к красоте.
Если Гомер удлиняет время ее цветения вплоть до того момента, когда наподбородке начинает проступать первый пушок, то зато сам Платон находил, чтооб эту пору она — величайшая редкость.
Хорошо известна причина, по которой софист Дион остроумно прозвалнепокорные вихры отрочества Аристогитонами и Гармодиями [203]. В зреломвозрасте любовь, по-моему, уже не та; ну, а про старость и говорить нечего:
- Importunus enim transvolat aridas
- Quercus. [204]
И Маргарита, королева Наваррская, сама женщина, намного преувеличиваетк выгоде своего пола продолжительность женского века, заявляя, что толькопосле тридцати лет им пора менять свой эпитет «прекрасная» на эпитет«добрая» [205].
Чем короче срок, отводимый нами владычеству любви над нашею жизнью, темлучше для нас. Взгляните-ка на отличительную черту ее облика: этомальчишеский подбородок. Кто не знает, до чего же все в ее школе идеткувырком? Наше усердие в любовных делах, наш опыт, наша привычка — все этопути, ведущие нас к бессилию; властители любви — новички. Amor ordinemnescit [206]. Конечно, она для нас болееобольстительна, когда к ней примешиваются волнения и неожиданности; нашипромахи и неудачи придают ей остроту и прелесть; лишь бы она была горячей ижадной, а благоразумна ли она, это неважно. Взгляните на ее поступь,взгляните, как она пошатывается, спотыкается и проказничает; наставлять ееуму-разуму и во всяческих ухищрениях — означает налагать на нее оковы;отдать ее в эти волосатые и грубые руки — значит стеснить ее божественнуюсвободу.
Кстати, мне частенько приходится слышать, как женщины расписывают навсе лады духовную связь, забывая при этом о чувствах и их доле участия вотношениях этого рода. Ведь здесь все идет в дело. Однако я могузасвидетельствовать, что нередко видел, как мы прощали женщинам немощностьдуха ради телесной их красоты; но я еще ни разу не видел, чтобы ради красотыдуха, сколь бы возвышенным и совершенным он ни был, они пожелали снизойти ктелу, которое хотя бы немного начало увядать. Почему ни одну из них неохватывает желание совершить тот благородный обмен тела на дух, который такпревозносил Сократ, и купить ценой своих бедер, самой высокой ценой, какуюони могут за них получить, философскую и духовную связь, а заодно инаделенное теми же качествами потомство? Платон в своих законах велит [207],чтобы, пока длится война, совершивший выдающийся и полезный подвиг,независимо от внешности этого человека и от его возраста, не получал отказав поцелуе или какой-либо другой любовной усладе, от кого бы он ни захотел ихвкусить. Почему бы то, что Платон считает столь справедливой наградой завоинские заслуги, не стало также наградою и за заслуги другого рода? Ипочему ни одной из женщин не вознестись над своими товарками этойцеломудренной славой? Да, я умышленно говорю — целомудренной,
- nam si quando ad proelia ventum est,
- Ut quondam in stipulis magnus sine viribus ignis
- Incassum furit. [208]
Пороки, которые не идут дальше мыслей, — не из числа наихудших.
Чтобы заключить эти пространные рассуждения, схожие с потоком болтовни,потоком стремительным и порой вредоносным,
- Ut missum sponsi furtivo munere malum
- Procurrit casto virginis e gremio,
- Quod miserae oblitae molli sub veste locatum,
- Dum adventu matris prosilit, excutitur,
- Atque illud prono praeceps agitur decursu;
- Huic manat tristi conscius ore rubor, [209]
я скажу, что мужчины и женщины вылеплены из одного теста; еслиотбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика.
Платон в своем «Государстве» [210] призывает безо всякого различия итех и других к занятиям всеми науками, всеми телесными упражнениями, ко всемвидам деятельности на военном и мирном поприщах, к отправлению всехдолжностей и обязанностей.
А философ Антисфен не делает различия между добродетелями женщин инашими [211].
Гораздо легче обвинить один пол, нежели извинить другой. Вот иполучается, как говорится в пословице: потешается кочерга над сковородой,что та закоптилась.
Глава VI
О средствах передвижения
Нетрудно удостовериться, что большие писатели, перечисляя причины тогоили иного явления, не ограничиваются теми из них, которые они сами считаютподлинными, но наряду с ними приводят также причины, не внушающие доверия иим самим, лишь бы они привлекали внимание и казались правдоподобными. Ониговорят достаточно правдиво и с пользою, если говорят умно. Мы не имеемвозможности установить главную и основную причину; мы сваливаем их в однукучу в надежде, что, быть может, случайно в их числе окажется и она,
- namque unam dicere causam
- Non satis est, verum plures, unde una tamen sit. [1]
Вы спросите меня, откуда берет начало обычай желать здоровья чихающим?Мы производим три вида ветров: тот, который исходит низом, слишкомнепристоен; исходящий из нашего рта навлекает на нас некоторый упрек вчревоугодии; третий вид — это чихание; и так как оно исходит из головы иничем не запятнано, мы и оказываем ему столь почетную встречу. Непотешайтесь над этими тонкостями; говорят, что они принадлежат Аристотелю [2].
Кажется, я прочел у Плутарха [3] (а он лучше всех известных мне авторовумеет сочетать искусство с природою и рассуждение с знанием), там, где онразъясняет причину тошноты, возникающей у путешествующих по морю, что онавызывается у них якобы страхом, ибо, опираясь на некоторые доводы, Плутархдоказывает, что страх может производить подобные действия. Что до меня, то,весьма подверженный ей, я хорошо знаю, что это объяснение на меня отнюдь нераспространяется, и я знаю это не умозрительно, а по своему личному опыту.Не стану приводить здесь того, о чем мне рассказывали, а именно, что морскоюболезнью так же часто страдают животные, и особенно свиньи, хотя они,разумеется, не имеют ни малейшего представления об опасности, не станупередавать и рассказ одного из моих знакомых, также очень подверженного этойболезни, о том, как у него раза два или три бесследно проходили позывы корвоте, подавленные обуявшим его во время разыгравшейся бури ужасом, совсемкак у некоего древнего автора: Peius vexabar quam ut periculum mihisuccurreret [4], укажу лишь на то, что, находясь на воде, как,впрочем, и в любых других обстоятельствах, я никогда не испытывал страха (ау меня было немало случаев, когда он был бы вполне оправдан, если грозящаятебе гибель — достаточное для него оправдание), который хотя бы немного менясмутил или заставил потерять голову.
Иногда он рождается столько же от недостатка благоразумия, сколько отнедостатка мужества. Всем опасностям, с которыми я сталкивался лицом к лицу,я всегда открыто смотрел в глаза взглядом ясным, зорким и ничем нестесненным; чтобы бояться, тоже потребна храбрость. И однажды это мне оченьпомогло, когда я бежал, ведя за собой моих людей и сохраняя во время бегствапорядок, не в пример лучший, чем у других; бежали мы, не то чтобы не знаябоязни, но во всяком случае не объятые ужасом и не сломя голову; мы были,конечно, встревожены, но не ошалели от страха и не утратили способностисоображать.
Люди великой души идут в этом гораздо дальше, и если им приходитсяобращаться в бегство, они проявляют при этом не только сдержанность иуравновешенность, но, сверх того, даже гордость. Приведем рассказ Алкивиадао бегстве Сократа, его товарища по оружию [5]: «Я увидел его, — говоритАлкивиад, — после поражения нашего войска, его и Лахеса, среди последних втолпе беглецов; я мог рассмотреть его спокойно и неторопливо, потому что былна хорошем коне, а он пешим, как мы и сражались в бою. Прежде всего язаметил, насколько в нем, по сравнению с Лахесом, больше рассудительности ирешимости; затем я обратил внимание на непринужденность его походки,нисколько не отличавшейся от обычной, на его взор, твердый исосредоточенный, на то, как он непрерывно наблюдал за происходившим вокруг иоценивал положение, обращая взгляд то на одних, то на других, на друзей иврагов, и ободряя им первых и предупреждая вторых, что он дорого продастсвою кровь и свою жизнь, если кому-нибудь вздумается на них посягнуть; такони и спаслись, ибо никто не жаждет напасть на подобного беглеца; гонятсятолько за обезумевшими от страха». Таково свидетельство этого великогополководца, и от него мы слышим о том же, в чем убеждаемся на каждом шагу, аименно, что наибольшие опасности навлекает на нас именно неразумноестремление поскорее от них уйти. Quo timoris minus est, eo minus fermepericuli est [6]. Наш народ неправ, когда говорит, что такой-то боится смерти, вто время как хочет выразить в этих словах, что такой-то размышляет о ней иее предвидит. Предвидение может равно относиться и к тому, что для нас зло,и к тому, что благо. Рассматривать и оценивать угрожающую опасность означаетдо некоторой степени не бояться ее.
Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выдержать удары и натискстрасти, именуемой страхом, или какой-либо другой, столь же могущественной,как эта. Если бы она одолела меня и повергла наземь, я бы уже никогда невстал как следует на ноги. Кто сдвинул бы мою душу с того основания, накоторое она опирается, тот никогда бы не смог водворить ее на прежнее место;она слишком рьяно исследует себя и в себе копается и никогда бы не далазарубцеваться и зажить нанесенной ей ране. Какое счастье, что пока еще ниодна болезнь не проделала этого с моей душой! При всяком совершаемом на менянападении я встречаю его и сопротивляюсь ему, облаченный во все доспехи; этозначит, что, окажись я побитым, у меня не останется никаких средств кобороне. Я ничего не держу про запас, и в каком бы месте наводнение нипрорвало мою плотину, я окажусь беззащитным и утону окончательно ибесповоротно. Эпикур говорит, что мудрый не может превратиться в безмозглого [7]. Что до меня, то я считаю справедливой и изнанку этого изречения, аименно: кто хоть раз был по-настоящему глупым, тот никогда не станетпо-настоящему мудрым.
Господь дает каждому крест по силам его, — а мне он дал страсти по моимвозможностям справиться с ними. Природа, обнажив меня с одной стороны,прикрыла с другой; лишив меня оружия силы, она вооружила менянечувствительностью и ограниченной или притупленной восприимчивостью.
Так вот, я плохо переношу (а в молодости переносил еще хуже) длительнуюпоездку в карете, конных носилках или на судне; я ненавижу всякий другойспособ передвижения, кроме езды верхом, как в городе, так и среди полей.Впрочем, носилки для меня еще несноснее, чем карета, и по той же причине ялегче переношу сильное волнение на воде, вселяющее в нас страх, чемнебольшое покачивание, ощущаемое нами при тихой погоде. От легких толчков,производимых веслами и словно бы вырывающих из-под нас лодку, я начинаюощущать какое-то замешательство в голове и желудке, и я не выношу этого также, как когда подо мной шаткое кресло. Но если судно, на котором я нахожусь,плавно уносят паруса или течение, или его ведут на буксире, однообразноепокачивание этого рода на меня совершенно не действует; раздражает менятолько прерывистое движение, и тем больше, чем оно медленнее. Лучше иобстоятельнее обрисовать его я не могу. Врачи велели мне стягивать тугойперевязкой низ живота, уверяя, что в таких случаях это хорошее средство;однако я ни разу не воспользовался этим их указанием, так как привыкбороться с присущими мне недостатками и справляться с ними, ни к кому необращаясь за помощью.
Будь моя память не такой немощной, я бы не пожалел времени, чтобыпересказать здесь все то, что сообщает история о бесконечно разнообразномиспользовании боевых колесниц, у всякого народа и во всякий век имевших своиособенности в устройстве, и насколько они были полезны и, как мне кажется,даже необходимы; так что просто диву даешься, что мы утратили о них всякоепредставление. Я опишу только ту их разновидность, что совсем недавно, напамяти наших отцов, была с большим успехом применена венграми против турок;в каждой из таких колесниц помещались один щитоносец и один стрелок, и в нейбыло известное количество установленных, изготовленных к стрельбе изаряженных аркебуз; вся она со всех сторон была покрыта щитами, как этоделается на галиотах. Венгры выстраивали на поле сражения лицом к неприятелютысячи таких колесниц и по пушечному сигналу высылали вперед, чтобы ониобрушили на противника, прежде чем начнут действовать в его гуще, залп своихаркебуз, что бывало для него не очень-то приятным задатком; или бросали этисвои колесницы на эскадроны врага, чтобы прорвать их и сделать в них брешь,не говоря уже о той помощи, которую извлекали из них, прикрывая с флангов вуязвимых местах войска, передвигавшиеся по открытому полю, или обороняя испешно укрепляя полевой лагерь [8]. В мое время некий дворянин, проживавшийпоблизости от одной из наших границ, калека и до того тучный, что для негонельзя было подобрать лошадь, способную выдержать его вес, опасался мести состороны человека, с которым у него произошла ссора, и потому разъезжал поокруге в повозке, похожей на колесницы описанного устройства, и находил ееочень удобной. Но довольно об этих боевых колесницах. Короли нашей первойдинастии ездили по стране в колымаге, которую тащили две пары быков.
Марк Антоний первым пожелал прокатиться по Риму вместе с сопровождавшейего флейтисткой в колеснице, влекомой четырьмя львами. Впоследствии то жеповторил и Элагабал [9], утверждая, что он — Сивилла, праматерь богов, а вдругой раз, когда в колесницу были впряжены тигры, он изображал бога Вакха;иногда он также запрягал в свою колесницу пару оленей; однажды его везличетыре собаки, а еще как-то раз он приказал, чтобы его, совсем голого,торжественно провезли четыре обнаженные женщины. Император Фирм [10] повелелвпрячь в его колесницу страусов поразительной величины, так что казалось,будто она скорее летит по воздуху, чем катится по земле. Причудливость этихвыдумок внушает мне следующую, не менее причудливую мысль: стремлениемонархов возвеличиться в глазах окружающих, постоянно приковывать к себевнимание непомерными тратами есть род малодушия и свидетельствует о том, чтоэти государи не ощущают по-настоящему, что именно они собой представляют.Это — вещь простительная для государя, пребывающего в чужих краях, нопоступать таким образом, когда он среди своих подданных, где ему всеподвластно и все позволено, — значит низводить свое достоинство с наивысшейступени почестей, какая только ему доступна. Точно так же и дворянинунезачем, по-моему, особенно тщательно одеваться, когда он в своем кругу; егодом, образ жизни, кухня достаточно говорят за него.
Мне кажется не лишенным основания тот совет, который Исократ преподалсвоему государю. А сказал он ему вот что: пусть у него будет великолепнаядомашняя утварь и соответствующая посуда, ибо потраченные на это средства невылетают на ветер, — все эти вещи останутся в наследство его преемникам; нопусть он, вместе с тем, избегает расходов на такие роскошества, которыетотчас выходят из употребления и улетучиваются из памяти [11].
Пока я жил на положении младшего сына, я любил щегольнуть своиминарядами за невозможностью щеголять чем-либо другим, и это мне было напользу: это бывает на пользу всем тем, кому идет красивое платье. Намизвестны рассказы о поразительной бережливости наших королей в расходованиисредств на себя и на подарки, — королей, великих своею славой, доблестью иудачливостью в делах. Демосфен с крайним ожесточением нападает [12] на тотзакон своего города, которым предусматривалось использование общественныхденег на устройство торжественных игр и празднеств; он хотел бы, чтобывеличие его города находило свое выражение в многочисленности хорошоснаряженного флота и в сильном, хорошо вооруженном войске.
И Феофраста не без оснований порицают за то, что в своем сочинении обогатстве он выдвигает противоположное мнение и утверждает, что тратыподобного рода — естественный и неизбежный плод изобилия [13]. Но этиудовольствия, говорит Аристотель, нравятся только самой низменной черни, ини один положительный и здравомыслящий человек не придает им ни малейшейцены [14]. Расходование всех этих средств, как мне кажется, было бы болеепод стать королям и более полезным, действенным и оправданным, если бы онишли на постройку портов, гаваней, укреплений и городских стен, на роскошныездания, церкви, госпитали, учебные заведения, на благоустройство улиц идорог; именно благодаря всему этому папа Григорий XIII [15] в мое времяоставил по себе благодарную память, и на все это наша королева Екатерина [16] распространяла бы в течение долгих лет свою врожденную щедрость и своестремление благотворительствовать, если бы ее средства были достаточны дляудовлетворения ее пожеланий. Судьба преподнесла мне сильное огорчение,прервав работы над сооружением в нашей великой столице замечательного Новогомоста [17] и отняв у меня надежду дожить до того времени, когда его откроютдля общего пользования.
Кроме того, подданным, зрителям всех этих торжеств, кажется, что передними выставляют напоказ их же собственные богатства и что их потчуютпразднествами за их собственный счет. Ибо народы смотрят в этом отношении насвоих королей совсем так же, как мы — на услужающих нам, а именно: онидолжны взять на себя заботу о том, чтобы доставлять нам в изобилии все, чтонам нужно, но никоим образом не должны уделять себе хотя бы крупицу изовсего этого. И император Гальба, получив во время ужина, удовольствие отигры одного музыканта и повелев принести свой ларец, дал ему целую пригоршнюизвлеченных им оттуда золотых монет и сказал: «Это не государственное, этолично мое» [18]. Как бы там ни было, но чаще случается, что народ прав и чтоего глаза насыщают тем, чем ему полагалось бы насыщать свое брюхо. Щедростьв руках королей — не такое уж блестящее качество; частные лица имеют на неебольше права, ибо, в сущности, у короля нет ничего своего: он сампринадлежит своим подданным.
Судье вручается судебная власть не ради его блага, а ради блага того,кто ему подсуден. Высшего назначают не ради его выгоды, а ради выгодынизшего; врач нужен больному, а не себе. Цели, преследуемые как всякоювластью, так равно и всяким искусством, пребывают не в них, а вне их: nullaars in se versatur [19].
Вот почему наставники будущих государей, стараясь вложить в них сраннего детства пресловутую добродетель щедрости и внушая им, чтобы ониникогда не отказывали в денежных просьбах и считали, что нет расходовполезнее, чем расходы на дары и раздачи (наставление, в мое времясчитавшееся чрезвычайно разумным), или думают больше о своей выгоде, чем овыгоде своего господина, или не понимают того, о чем говорят. Очень легкоприучить к щедрости того, кто может проявлять ее за чужой счет, сколько быему ни заблагорассудилось. И поскольку ее ценность определяется не размерамидара, а размерами доходов дарителя, щедроты, расточаемые стольмогущественными руками, стоят немногого. Юные принцы превращаются врасточителей прежде, чем становятся щедрыми. По сравнению с другимикоролевскими добродетелями от щедрости мало проку, и она, как говорил тиранДионисий, — единственная из них, которая хорошо уживается с тиранией [20].
Я бы с большей охотой научил этих принцев следующему присловьюземледельца:
- , [21],
означающему, что кто хочет собрать урожай, тому нужно сеять руками, ане сыпать семена из мешка (нужно зерно разбрасывать, а не бросать), и еще ябы им прибавил, что, будучи в необходимости дарить или, правильнее сказать,платить и воздавать стольким людям по их заслугам, они должны беспристрастнои вдумчиво распределять эти блага. Если щедрость властителя прихотлива ичрезмерна, я предпочитаю, чтобы он был скупым.
Из всех добродетелей королям всего нужнее, по-моему, справедливость; аиз всех частных ее проявлений — справедливость в пожаловании щедрот, ибоосуществление справедливости в этих случаях они полностью оставили за собой,тогда как во всем остальном охотно осуществляют ее с помощью других.Чрезмерная щедрость — плохое средство добиться расположения; она чащеотталкивает людей, чем их привлекает: Quo in plures usus sis, minus inmultos uti possis. Quid autem est stultius quam quod libenter facias, curareut id diutius facere non possis? [22]. И если кого-нибудь незаслуженно осыпают щедротами, тому становитсяот этого стыдно и они не порождают в нем благодарности. Сколько тиранов былоотдано в жертву народной ненависти руками тех, кого они несправедливовозвысили! Ведь люди этой породы считают, что они закрепляют за собойвладение неправедно нажитым, выказывая свое презрение и свою ненависть ктому, кому они им обязаны, и присоединяясь к негодующей и выносящей приговортолпе.
Подданные государя, не знающего меры в щедротах, теряют меру в своихтребованиях к нему: они руководствуются не разумом, а примером. И намполагалось бы частенько краснеть за наше бесстыдство; нас оплачивают болеечем справедливо, когда вознаграждают соответственно нашей службе, ибо ужелимы все-таки ничего не должны государю в силу наших естественных обязательствпред ним? Если он покрывает наши расходы, он делает для нас больше, чемнужно; вполне достаточно, если он нам помогает; ну, а если мы получаем отнего сверх наших трат, то очевидно, что это — благодеяние, которого нельзятребовать: ведь в нашем языке слова для обозначения щедрости и свободыобразованы от одного корня [23]. У нас, однако, повелось совсем по-другому:полученное в счет не идет; любят лишь будущие щедроты. Вот почему, чем болеетощей делается мошна государева из-за его щедрых раздач, тем беднее онстановится и по части друзей.
Как же ему удовлетворить желания своих подданных, если эти желаниявозрастают по мере того, как они выполняются? Кто думает только о том, какбы побольше ухватить для себя, тот не думает об уже ухваченном. Неотъемлемаячерта жадности — неблагодрность. Здесь, пожалуй, уместно вспомнить о том,что некогда сделал Кир; его пример мог бы послужить пробным камнем и длякоролей нашего времени, чтобы выяснить, с пользой или без пользы осыпали онидарами своих приближенных, и они убедятся, что названный властелин раздавалих не в пример удачнее, чем они. А им из-за этого приходится обращаться зазаймами к своим подданным, которых они вовсе не знают и которым причинилискорее зло, чем добро. И в помощи, которую те им оказывают, нет ничегодобровольного, кроме ее названия. А история с Киром заключается в следующем:однажды Крез упрекал его в расточительности и тут же прикинул, какой была быего казна, если бы у того были бережливые руки. Кир пожелал доказать, чтоего щедрость вполне оправданна; разослав во все стороны гонцов к темвельможам своей страны, которых он особенно облагодетельствовал, он попросилих помочь ему, кто сколько сможет, деньгами, так как у него в них большаянужда, и сообщить, на что он может рассчитывать. Когда их письма былидоставлены, выяснилось, что друзья Кира, все как один, сочтя недостаточнымпредложить ему только то, что получили из его рук, добавили к этому крупныесуммы из своих собственных средств и что общая сумма значительно превышаетитог, подведенный Крезом. И тогда Кир сказал: «Я люблю богатства не меньшедругих государей, но распоряжаюсь ими разумнее, чем они. Ты видишь, прикаких ничтожных затратах я собрал с помощью столь многих друзей казнупоистине баснословной ценности и насколько они более верные и надежныеказначеи, нежели люди наемные, ничем мне не обязанные и не питающие ко мнени малейшей любви; вот и получается, что мое добро помещено у них многолучше, чем если бы оно лежало в моих сундуках, навлекая на меня ненависть,зависть и презрение других государей» [24].
Римские императоры оправдывали излишества своих общественных пиров ипредставлений тем, что их власть в некоторой мере зависит (по крайней мере,формально) от воли римского народа, с незапамятных пор привыкшего к тому,что его привлекали на свою сторону подобными зрелищами и другими роскошнымиувеселениями. Ввели и закрепили этот обычай частные лица, чтобы ублажатьсограждан и приближенных всем этим великолепием и изобилием, причем делалиэто главным образом за свой собственный счет; но когда им стали подражать вэтом их повелители, дело обернулось совсем по-другому.
Pecuniarum translatio а iustis dominis ad alienos non debet liberalisvideri [25]. Филипп, узнав о том, что его сынпытается подарками снискать благоволение македонян, отправил ему письмо, вкотором следующим образом попенял ему: «Вот как! Тебе, стало быть, хочется,чтобы твои подданные считали тебя не своим царем, а своим казначеем. Если тыстремишься привлечь к себе благосклонность, привлекай ее благодеяниями твоихдобродетелей, а не благодеяниями твоего сундука» [26].
И все же это было великолепно — доставить и посадить на арене множествовзрослых деревьев, раскидистых и зеленых, изображавших огромный тенистыйлес, разбитый с необычайным искусством, и в первый день выпустить в неготысячу страусов, тысячу оленей, тысячу вепрей и тысячу ланей, предоставивнароду охотиться на этих животных и воспользоваться дичиной; назавтраперебить в его присутствии сто крупных львов, сто леопардов и тристамедведей и на третий день заставить биться насмерть триста пар гладиаторов,как это было устроено императором Пробом [27]. А что за наслаждение быловидеть этот громадный амфитеатр, снаружи облицованный мрамором и украшенныйизваяниями и статуями, а внутри сверкающий редким по богатству убранством;
- Balteus en gemmis, en illita porticus auro; [28]
и со всех сторон этого огромного пустого пространства заполняющие иокружающие его снизу доверху не то шестьдесят, не то восемьдесят рядовсидений, тоже из мрамора, покрытых подушками,
- exeat, inquit,
- Si pudor est, et de pulvino surgat equestri,
- Cuius res legi non sufficit; [29]
где могло разместиться со всеми удобствами сто тысяч человек, видеть,как сначала при помощи искусных приспособлений расступается самое дноамфитеатра, — где и даются игры, — и на нем образуются глубокие трещины ирасщелины, изображающие пещеры, откуда появлялись дикие звери, назначенные кучастию в представлении; как затем это же место заливают водой и онопревращается в глубокое море, которое бороздят бесчисленные морскиечудовища, по которому плавают и вступают в сражения боевые суда; как послеэтого оттуда спускают воду, арена выравнивается и снова осушается длясражения гладиаторов и как напоследок ее вместо песка посыпают киноварью вросным ладаном, чтобы устроить на ней торжественное пиршество для этогобесконечного сонма людей; и это четвертая и последняя перемена в течениеодного дня [30];
- quoties nos descendentis arenae
- Vidimus in partes, ruptaque voragine terrae
- Emersisse feras, et iisdem saepe latebris
- Aurea cum croceo creverunt arbuta libro.
- Nec solum nobis silvestria cernere monstra
- Contigit, aequoreos ego cum certantibus ursis
- Spectavi vitulos, et equorum nomine dignum,
- Sed deforme pecus. [31]
Иногда на той же арене вырастала высокая гора с посаженными на нейплодовыми и всевозможными другими деревьями, из чащи которых на самойвершине изливался ручей, как если б там было начало естественного источника.Иногда тут передвигался взад и вперед большой корабль, который сам собойраскрывался и разверзал свое чрево и, исторгнув из него четыреста илипятьсот диких зверей, назначенных к травле, так же самостоятельно, безчьей-либо помощи, закрывался и исчезал. Иногда снизу, с самого дна арены,начинали бить мощные фонтаны или тоненькие струйки воды, вздымавшиеся высоковверх, чтобы, вознесясь на эту невероятную высоту, рассыпаться таммельчайшими благовонными капельками, освежающими несметную людскую толпу.Чтобы укрыться от палящего солнца или от непогоды, над всем этим огромнымпространством растягивали то навесы из пурпурной ткани с богатою вышивкой,то навесы из шелка того или иного цвета и по своему усмотрению ставили ихили снимали в одно мгновение:
- Quamvis non modico caleant spectacula sole,
- Vela reducuntur, cum venit Hermogenes. [32]
Сетка, отделявшая амфитеатр от арены, чтобы оградить зрителей от яростивыпущенных на волю зверей, была выткана из чистого золота:
- auro quoque torta refulgent
- Retia. [33]
И если что во всех этих излишествах извинительно, так это вызывавшиевсеобщее восхищение изобретательность и новизна, но отнюдь не издержки наних.
Даже на примере этих суетных и пустых забав мы видим, как много было вте времена умов, ничуть не похожих на современные. Подобное изобилиесоздается природой точно так же, как порою она создает изобилие во всем, чтопорождается ею. Я отнюдь не хочу сказать, что эти умы были наивысшим еедостижением. Мы не идем в одном направлении, мы скорее бродим взад и вперед,сворачивая то туда, то сюда. Мы топчем свои собственные следы. Боюсь, чтонаши познания крайне слабы во всех отношениях; мы ничего не видим ни передсобой, ни позади себя; наше познание обнимает очень немногое и видит оченьнемногое, оно крайне ограничено и во времени и в охвате явлений:
- Vixere fortes ante Agamemnona
- Multi, sed omnes illacrimabiles
- Urgentur ignotique longa
- Nocte. [34]
- Et supera bellum Troianum et funera Troiae
- Multi alias alii quoque res cecinere poetae. [35]
И рассказ Солона о том, что ему сообщили египетские жрецы из историидлительного существования их государства и об их способе изучать изапечатлевать истории чужеземных народов, не кажется мне свидетельством,опровергающим только что высказанное мной мнение [36]. Si interminatam inomnes partes magnitudinem regionum videremus et temporum, in quam seiniiciens animus et intendens ita late longeque peregrinatur, ut nullam oramultimi videat in qua possit insistere: in hac immensitate infinita visinnumerabilium appareret formarum [37].
Если бы все дошедшие до нас сведения о минувшем были действительнодостоверными и какой-нибудь человек держал их все в своей голове, то и тогдаэто было бы меньше чем ничто по сравнению с тем, что нам не известно. Дочего же ничтожно даже у людей наиболее любознательных знание того мира,который движется перед нами, пока мы проходим свой жизненный путь! От насускользает во сто раз больше, нежели та малость, которую мы постигаем, и этоотносится не только к отдельным событиям, становящимся порой по воле судьбыпервостепенными и важными по последствиям, но и к положению целых государстви народов. Мы кричим, словно о чуде, о таких изобретениях, как артиллерияили книгопечатание; а между тем другие люди в другом конце света, в Китае,пользовались ими уже за тысячу лет до нас. Если бы мы видели такую же частьнашего мира, какой не видим, мы бы, надо полагать, поняли, насколькобесконечно разнообразие и многоразличие форм. И если взглянуть на сущееглазами природы, то окажется, что на свете нет ничего редкого инеповторимого; оно существует только для нашего знания, которое являетсявесьма ненадежной отправной точкой наших суждений и которое то и деловнушает нам крайне ложное представление о вещах. И подобно тому, как мы нынеприходим к нелепым выводам о дряхлости и близком конце мира, опираясь надоводы, которые извлекаем из картины нашей собственной слабости и нашегособственного упадка,
- Iamque adeo affecta est aetas, affectaque tellus; [38]
точно так же к нелепым выводам о его недавнем рождении и его юностипришел и древний поэт, видевший столько мощи и живости в умах своеговремени, щедрых на новшества и изобретения разного рода:
- Verum, ut opinor, habet novitatem summa, recensque
- Natura est mundi, neque pridem exordia coepit;
- Quare etiam quaedam nunc artes expoliuntur,
- Nunc etiam augescunt, nunc addita navigiis sunt
- Multa. [39]
Наш мир только что отыскал еще один мир (а кто поручится, что этопоследний из его братьев, раз демоны, сивиллы и, наконец, мы сами до сих порне имели понятия о существовании этого нового мира?), мир не меньшийразмерами, не менее плодородный, чем наш, и настолько свежий и в такомнежном возрасте, что его еще обучают азбуке; меньше пятидесяти лет назад онне знал ни букв, ни веса, ни мер, ни одежды, ни злаков, ни виноградной лозы.Он был наг с головы до пят и жил лишь тем, что дарила ему мать-кормилица,попечительная природа. Если мы пришли к правильным выводам о конце нашеговека и не менее правильны выводы цитированного поэта о юности того века, вкоторый он жил, то вновь открытый мир только-только выйдет на свет, когданаш погрузится во тьму. Вселенная впадет в паралич; один из ее членов станетбезжизненным, другой — полным силы. Я очень боюсь, как бы мы не ускорилиупадка и гибели этого юного мира, продавая ему по чрезмерно высокой цене инаши воззрения и наши познания. Это был мир-дитя. И все же нам до сих пор неудалось, всыпав ему порцию розог, подчинить его нашим порядкам, хотя мы ирасполагаем перед ним преимуществом в доблести и природной силе, не удалосьпокорить справедливостью и добротой, не удалось привлечь к себевеликодушием. Большая часть ответов тамошних жителей и их речи во времяпереговоров, которые с ними велись, свидетельствуют о том, что они нискольконе уступают нам в ясности природного ума и в сообразительности [40].Потрясающее великолепие городов Куско и Мехико и среди прочих диковинок садих короля, где все деревья, все плоды и все травы, расположенные так же, какони обычно произрастают в садах, и с соблюдением их натуральной величины,были поразительно искусно выполнены из золота, каковыми были в его приемнойи все животные, которые водились на его землях и в водах его морей, и,наконец, красота их изделий из камня, перьев и хлопка, а также произведенияих живописи наглядно показывают, что они нисколько не ниже нас и в ремеслах.Но что касается благочестия, соблюдения законов, доброты, щедрости,честности, искренности, то нам оказалось весьма и весьма кстати, что всегоэтого у нас не в пример меньше, чем у них; из-за этого преимущества переднами они сами себя погубили, продали и предали. Что до смелости и отваги, дотвердости, стойкости, решительности перед лицом страданий, голода, смерти,то я не побоюсь сопоставить находимые мной среди них образцы с наиболеепрославленными образцами античности, все еще бережно хранимыми памятьюнашего мира по эту сторону океана. Но что касается тех, кто подчинил ихсвоей власти, то пусть они примут во внимание хитрости и фиглярство, которыебыли ими использованы для обмана обитателей вновь открытых земель, иестественное изумление этих народов при виде нежданно-негаданно явившихся кним бородатых существ, отличавшихся от них языком, верованиями,телосложением, всем своим обликом, явившихся к тому же из столь отдаленныхмест, что они никогда и представить себе не могли, будто и там могутсуществовать какие-нибудь поселения, и притом верхом на огромных, неведомыхим чудовищах, к ним, не только никогда не видевшим лошади, но и не знавшимникакого иного животного, приученного носить на себе человека или другиетяжести; так вот, повторяю, пусть они примут во внимание их изумление привиде людей, облаченных в блестящую кожу и вооруженных сверкающим и разящиморужием и действующих им против тех, кто, потрясенный таким невиданнымчудом, как зеркало или блестящий нож, отдавал за них целое богатство взолоте и жемчугах, против тех, кто не имел ни знаний, ни средств, чтобыпробивать по своему желанию нашу сталь; добавьте сюда также громы и молниинаших пушек и аркебуз, которые нагнали бы ужас на самого Цезаря, если бы онстолкнулся с ними, так же не имея о них понятия и так же врасплох, как этинароды, и которые были пущены в ход против них, ходящих совсем нагишом, еслине считать, что к этому времени они уже научились ткать кое-что из хлопковойпряжи, и к тому же не располагавших никаким другим вооружением, кроме лука,камней, копьев и деревянных щитов; к тому же народы эти были введены взаблуждение притворным простодушием и дружелюбием белых пришельцев иохвачены любопытством и жаждой увидеть вещи, для них чуждые и неизвестные.Так вот, говорю я, отнимите у победителей все эти благоприятствующие имобстоятельства, и вы лишите их всякой возможности одерживать столько побед.
Наблюдая неукротимый пыл, с каким тысячи мужчин, женщин и детей столькораз выходили и устремлялись навстречу неизбежным опасностям, отстаивая своихбогов и свою свободу; наблюдая их благородную стойкость в претерпеваниивсевозможных бедствий и трудностей и даже смерти, лишь бы не подпастьвладычеству тех, кем они были так бесстыдно обмануты, причем некоторые,будучи захвачены в плен, предпочитали скорее умереть от голода и истощения,чем принять жизнь из рук врага, столь подлым образом добившегося над нимипобеды, я предвижу, что любому, кто пойдет на них при равных условиях — всмысле вооружения, боевой опытности и численности, — придется испытать всете же опасности, которыми, как мы видим, чревата всякая другая война.
Какая жалость, что это столь благородное приобретение не было сделанопри Александре или при древних греках и римлянах и столь великиепреобразования и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошлипри тех, кто мог бы бережно смягчить и сгладить все, что тут было дикого, ивместе с тем поддержать и вырастить добрые семена, брошенные здесь самоюприродой, не только привнося в обработку земли и украшение городов искусствоСтарого Света, но также привнося в добродетели туземцев добродетелигреческие и римские! Каким это было бы улучшением и какимусовершенствованием нашей планеты, если бы первые образцы нашего поведенияза океаном вызвали в этих народах восхищение добродетелью и подражание ей иустановили между ними и нами братское единение и взаимопонимание! До чего желегко было бы ей завоевать души столь девственные, столь жадные к восприятиювсего нового, в большинстве своем с прекраснейшими задатками, вложенными вних природою! Мы же поступили совсем по-иному, воспользовались их неведеньеми неопытностью, чтобы тем легче склонить их к предательствам, роскоши,алчности и ко всякого рода бесчеловечности и жестокости по образу и подобиюнаших собственных нравов. Кто когда-нибудь покупал такою ценой услуги,доставляемые торговлей и обменом товарами? Столько городов разрушено дооснования, столько народов истреблено до последнего человека, столькомиллионов людей перебито беспощадными завоевателями, и богатейшая ипрекраснейшая часть света перевернута вверх дном ради торговли перцем ижемчугом: бессмысленная победа! Никогда честолюбие, никогда гражданскиераспри, толкавшие людей друг на друга, не приводили их к столь непримиримойвражде и не причиняли им столь ужасающих бедствий.
Плывя вдоль побережья в поисках золотых копей и серебряных рудников,несколько испанцев высадились на сушу в области плодородной и приятной.Здесь они представились местным жителям, как это делают обычно, а именно,заявляя, что они люди мирные, прибывшие из дальних стран, посланные поповелению и от имени короля кастильского, самого могущественного государяобитаемой земли, которому папа, наместник бога на земле, отдал во владениевсю Индию, и что если местные жители пожелают стать его данниками, с нимибудут хорошо обращаться. Затем испанцы попросили съестных припасов и золота,якобы необходимого им для некоторых лекарств; они рассказали также о вере вединого бога и говорили об истинности нашей религии, которую советовалипоскорее принять; ко всему этому они присовокупили и кое-какие угрозы.Выслушанный ими ответ был таков: что касается их заявления о том, что онилюди мирные, то, если бы они и впрямь были такими, то выглядели бы совсемпо-другому; что до их короля, то раз он обращается с просьбами, значит онбеден и терпит нужду; что до сделавшего ему этот подарок, то это человек,любящий сеять раздоры, ибо, отдавая третьему лицу то, что ему отнюдь непринадлежит, он вовлекает его в ссоры с давними собственниками; что досъестных припасов, то их они предоставят; золота у них очень мало, и этовещь совсем не ценимая ими, так как она бесполезна и не нужна им для жизни,ибо вся их забота заключается в том, чтобы прожить счастливо и приятно; темне менее все, что пришельцы смогут найти, кроме того, что требуется им самимдля служения их богам, пусть смело забирают с собой; что до единого бога, торечи о нем пришлись им по душе, но они не желают менять религию, посколькуона столь долгое время служила им с такою пользою; ну, а что до угроз, тоугрожать тем, чей характер и чьи средства защиты неведомы, — признакнерассудительности; итак, пусть пришельцы поторопятся очистить их землю, ибоони не привыкли доверять любезности и посулам людей вооруженных и имнеизвестных; в противном случае с ними обойдутся так же, как со всемидругими. И пришельцам показали несколько человеческих голов, объяснив, чтоэто — головы казненных в их городе. Вот образец их якобы детского лепета. Нокак бы там ни было, ни здесь, ни в других местах, где испанцы не находилитого, что искали, их не задержали и на них не напали, какие бы возможности ких истреблению ни представлялись, и свидетели этому — мои каннибалы [41].
Из двух наиболее могущественных монархов Нового Света, а может быть иСтарого, двух владык над владыками, двух последних государей из многихсвергнутых испанцами с тронов, государь Перу был захвачен ими в плен в одномиз сражений, и за него был назначен настолько несоразмерный выкуп, что дажетрудно поверить, который все же был полностью и честно внесен, и этотгосударь обнаружил в беседах и разговорах прямодушное, снисходительное истойкое мужество и ум ясный и здравый. Однако, получив с него один миллионтриста двадцать пять тысяч пятьсот золотых безамов [42], кроме серебра идругих вещей, стоивших самое малое столько же, так что после этого испанцыподковали своих лошадей тяжелыми золотыми подковами, победители возымелижелание выяснить, не останавливаясь ни перед какими бесчестными средствами,каковы же оставшиеся у этого государя сокровища, и получить в своераспоряжение все, что ему удалось сохранить. Ради этого против него быловыдвинуто лживое обвинение и собраны лжесвидетельства, якобы уличавшие его втом, что он собирается возмутить свои земли и вырваться на свободу. На этомосновании по справедливому и нелицеприятному приговору тех же самых, ктосостряпал этот поклеп, его присудили к публичному повешению и удавлению,заставив сожжение заживо на костре купить ценою крещения, которое и былосовершено над ним на месте казни. Ужасный, неслыханный случай, но онвытерпел все эти муки, не унизив себя ни выражением лица, ни единым словом,и держался все время с поистине королевским достоинством. По совершении этойказни испанцы, чтобы успокоить оцепеневший от столь небывалой вещи ипотрясенный народ, притворились, будто глубоко скорбят о его смерти, иустроили ему пышные похороны.
Другой государь, король Мексики, после того как долго защищал свойосажденный город и выказал во время этой осады упорство и твердость, какиеедва ли были когда-нибудь выказаны другими государями и другими народами, насвое несчастье живым отдался в руки врагов при условии, что с ним будутобращаться по-королевски (и, пребывая в тюрьме, он не сделал ничего недостойного этого титула); не обнаружив после этой победы всего того золота,которое они сами себе обещали в мечтах, и перерыв и перекопав все на свете,испанцы принялись добывать желательные им сведения при помощи жесточайшихпыток, какие только могли придумать, над томившимися у них узниками. Но,ничего от них не добившись, так как их мужество оказалось сильнее пыток, онивпали в такую ярость, что в нарушение своего слова и международного правапорешили подвергнуть пытке на глазах друг у друга самого короля и одного изего виднейших придворных.
Этот придворный, чувствуя, что ему не устоять перед болью, окруженныйсо всех сторон жаровнями с раскаленным углем, обратил на своего господинаопечаленный взор, как бы прося у него прощения за то, что больше не можеттерпеть. Король, вперив в него надменный и строгий взгляд, чтобы бросить емуупрек в трусости и малодушии, сказал всего несколько слов, произнеся ихжестким и твердым голосом: «А я? или, быть может, я в бане? Или мне легче,чем тебе?» Этот придворный вскоре после этого был сломлен болью и умер тутже на месте. Короля же, наполовину изжаренного, унесли оттуда — не изсострадания (ибо какое сострадание трогало когда-нибудь души людей,способных смотреть, как поджаривается у них на глазах человек, больше того —король, в сомнительной надежде выведать от него, где находится золотая ваза,которую они жаждут присвоить), но потому, что его стойкость все больше ибольше вгоняла в стыд их жестокость. Впоследствии они его все же повесили,так как он предпринял отчаянную попытку с оружием в руках освободиться отдлительного плена и рабства; он умер, как подобает умереть государю со стольвозвышенною душой.
В другой раз они решили сжечь заживо на огромном костре четыресташестьдесят человек — четыреста из простого народа и шестьдесят из наиболеезнатных сановников той области, где это произошло, — самых обыкновенныхвоеннопленных. Мы знаем об этом от самих испанцев, ибо они не толькопризнаются во всех этих зверствах, но и похваляются ими и всячески ихпревозносят. Было ли это свершением правосудия или проявлением религиозногорвения? Разумеется, подобный путь совершенно не совместим со столь священнойцелью и, больше того, уводит от нее в прямо противоположную сторону. Если быони действительно стремились распространить нашу веру, они бы сообразили,что способствует этому не завоевание новых земель, а завоевание душчеловеческих; они бы довольствовались теми убийствами, которые понеобходимости приносит война, и не добавляли к ним истребления всех безразбора, словно перед ними — дикие звери. Они уничтожили столько людей,сколько можно было уничтожить огнем и мечом, намеренно сохраняя в живыхтолько тех, кого они хотели превратить в своих жалких рабов для работы нарудниках. В конце концов дело дошло до того, что несколько испанскихвоеначальников, справедливо возмущенных и пришедших в ужас от чинимых иминасилий по повелению королей Кастилии были преданы смерти в местах, где ониодерживали победы [43], и почти все другие военачальники подверглисьнемилости и опале. И, воздавая им по заслугам, господь попустил, чтобы этинаграбленные ими сокровища неисчислимой ценности при перевозке былипоглощены океанской пучиной и погибли в междоусобных войнах, в которыхзавоеватели безжалостно истребляли друг друга; и большая часть испанцевполегла в этих заморских землях, так и не вкусив плодов от своих побед.
Что же касается поступлений оттуда, то даже в руках столь бережливого иблагоразумного государя [44], как нынешний, они не отвечают надеждам,которые обольщали его предшественников и основывались на первоначальномизобилии всевозможных богатств, сразу же обнаруженных на этих вновьнайденных землях (ибо, хотя и сейчас из них извлекается достаточно много,все же это так ничтожно по сравнению с тем, чего можно было ожидать).Причина же в том, что народам Нового Света были совершенно неизвестныупотребление и чеканка денег и вследствие этого все их золото собиралосьгде-нибудь в одном месте — ведь оно использовалось лишь для того, чтобывыставляться напоказ, как утварь, наследуемая от отца к сыну на протяжениимногих поколений могущественных государей, опустошавших свои рудникиисключительно с целью накапливать всю эту груду сосудов и статуй дляукрашения дворцов и храмов, тогда как наше золото находится в обращении и вторговле. Мы его расточаем и портим в тысячах изделий, мы его разбрасываем ирассеиваем. Попробуем же представить себе, что получилось бы, если бы и нашикороли так же в течение многих веков занимались накоплением золота, где быони его ни находили, и так же сохраняли его без всякого употребления.
Жители мексиканского королевства были в некоторой мере цивилизованнее иискуснее, чем все остальные народы за океаном. Вот и они, подобно нам,полагали, что вселенная близится к своей гибели, и видели предзнаменованиеэтого в опустошениях, которые мы им принесли. Они верили, что существованиемира подразделяется на пять периодов и это связано с жизнью пятипоследовательно сменявших друг друга солнц, из которых четыре уже прожилисвои сроки, а то, что их освещает, — пятое. Первое погибло вместе со всемсущим при всеобщем потопе; второе — из-за падения на нас неба, раздавившеговсе живое, и этот век они отводят гигантам, чьи кости они показывалииспанцам (исходя из пропорций нашего тела, можно предполагать, что рост этихлюдей достигал двадцати пядей); третье — от огня, охватившего и пожравшеговсе; четвертое — от движения воздуха и от ветра, опрокинувшего даже многиегоры, — на этот раз люди не умерли, а превратились в обезьян (каких тольконелепостей не принимает за истину человеческое легковерие!); после гибелиэтого четвертого солнца мир в течение двадцати пяти лет был погружен внепрерывную тьму, причем на пятнадцатый год были созданы мужчина и женщина,восстановившие род человеческий, а спустя десять лет, в определенный по ихсчету день, появилось вновь сотворенное солнце, и с этого дня они и ведутсвое летосчисление. На третий день по его сотворении умерли древние боги;новые появились позднее, рождаясь каждый день один за другим. Каким образом,по их мнению, погибнет последнее солнце, этого мой автор не выяснил. Нопринятая у них дата гибели четвертого солнца совпадает по времени с темсочетанием небесных светил, которое, как полагают наши астрологи,приблизительно восемьсот лет назад принесло миру великие и многочисленныеновшества и изменения.
Что касается пышности и роскоши, с чего я и начал рассмотрение моегопредмета, то ни Греция, ни Рим, ни Египет не могут сравнить ни одно из своихтворений — ни в смысле полезности, ни в отношении трудности выполнения, ни вблагородстве — с большой дорогой, которую можно увидеть в Перу и которуюпроложили прежние владыки этой страны от города Кито до города Куско (еепротяженность — триста лье), прямою, гладкой, мощеной, огражденной с обеихсторон прекрасными и высокими стенами, с текущими вдоль них с внутреннейстороны двумя никогда не иссякающими ручьями, обсаженными красивымидеревьями, которые на их языке называются «молли».
Где они встречали на своем пути горы и скалы, они пробивали их ивыравнивали, а где им попадались ямы, они закладывали их камнями,скрепленными известью. В начале каждого древнего перегона у них были большиедворцы, где хранились съестные припасы, одежда и оружие как для нуждпутешественников, так и для проходящего войска. Воздавая должное этойработе, я принимаю в расчет трудности ее исполнения, которых в этих местахбыло особенно много. Они строили из камней размером не менее десятиквадратных футов; и у них не было других средств перемещения строительныхматериалов, кроме их собственных рук, и они тащили свои грузы волоком; и небыло у них также способов поднимать тяжести, кроме единственного приема,состоявшего в том, чтобы возле возводимого ими строения по мере еговозрастания насыпать землю, а затем убирать ее прочь.
Коснемся вопроса об их средствах передвижения. Вместо всяких колесниц иповозок они пользовались для своих переездов людьми, которые и носилипутешественников на плечах. Упомянутого выше короля Перу в тот день, когдаон был захвачен испанцами, носили на золотых носилках, и, находясь в гущесражения, он сидел на золотом кресле. По мере того как убивали егоносильщиков, чтобы он упал наземь, — ибо его хотели захватить живым, — ихместо по собственному желанию занимали другие, так что его никак не моглиссадить с кресла, пока один всадник-испанец не схватил его и не опустил наземлю.
Глава VII
О стеснительности высокого положения
Не имея возможности достичь высокого положения, давайте в отместку егоочерним. Впрочем, найти в чем-либо известные недостатки не значит очернить;их можно найти в любой вещи, как бы хороша и вожделенна она ни была, темболее что у высокого положения есть то преимущество, что с ним можно пособственному желанию расстаться, и почти всегда есть возможность выбораболее высокой или более низкой ступени: ведь не со всякой высоты непременнопадаешь, гораздо чаще можно благополучно опуститься. Сдается мне, что мывообще склонны переоценивать высокое положение, равно как и даватьнепомерную оценку решимости тех, кто на наших глазах презрел его, или жеуверяет, что полон к нему презрения, или же добровольно от него отказался.Само по себе оно вовсе не так приятно, чтобы всякий отказ от негорассматривать как чудо.
Я считаю тягостными усилия, необходимые для того, чтобы перенестистрадание, но не усматриваю никакой доблести в удовлетворенности скромнойдолей и в бегстве от величия. По-моему, это добродетель, которой и я, не богвесть кто, достиг без особого напряжения. Что же сказать о тех, кто приметво внимание и славу, сопутствующую такому отказу, с которым может бытьсвязано больше честолюбивых помыслов, чем со стремлением к высокомуположению и с радостью от того, что оно достигнуто? Ведь честолюбие дляудовлетворения своего часто избирает пути обходные и необычные.
Мужеством я вооружаюсь преимущественно для терпения, а не длядостижения каких-либо желаний. Их у меня не меньше, чем у кого-либо другого,и предоставляю я им не меньше свободы и самостоятельности. Однако же мне и вголову не приходило мечтать ни о державе и престоле, ни о величии, котороеобретаешь в столь высоком положении. Я на это не зарюсь, ибо слишком люблюсебя. Если я и стремлюсь к росту, то не в высоту, и применяюсь ко всему, чтоему препятствует: я хочу расти в том, что мне доступно, достигая большейрешимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Но всеобщийпочет, но могущество власти подавляющим образом действуют на моевоображение. И, в противоположность одному великому человеку [1], япредпочту быть вторым или третьим в Периге, чем первым в Париже, или, вовсяком случае, не кривя душой, — занимать в Париже скорее третье, чем самоепервое место. Я не хочу быть ни таким жалким и никому не известнымсуществом, чтобы мне приходилось вступать в споры с привратниками, ни струдом пробивать себе дорогу среди обступившей меня с великим обожаниемтолпы. Я и самой судьбой и личными склонностями предназначен к некоемусреднему положению. И всем своим жизненным поведением и начинаниями своими япоказал, что всегда скорее отступлюсь, чем стану перепрыгивать черезступень, определенную мне господом богом от рождения.
Всякое естественное состояние есть тем самым и справедливое и наиболееудобное.
Будучи от природы осмотрительным, я, в погоне за счастьем, ищу нестолько высоты, сколько легкости достижения.
Но если сердцу моему недостает мужества, то зато оно искренно, что изаставляет меня прямо говорить о его слабости. Если бы мне пришлось провестиследующее сравнение: с одной стороны, жизнь Луция Тория Бальба [2], человекаблагородного, красивого, образованного, здорового, который мог и умелпользоваться всеми радостями и наслаждениями жизни, вел существованиеспокойное и независимое, укрепив душу против страха смерти, суеверия,страдания и всех забот, неизбежно выпадающих на долю человека, и в концеконцов встретил смерть в бою, с оружием в руках защищая отечество; с другой — жизнь Марка Регула [3], всем известная своим величием и доблестью, — и еедостославный конец; одна — не отмеченная людской молвой и хвалами; другая —озаренный славой пример людям. Я без сомнения сказал бы о них так же, какЦицерон, если бы обладал в той же степени искусством слова. Но, мерь я их посвоей мерке, я добавил бы также, что первая настолько же подходит мне и моимстремлениям, которые я соразмеряю со своей природой, насколько вторая от нихдалека, что ко второй я могу отнестись лишь с величайшим восхищением, апервой охотно подражал бы на деле. Примем же ту свою величину, которая намдана в жизни и из которой мы исходим.
Противны мне и владычество и покорность.
Отан, один из семи, имевших право притязать на трон Персии, принялрешение, которое и мне было бы по сердцу: он передал сотоварищам свое праводостичь верховной власти путем избрания или же волей судьбы с тем лишьусловием, что ему и его близким предоставлена будет возможность жить вперсидской державе, не пользуясь властью, но и не подчиняясь ничему, кромедревних обычаев, и обладая всею той свободой, которая не нарушает их, — так,чтобы и не повелевать, и не выполнять никаких повелений [4]. Самое, на мойвзгляд, тягостное и трудное на свете дело — это достойно царствовать.Ошибки, совершаемые королями, я сужу более снисходительно, чем это вообщепринято, ибо со страхом думаю о тяжком бремени, лежащем на властителях.Трудно соблюдать меру в могуществе столь безмерном. И надо сказать, что длядобродетели тех из них, кто от природы менее благороден, величайшееиспытание — занимать место, где нельзя сделать ничего хорошего так, чтобыэто сразу же не было учтено и взвешено, где малейшее доброе дело,совершенное вами, касается стольких людей зараз и где своим поведением вывоздействуете прежде всего на народ, судью недостаточно справедливого,которого легко и обморочить и ублажить.
Мало есть на свете вещей, о которых мы способны высказать нелицемерноесуждение, ибо среди них мало таких, которые так или иначе не вызывали бы внас корысти. Более высокое или более низкое положение, владычество илиподчиненность естественным образом вынуждаются к соперничеству и спору,неизбежно и неизменно противостоят друг другу. Ни тому ни другому не могу яверить, когда они судят о правах соперника: пусть же говорит разум, ибо оннепоколебим и беспристрастен, когда мы ему доверяемся. Без малого месяцназад я просмотрел две книги шотландских авторов, споривших по этому поводу.Сторонник народовластия считает, что король — ниже ломового извозчика;поклонник монархической власти возносит его по могуществу власти нанесколько саженей над самим господом богом [5].
Между тем тягостность высокого положения, в которой я мог убедитьсявоочию, так как недавно мне представился для этого случай, состоит вследующем. В отношениях между людьми нет, может быть, ничего увлекательнее,чем то соревнование в чести и доблести, в которое мы вступаем друг с другом,упражняя свои физические и духовные силы, и в котором никогда не могутпо-настоящему принять участие носители верховной власти. По правде сказать,мне часто казалось, что при этом именно от великого почтения к ним относятсяс обидным пренебрежением. Ибо в детстве, например, мне было всегооскорбительнее, если соревнующиеся со мною в чем-либо делали это вполсилы,считая меня не достойным их соперником; нечто подобное постоянно происходитс королями — никто не осмеливается вступать с ними в настоящее соревнование.Если становится заметным, что своей победе они придают большое значение,каждый старается им поддаться и, чтобы не нанести ущерба их славе, всегдаготов поступиться своей, прилагая лишь столько усилий, сколько нужно длятого, чтобы оказать им честь. Какое же участие принимают они в борьбе, гдевсе — за них? Это напоминает мне паладинов былых времен, которые насостязания и битвы являлись наделенные волшебной силой или вооруженныезаколдованным мечом. Брисон, состязавшийся в беге с Александром, поддался;Александр выбранил его за это, а следовало всыпать ему плетей [6]. Карнеадговорил, что дети царей лишь верховой езде учатся по-настоящему, ибо в любыхдругих упражнениях им все уступают, чтобы они могли быть первыми, а конь, небудучи придворным льстецом, сбросит с себя царского сына так же просто, каксына какого-нибудь грузчика [7]. Для того, чтобы столь нежной богине, какВенера, придать черты мужества и храбрости, свойств, которые присущи лишьтем, кто может подвергнуться опасности, Гомер вынужден был изобразить, как вбитве за Трою она была ранена [8]. Богов заставляют испытывать гнев, страх,заставляют их обращаться в бегство, жаловаться, подпадать человеческимстрастям, чтобы можно было наделить их доблестью, которую порождают в насвсе эти несовершенства. Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, неможет также притязать на честь и радость, вознаграждающие за смелыйпоступок. Жалостная участь — обладать такой властью, что все перед вамисклоняется. Высокая доля слишком далеко отбрасывает от вас других людей,препятствует их общению с вами, и вы оказываетесь в стороне от всех. Легкая,безо всяких усилий дающаяся возможность все себе подчинять враждебна какомубы то ни было удовольствию: это означает скользить, а не ходить, дремать, ане жить. Представьте себе человека, наделенного всемогуществом: оно быумалило его; ведь он должен был бы, как милости, просить у вас, чтобы выставили ему препятствия и оказывали сопротивление; он обделен — и всемсуществом своим и благами жизни.
Добрые качества земных владык мертвы, не могут проявиться: ведь о нихможно судить лишь по сравнению с чем-либо, а сравнение-то как раз и делаютневозможным. Подлинного одобрения они почти вовсе не знают, постоянноосыпаемые одними и теми же неизменными хвалами. Даже имея дело с самымглупым из своих подданных, они не имеют возможности по-настоящему превзойтиего в чем-либо. Тот скажет: «Ведь это же мой государь», — и, по его мнению,всем уже ясно, что он дал себя одолеть. Верховная власть — качество, котороеподавляет все прочие, существенные и подлинные качества: они в нейрастворяются, и им дано проявляться лишь в действиях, с ней непосредственносвязанных и ей служащих, — в делах царствования и правления. Так великокоролевское достоинство, что облеченный им — только государь. Окружающееего, извне идущее сияние скрывает от нас человека: взор наш ничего неразличает, — наполненный и отягощенный этим слишком ярким светом, оноказывается как бы отброшенным назад. Римский сенат присудил Тиберию первуюнаграду за красноречие; тот отказался от нее, полагая, что, даже если она имзаслужена, присуждение не было сделано по свободному волеизъявлению иникакой чести оно ему не принесет [9].
Уступая государям во всем, что касается чести и славы, утверждают иукрепляют также их недостатки и пороки не только простым одобрением, но иподражанием. Каждый из свиты Александра старался держать, подобно ему,голову склоненной на сторону. А льстецы Дионисия в его присутствиинатыкались друг на друга, толкали и опрокидывали все, что попадалось им подноги, чтобы показать, будто они так же близоруки, как он. Иногдарекомендацией и средством войти в милость служила грыжа. Я наблюдал, каклюди из лести изображали глухоту, а Плутарх рассказывает, что у властителя,возненавидевшего жену, придворные разводились со своими женами, хотя илюбили их [10]. Более того, по временам в моду входили разврат и всяческаяраспущенность, а также вероломство, кощунство, жестокость, а также ересь, атакже суеверие, безверие, изнеженность и еще худшие пороки, если такиеимеются. Можно привести пример гораздо более пагубный, чем тот, что явилильстецы Митридата, которые давали своему владыке, притязавшему на честьсчитаться хорошим врачом, резать и прижигать их члены [11]: я имею в видутех, кто позволяет калечить себе душу, орган гораздо более благородный инежный.
Но, дабы кончить тем же, с чего начал, приведу еще кое-что. Когдаимператор Адриан спорил с философом Фаворином о значении некоторых слов, тоточень скоро с ним во всем согласился. Друзья его вознегодовали по этомуповоду, но он ответил: «Смеетесь вы надо мной, что ли? Как может он,начальствуя над тридцатью легионами, не быть ученее меня?» [12] Август писалэпиграммы на Азиния Поллиона: «А я, — сказал Поллион, — буду молчать.Неблагоразумно писать против того, кто может предписать мне отправиться вссылку» [13]. И оба они были правы. Ибо Дионисий, не будучи в состояниисравняться в искусстве поэзии с Филоксеном и в красноречии с Платоном,одного приговорил к работам в каменоломнях, а другого велел продать врабство на остров Эгину [14].
Глава VIII
Об искусстве беседы
У нашего правосудия существует обычай осуждать одних в пример другим.
Осуждать их за то, что они провинились, было бы, как говорит Платон,нелепым [1], ибо того, что сделано, переделать нельзя. Но осуждают затем,чтобы они больше не совершали тех же провинностей, или же затем, чтобыдругим неповадно было делать то же самое.
Когда человека вешают, его этим не исправишь, но другие на этом примереисправляются. Так же поступаю и я. Заблуждения мои порою свойственны самойприроде моей и неисправимы. Но как люди достойные представляют всем другимпример для подражания, так и я окажу им известную услугу, показав, чегоследует избегать.
- Nonne vides Albi ut male vivat filius, utque
- Barrus inops? magnum documentum, ne patriam rem
- Perdere quis velit. [2]
Выставив напоказ и осудив свои собственные недостатки, я научукого-нибудь опасаться их. По свойствам своей натуры, на мой взгляд наиболееценным, я склонен скорее себя обвинять, чем превозносить. Вот почему япостоянно возвращаюсь к этому и останавливаюсь на этом. Но, рассказывая просебя, поступаешь в ущерб себе: самообвинениям твоим всегда охотно верят,самовосхвалениям — никогда.
Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезный урокизвлекут скорее из вещей неблаговидных, чем из примеров, достойныхподражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот роднауки имел в виду Катон Старший, когда говорил, что мудрец большему научитсяот безумца, чем безумец от мудреца [3], а также упоминаемый Павсаниемдревний лирик, у которого в обычае было заставлять своих учениковприслушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на егопримере учились они избегать неблагозвучия и фальши. Отвращение к жестокостиувлечет меня по пути милосердия гораздо дальше, чем удалось бы любомуобразцу мягкосердечия. Отличнейший наездник не так искусно научит меняхорошо сидеть в седле, как судейский чиновник или моряк-венецианец верхом наконе. А чтобы блюсти чистоту языка, неправильную речь мне слушать полезнее,чем правильную. Нелепое поведение глупца постоянно служит мнепредупреждением и советом. То, что вызывает возмущение, больше волнует ибудоражит, чем то, что нравится. Нашему времени гораздо свойственнееисправлять людей дурными примерами, разладом больше, чем слаженностью,противоположным больше, чем сходным. Не видя кругом хороших примеров, япользуюсь дурными, ибо их сколько угодно. Наблюдая людей докучных, ястарался быть тем приятнее, наблюдая слабых, воспитывал в себе большуютвердость и у резких учился быть как можно снисходительнее. Однако той жемеры, что они, я достичь не мог.
Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума — по-моему,беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня наиболее приятный.Вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я навернопредпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи. Афиняне, а вследза ними и римляне придавали в своих Академиях высокое значение этомуискусству. В наше время итальянцы сохранили в нем некоторые навыки к большойдля себя выгоде, если сравнить их способность суждения с нашей. Учасьчему-либо по книгам, движешься вперед медлительно, слабо, безо всякого пыла;живое же слово и учит и упражняет. Если я веду беседу с человеком сильнойдуши, смелым соперником, он нападает на меня со всех сторон, колет и справаи слева, его воображение разжигает мое. Дух соревнования, стремление кпобеде, боевой пыл увлекают меня вперед и возвышают над самим собой. Полноесогласие — свойство для беседы весьма скучное.
Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя ипредставить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневномсоприкосновении и общении с умами низменными и ущербными. Это самаягибельная зараза. По опыту своему я знаю, чего это стоит. Я люблю беседы испоры, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо выставлять себя напоказперед сильными мира сего, щеголять своим умом и красноречием я считаю делом,недостойным порядочного человека.
Глупость — свойство пагубное, но неспособность переносить ее, терзаясьраздражением, как это со мною случается, — тоже недуг, не менее докучный,чем глупость, и я готов признать за собою этот недостаток.
В беседу и спор я вступаю с легкостью, тем более что общепринятыемнения не находят во мне благоприятной почвы, где они могли бы укорениться.Никакое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они нибыли мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я несчел бы вполне допустимым порождением человеческого ума. Мы, не признающиеза суждением своим права выносить приговоры, должны снисходительноотноситься к самым различным мнениям, и если мы с ними не согласны, будем ихвсе же спокойно выслушивать. Если одна чаша весов совсем пуста, пусть надругую, колебля ее, лягут хотя бы сонные грезы какой-нибудь старушки.Полагаю также вполне извинительным предпочитать нечетные числа, четверг, ане пятницу, стараться быть за столом не тринадцатым, а двенадцатым иличетырнадцатым, охотнее наблюдать, как заяц бежит вдоль дороги, по которойпутешествуешь, чем как он перебегает ее, и при обувании протягивать слугесперва правую ногу. Все эти выдумки, которым верят окружающие, заслуживаютхотя бы того, чтобы их выслушивать: по мне, это бабьи сказки, но и бабьисказки уже кое-что. Народные приметы и гадания все же не ничто, а нечто. Тотже, кто думает иначе, стремясь избежать суеверия, впадает в порокбессмысленного упрямства.
Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не угнетают меня, атолько возбуждают и дают толчок моим умственным силам. Мы не любим поученийи наставлений; однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда онипреподносятся в виде беседы, а не какой-нибудь нотации. При малейшемвозражении мы стараемся обдумать не основательность или неосновательностьего, а каким образом, всеми правдами или неправдами, его опровергнуть.Вместо того, чтобы раскрыть объятия, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушатьот друзей самую резкую отповедь: ты дурак, ты городишь вздор. Я люблю, чтобыпорядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились смыслями. Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не изнеживатьих, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, укоторых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, яценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же как любовь,которая может кусаться и царапаться до крови.
Ей не хватает пыла и великодушия, если она не задириста, если она такблаговоспитанна и изысканна, что боится резких толчков и все время стараетсясдерживаться.
- Neque enim disputari sine reprehensione potest. [4]
Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: япредпочитаю того, кто противоречит мне и тем самым учит меня. Общим делом иего и моим должна быть истина. Что сможет он ответить, если ярость ужепомутила ему рассудок, а раздражение вытеснило разум? Было бы полезно битьсяв наших спорах об заклад, чтобы за ошибки мы платились бы чем-товещественным, вели им счет и чтобы слуга мог сказать нам: в прошлом году выпотеряли сотню экю на том, что двадцать раз проявили невежество и упрямство.Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсьей, протягиваю ей свое опущенное оружие, даже издалека видя ее приближение.Если, критикуя мои писания, принимают не слишком высокомерный инаставительный тон, я охотно прислушиваюсь и многое меняю в написанном мноюскорее из соображений учтивости, чем для того, чтобы действительнопроизвести какие-то улучшения. Даже в ущерб себе я готов легко уступатькритикам, чтобы поддерживать и поощрять в них желание свободно выражать своимнения. Однако современников моих крайне трудно вовлечь в такой спор: у нихнет мужества указывать собеседнику на его ошибки; не хватает у них духу и нато, чтобы самим принимать его замечания, и друг с другом они всегда говорятнеискренно. Я настолько люблю, чтобы люди обо мне судили и узнавали моюподлинную сущность, что мне почти безразлично, идет ли речь о том или одругом. В воображении своем я так склонен противоречить самому себе иосуждать самого себя, что мне все равно, если это делает кто другой: главноеведь то, что я придаю его мнению не больше значения, чем это мне в данныймомент угодно. Но я прекращаю спор с тем, кто уж слишком заносится: я знавалодного человека, который обижается за свое мнение, если ему недостаточноверят, и считает оскорблением, если собеседник колеблется, последовать лиего совету. То, что Сократ весело принимал все возражения, которые емуделали, может быть, происходило потому, что он хорошо сознавал свою силу и,будучи уверен, что окажется прав, усматривал в этих возражениях лишнюювозможность утвердить свою славу. Напротив, мы видим, что больше всегозадевает нас сознание превосходства нашего противника и его презрение, амежду тем именно слабому следует, по справедливости, со всей готовностьюстать на правильный путь. И я, действительно, больше ищу общества тех, ктоменя поучает, чем тех, кто меня побаивается. Иметь дело с людьми, которыевосхищаются нами и во всем нам уступают, — удовольствие весьма пресное идаже вредное для нас. Антисфен наставлял своих детей никогда не выражать нималейшей благодарности тому, кто их хвалит [5]. Я гораздо больше горжусьпобедой, которую одерживаю над самим собою, когда в самом пылу споразаставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолеваяпротивника из-за его слабости. Одним словом, я готов принимать и парироватьвсе удары, которые наносят мне по правилам поединка, даже самые неумелые, ноне переношу ударов неправильных. Суть дела меня трогает мало, высказываемыемнения безразличны, и я более или менее равнодушен к исходу спора. Я готовхоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается порядок. Ятребую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка, того порядка,который всегда соблюдают в своих словесных распрях пастухи или молодцы,стоящие за прилавками, но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядок ивозникает, то потому, что спор переходит в перебранку, а это случается и унас. Но пыл и раздражение не уводят их от сути спора: речь идет все о томже. Если они перебивают друг друга, не выслушивают до конца, то во всякомслучае все время понимают, о чем идет речь. По-моему, любой ответ хорош,если он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, я отхожуот сути дела и увлекаюсь формой, злюсь, раздражаюсь и начинаю проявлять вспоре упрямство, недобросовестность, высокомерие, а потом мне приходится завсе это краснеть.
Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.
Воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно нетолько для нашего разума, но и для совести. Брань во время споров должназапрещаться и караться, как другие словесные преступления. Какого тольковреда не причиняет и не нагромождает она, неизменно порождаемая злобнымраздражением!
Враждебное чувство вызывают в нас сперва доводы противников, а затем исами люди. Мы учимся в споре лишь возражать, а так как каждый тольковозражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется,уничтожается истина. Вот почему Платон в своем государстве лишал права наспор людей с умом ущербным и неразвитым [6].
Зачем отправляться на поиски истины со спутником, не умеющим идти такровно и быстро, как надо? Предмету не наносится никакого ущерба, если отнего отступают, чтобы найти правильный способ рассуждать о нем. Я имею ввиду не приемы схоластических силлогизмов, а естественный путь здравогочеловеческого разумения. К чему это все может привести? Один из спорщиковустремляется на запад, другой — на восток, оба они теряют из виду самоеглавное, плутая в дебрях несущественных частностей. После часа бурногообсуждения они уже сами не знают, чего ищут: один погрузился на дно, другойзалез слишком высоко, третий метнулся в сторону. Тот цепляется за однокакое-нибудь слово или сравнение; этот настолько увлекся своей собственнойречью, что не слышит собеседника и отдается лишь ходу своих мыслей, необращая внимания на ваши. А третий, сознавая свою слабость, всего боится,все отвергает, с самого начала путает слова и мысли или же в разгаре споравдруг раздраженно умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досадына свое невежество либо из глупой ложной скромности уклоняясь от возражений.Одному важно только наносить удары и все равно, что при этом он открываетсвои слабые места. Другой считает каждое свое слово, и они заменяют емудоводы. Один действует только силой своего голоса и легких. Другой делаетвыводы, противоречащие его же собственным положениям. Этот забивает вам ушипустословием всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооруженлишь бранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассоритьсяи тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягатьсяумом. И, наконец, еще один меньше всего озабочен разумностью доводов, затоон забивает вас в угол диалектикой своих силлогизмов и донимает формуламисвоего ораторского искусства.
Кто же, видя, какое употребление мы делаем из наук, этих nihilsanantibus litteris [7], не усомнится вних и в том, что они могут принести какую-нибудь пользу в жизни? Кого логиканаучила разумению? Где все ее прекрасные посулы? Nec ad melius vivendum necad commodius disserendum [8]. Разве рыночные торговки сельдью городят в своих перебранках меньшевздора, чем ученые на своих публичных диспутах? Я предпочел бы, чтобы мойсын учился говорить в каких-нибудь кабачках, чем в этих школах дляговорения. Наймите магистра свободных искусств, побеседуйте с ним. Пусть быон дал нам почувствовать весь блеск своего искусства, пусть бы он восхитилженщин и жалких невежд вроде нас основательностью своих доводов и стройнойлогичностью рассуждений, пусть бы он покорил нас, убедил, как ему будетугодно! Для чего человеку, обладающему такими преимуществами как в предметесвоей науки, так и в умении рассуждать, пользоваться в словесной распреоскорблениями, нескромными, гневными выпадами? Сбрось он с себя своюермолку, мантию, свою латинскую ученость, не забивай он вам слух самымичистыми, беспримесными цитатами из Аристотеля, и вы найдете, что он не лучшелюбого из нас грешных, а пожалуй и хуже. Мне кажется, что с их витиеватыми ипутаными речами, которыми они нас морочат, обстоит так же, как с искусствомфокусников; их ловкость действует на наши ощущения, завладевает ими, ноубедить нас ни в чем не может; кроме этого фиглярства, все у них пошло ижалко. Учености у них больше, а глупости ничуть не меньше.
Я люблю и почитаю науку, равно как и тех, кто ею владеет. И когданаукой пользуются, как должно, это самое благородное и великое из достиженийрода человеческого. Но в тех (а таких бесчисленное множество), для кого она — главный источник самодовольства и уверенности в собственном значении, чьипознания основаны лишь на хорошей памяти (sub aliena umbra latentes) [9], кто все черпает только из книг, втех, осмелюсь сказать, я ненавижу ученость даже несколько больше, чем полноеневежество. В нашей стране и в наше время ученость может быть полезной длякармана, но душе она редко что-либо дает. Для слабой души она являетсятяжелым и труднопереваримым материалом, отягощает и губит ее. Душивозвышенные она еще больше очищает, просветляя и утончая их до того, что вних уже как бы ничего не остается. Ученость как таковая сама по себе, естьнечто безразличное. Для благородной души она может быть добавлением оченьполезным, для какой-нибудь иной — вредоносным и пагубным. Вернее было бысказать, что она вещь драгоценная для того, кто умеет ею пользоваться, но занее надо платить настоящую цену: в одной руке это скипетр, в другой —побрякушка. Но пойдем дальше.
Какой еще можно желать победы, когда вы убедили противника, что ему нетсмысла продолжать с вами борьбу? Если побеждает то положение, которое вызащищали, в выигрыше истина. Если побеждает ясность и стройность вашегорассуждения, в выигрыше вы сами. Мне сдается, что у Платона и КсенофонтаСократ ведет спор скорее ради пользы своих противников, чем ради самогопредмета спора, скорее ради того, чтобы Эвридем и Протагор [10] прониклисьсознанием своего собственного ничтожества, чем порочности своего учения. Онобращается с предметом так, словно ставит себе более важную цель, чемистолкование такового, то есть стремится просветить умы тех, с кем беседуети кого учит. Во время охоты ловкость и целесообразность наших действий иявляется в сущности той дичью, за которой мы охотимся: если мы ведем охотуплохо, неумело — для нас нет извинения. А уж поймаем ли мы дичь или непоймаем — дело совсем другое. Ибо мы рождены для поисков истины. Обладаниеже ею дано лишь более высокому и мощному духу. Истина вовсе не скрыта, какэто утверждал Демокрит [11], в глубочайших безднах, — вернее будет считать,что она царит высоко над нами и владеет ею мысль божества. Мир наш — толькошкола, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявитьбольше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, может бытьтаким же дураком, как и тот, кто городит вздор: ибо дело у нас не столько втом, что именно сказано, сколько в том, как сказано. Я склонен уделять формене меньше внимания, чем сути, защитнику дела не меньше, чем самому делу, каксчитал нужным Алкивиад.
Мне всегда доставляет удовольствие читать произведения различныхписателей, не заботясь о том, много ли они знают: меня занимает не самыйпредмет их, а то, как они его трактуют. Точно так же стараюсь я завязатьзнакомство с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он меняучил, но для того, чтобы узнать его самого.
Любой человек может сказать нечто, соответствующее истине, но выразитьэто красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж многие. Вот почемуменя раздражает не сказанное неверно по незнанию, а неумение сказать этохорошо. Я прервал многие полезные для меня связи из-за того, что те, с кем ябыл связан, проявляли полную неспособность к беседе. Даже раз в год я невыскажу возмущения ошибками тех, кто от меня зависит, но ежедневно у наспроисходит стычки из-за глупости и упрямства, которые они проявляют в своихтупых, ослиных объяснениях, извинениях и оправданиях. Они не понимают, что ипочему им говоришь, и точно так же отвечают, доводя меня прямо до отчаяния.Самый для меня болезненный удар по голове — тот, который мне наносит другаяголова, я готов скорее примириться с пороками моих людей, чем с ихнахальством, докучностью и глупостью. Пусть уж лучше они меньше делают, лишьбы проявили способность что-то делать. Живешь в надежде пробудить их добруюволю, но от чурбана не на что надеяться и нечего ждать.
Но что если я считаю вещи не тем, чем они на самом деле являются? Этовполне возможно. И потому я готов осудить свое нетерпение и сразу жесказать, что оно так же порочно в правом, как и в неправом; кто не выноситнесвойственных самому себе повадок, тот не в меру раздражителен. И, крометого, сказать по правде, нет глупости больше, назойливее и диковиннее, чемвозмущаться и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг. Ибо эта глупостьобращается против нас же. И у некоего философа древности никогда не былонедостатка в поводах для слез, коль скоро он приглядывался бы к самому себе.Мисон, один из семи мудрецов, во многом сходный с Тимоном и Демокритом, навопрос, над чем это он смеется, сидя в одиночестве, ответил: «Да как раз надтем, что смеюсь про себя» [12].
Сколько глупостей, что ни день, говорю я сам в ответ на другие инасколько же этих глупостей больше по мнению других! Если из-за этого я самсебе кусаю губы, что же делают другие? Одним словом, надо жить среди живыхлюдей и не заботиться о том, а тем паче не вмешиваться в то, как вода течетпод мостом. И правда, почему мы без всякого раздражения видим человекакривобокого, косолапого — и не можем не прийти в ярость, встретившись счеловеком, у которого ум вкривь и вкось? Источник этого неправедного гнева —не столько провинность, сколько сам судья. Будем всегда помнить изречениеПлатона: «Если что-нибудь по-моему не здорово, то не потому ли, что это я нездоров? Не сам ли я в этом виноват? Нельзя ли мой упрек обратить против менясамого?» [13] Слова божественно мудрые, бичующие самое общераспространенноеиз человеческих заблуждений. Не только упреки, которые мы делаем друг другу,но и наши доводы, и наши аргументы в спорах большей частью можно обратитьпротив нас же и поразить нас нашим же оружием. У древних я нахожу этомудостаточно яркие примеры. Очень удачно и весьма к месту сказал нижеследующеесловцо тот, кто его придумал:
- Stercus cuique suum bene olet. [14]
На затылке у нас нет глаз. Сто раз на день смеемся мы над самими собойпо поводу того, что подмечаем у соседа, в другом осуждаем те недостатки,которые еще нагляднее в нас самих, где мы ими же восхищаемся с удивительнымбесстыдством и непоследовательностью.
Еще вчера я был свидетелем того, как один человек, рассудительный илюбезный, весьма забавно и справедливо высмеивал глупость другого, которыйвсем надоедает разговорами о своей родословной и аристократическихродственных связях, — притом и то и другое в достаточной мере не подлинно(охотнее всего пускаются в подобные разговоры как раз те, чей аристократизмвсего сомнительнее). Но если бы насмешник взглянул на себя со стороны, онзаметил бы, что и он сам не менее назойливо и докучно выставляет всемнапоказ знатность и родовитость своей супруги. О докучное самомнение,которым жену вооружает ее собственный муж! Если бы они понимали латынь, имбы следовало процитировать:
- Age! si haec non insanit satis sua sponte, instiga. [15]
Я не утверждаю, что осуждать может только человек безупречный, иботогда никто никого не осуждал бы. Не считаю я даже, что осуждающий долженбыть обязательно непричастен к тому же греху. Я имею в виду, что, осуждаянедостатки другого человека, о котором сейчас идет речь, мы тем самым отнюдьне избавляем самих себя от внутреннего суда. Со стороны того, кто не в силахсправиться со своим собственным пороком, я считаю человеколюбивым стремлениеизлечить от него другого человека, в котором дурное семя, может быть, не такглубоко и зловредно укоренилось. Не считаю я также правильным в ответ наупреки обвинять собеседника в том же грехе. Не все ли это равно? Упрекостается справедливым и полезным. Если бы у нас было хорошее обоняние, нашисобственные нечистоты должны были бы казаться нам еще зловоннее. Сократполагал, что когда какой-нибудь человек, его сын и кто-то ему постороннийоказываются одинаково повинны в каком-то насилии или оскорблении, виновныйдолжен требовать у правосудия справедливой кары прежде всего самому себе,затем своему сыну и, наконец, третьему, постороннему для него человеку [16].Если это предписание, пожалуй, уж чересчур сурово, то во всяком случаекаждый, кто в чем-либо виновен, должен судить судом личной совести в первуюочередь себя самого.
Ощущения наши являются для нас непосредственными, первоначальнымисудьями, воспринимающими все окружающие вещи по внешнему впечатлению. Нечегои дивиться тому, что во всех областях общественной жизни наблюдается такоенепрерывное многообразное смешение всевозможных церемоний и чисто внешнихформ поведения и что именно в них наиболее полным и действенным образомпроявляется всякий общественный порядок. Ведь мы всегда имеем дело счеловеком, а всего примечательнее, что природа человеческая в основе своей —телесна. Пусть те, кто за последние годы стремились утвердить религиюсозерцательную и безобрядную [17], не удивляются, что есть люди, считающие,что эта религия растаяла бы и растеклась у них между пальцев, если бы она недержалась среди нас больше потому, что стала знаком, именем и орудиемобщественного разлада и разделения на партии, чем по своим внутреннимкачествам. То же самое и в наших диспутах: важный вид, облачение и высокоеположение говорящего часто заставляют верить словам пустым и нелепым. Никомуи в голову не придет, что у человека столь уважаемого и почитаемого нет задушой ничего, кроме этого уважения толпы, и что человек, которому поручаетсястолько дел и должностей, такой высокомерный и надменный, не более искусен,чем какой-то другой, издали низко кланяющийся ему и ничьим доверием необлеченный. Не только слова, но и ужимки таких людей принимают во внимание,считаясь с ними, и каждый старается истолковать их самым лучшим иосновательным образом. Если они снисходят до собеседования с обыкновеннымилюдьми и им приходится выслушать что-либо, кроме выражений почтительногоодобрения, они сокрушают вас авторитетом своего личного опыта: они, мол,слышали, видели, делали то-то и то-то. Вы просто раздавлены количествомпримеров. Я охотно возразил бы им, что, например, ценность опыта,вынесенного врачом, состоит вовсе не в удачной практике, не в простом учетечетырех излеченных чумных и трех подагриков, и что опыт его ничего недоказывает, если он не сумел извлечь из него никакой общей мысли и не можетубедить нас в том, что стал лучше разуметь свое дело. Так, в концерте мыслышим не лютню, спинет [18] или флейту, а созвучие этих инструментов вместевзятых, то, что создается их взаимодействием. Если путешествия, совершенныеважными лицами, и отправление ими должностей пошли им на пользу, пусть онидокажут это нам развитием своей способности суждения. Недостаточно накопитьопыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобыизвлечь из него все возможные доводы и выводы. Никогда не было столькоисториков, как в наше время. Слушать их всегда хорошо и полезно, так как вскладе их памяти мы найдем для себя много прекрасных и нужных сведений,поучений. В жизни это, конечно, большая нам подмога. Но не к тому мы сейчасстремимся, — мы хотим убедиться, достойны ли похвалы сами по себе этирассказчики и летописцы событий.
Мне ненавистна всякая тирания — и в речах и в поступках. Я всегдавосстаю против суетности, против того, чтобы внешние впечатлениязатуманивали нам рассудок, а так как необыкновенное величие некоторых людейвсегда вызывает у меня известные сомнения, я обычно убеждаюсь, что они всущности такие же, как все.
- Rarus enim ferme sensus communis in illa
- Fortuna. [19]
Случается, что их уважают и ценят даже меньше, чем они того на самомделе заслуживают, именно потому, что они за слишком многое берутся и слишкомвыставляют себя напоказ, без достаточных оснований. В человеке, взваливающемна себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем требует его груз. У того,кто не использовал своих сил до предела, можно еще предполагать любыевозможности. Тот же, кто пал под непосильным бременем, всем показывает, какслабы его плечи. Вот почему именно среди ученых мы так часто видим умственноубогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы,ремесленники: такой род деятельности вполне соответствовал бы их природнымсилам. Наука — дело очень нелегкое, оно их сокрушает. Механизм, которым ониявляются, и недостаточно мощен и недостаточно тонок, чтобы обрабатывать иперерабатывать столь сложное и благородное вещество. Наука пригодна лишь длясильных умов; а они весьма редки. Слабые же умы, по словам Сократа [20],берясь за философию, наносят только ущерб ее достоинству. Оружие это в худыхножнах кажется и никчемным и даже опасным. Вот как они сами себе портят делои вызывают смех.
- Humani qualis simulator simius oris,
- Quem puer arridens pretioso stamine serum
- Velavit, nudasque nates ac terga reliquit,
- Ludibrium mensis. [21]
Точно так же и тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в рукахсвоих судьбы мира, недостаточно обладать разумением среднего человека, мочьстолько же, сколько можем мы; и если они не превосходят нас в достаточноймере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. От нихожидаешь большего, они и должны делать больше. Молчаливость приносит имзачастую большую пользу не только тем, что придает внушающую почтениеважность, но и тем, что порою является для них весьма выгодной и удобной.Так, Мегабиз, посетив Апеллеса в его мастерской, долгое время пребывал вбезмолвии, а затем принялся рассуждать о его творениях, на что получилследующую резкую отповедь: «Пока ты молчал, ты в своем роскошном наряде изолотых украшениях казался нам чем-то весьма значительным. Теперь же, послетого, как мы тебя послушали, над тобой потешается мой самый последнийподмастерье» [22]. Из-за своего высокого положения, из-за окружавшего еговеликолепия он не имел права проявлять невежество простолюдина и нести вздоро живописи: ему следовало, не нарушая молчания, сохранять такой вид, будтоон в этой области знаток. А скольким из моих нищих духом современниковнапускная холодная молчаливость помогла прослыть мудрыми и понимающимилюдьми!
Чины и должности, — так уж повелось — даются человеку чаще посчастливой случайности, чем по заслугам. И большей частью за это совершеннонапрасно упрекают королей. Напротив, надо изумляться, как часто удается имсделать удачный выбор при недостаточном уменье разбираться в людях.
- Principis est virtus maxima nosse suos. [23]
Ибо природа отнюдь не наделила их ни способностью обнять взором стольбольшое количество людей, чтобы остановиться на достойнейших, ни даромзаглядывать в душу, дабы получить представление о нашем взгляде на вещи инаших качествах. Им приходится выбирать нас как бы наугад, в зависимости отобстоятельств, от нашей родовитости, богатства, учености, репутации —оснований весьма слабых. Тот, кто сумел бы найти способ всегда судить олюдях по достоинству и выбирать их согласно доводам разума, уже одним этимустановил бы самую совершенную форму государственности.
Отлично! Допустим, что ему удалось совершить это великое дело. Это уженечто, но еще не все. Ибо справедливо изречение, что о данном совете нельзясудить только по исходу предприятия. Карфагеняне взыскивали со своихполководцев за неправильные решения, даже если по счастливой случайностидело обернулось хорошо. А народ римский нередко отказывал в триумфеполководцам, одержавшим крупные и очень выгодные государству победы, толькоза то, что успех достигнут был не благодаря их искусству, а лишь потому, чтоим повезло. Обычно приходится наблюдать, что во всех жизненных делах судьба,которая всегда стремится показать нам свое могущество и унизить нашусамонадеянность, но не может сделать неспособных людей мудрецами, дарует имвместо разума и доблести — удачу. И благосклоннее всего она к тем именнопредприятиям, где успех зависит исключительно от нее. Вот почему мыпостоянно видим, что самые ограниченные люди доводят до благополучногоразрешения важнейшие дела, как общественные, так и частные. Недаром персСирам, отвечая людям, удивившимся, почему это его дела так плохи, когда онрассуждает так умно, сказал, что рассуждения зависят только от него самого,а успех в делах — от судьбы [24]; удачливые простаки могут сказать то жесамое, только в обратном смысле. В нашей жизни почти все совершается как-тосамо по себе:
- Fata viam inveniunt. [25]
Успехом может зачастую увенчаться самое неосмысленное поведение. Нашеучастие в каком-либо предприятии — почти всегда дело навыка, ируководствуемся мы гораздо чаще обычаем и примером, чем разумнымисоображениями. Пораженный в свое время важностью одного дела, я узнал о тех,кто привел его к удачному концу, как они действовали и на каком основании, иобнаружил во всем этом лишь самую обычную посредственность. Может быть,действовать наиболее обычным и общепринятым образом в жизненных делах всегополезнее и удобнее, хотя это и производит несравненно меньшее впечатление.
Как! Самые пошлые побуждения — наиболее основательны? Самые низменные ижалкие, самые избитые — больше всего приносят пользы делу? Для того, чтобыподдерживать уважение к королевским предначертаниям, нет необходимости,чтобы к ним были причастны простые смертные, которые при этом стали быслишком далеко заглядывать. Кто хочет сохранить к ним должное почтение,пусть доверится полностью и безоговорочно. Мое рассуждение о том или иномделе лишь слегка затрагивает его, поверхностно касается на основании первоговпечатления. Что же до главного и основного, то в этом я привык полагатьсяна провидение:
- Permitte divis cetera. [26]
Две величайшие, на мой взгляд, силы — счастье и несчастье. Неразумносчитать, будто разум человеческий может заменить судьбу. Тщетны намерениятого, кто притязает обнять причины и следствия и за руку вести своепредприятие к вожделенному концу. Особенно же тщетны они при обсужденииопераций на военном совете. Никогда еще люди не проявляли столькопредусмотрительности и осмотрительности в делах военных, как зачастуюпроявляем теперь мы. Не из страха ли сбиться с пути, не из стремления либлагополучно прийти к развязке?
Скажу даже больше: и сама наша мудрость, наша рассудительность большейчастью подчиняется воле случая. Мои воля и рассудок покоряются то одномудуновению, то другому, и многие из их движений совершаются помимо меня.Разум мой подвержен воздействиям, зависящим от случайных, временныхобстоятельств:
- Vertuntur species animorum, et pectora motus
- Nunc alios, alios dum nubila ventus agebat,
- Concipiunt. [27]
Посмотрите, кто в наших городах наиболее могуществен и лучше всегоделает свое дело, — и вы найдете, что обычно это бывают наименее способныелюди. Случалось, что женщины, дети и безумцы управляли великимигосударствами не хуже, чем самые одаренные властители. И обычно, отмечаетФукидид, грубым умам дело управления давалось лучше, чем утонченным [28]. Мыже удачу их приписываем разумению.
- Ut quisque fortuna utitur
- Ita praecellet, atque exinde sapere illum omnes dicimus. [29]
Вот почему я всегда прав, утверждая, что ход событий — плохоедоказательство нашей ценности и наших способностей.
Говорил я также, что нам надо только обратить внимание на какое-нибудьлицо, достигшее высокого положения: если за три дня до этого мы знали егокак человека незначительного, в нашем представлении возникает образвеличественный, полный благородных свойств, и вот мы уверены, что человекэтот, возвысившийся в общественном положении и во мнении людей, возвысилсятакже и по своим заслугам. Мы судим о нем не по его подлинным качествам, длянас он — как игральная фишка, ценность которой зависит от того, куда оналяжет. Если переменится счастье, если он падет и вновь смешается с толпой,каждый станет выражать удивление: как это удалось ему сперва так высокозабраться. «Тот ли это человек? — скажут все. — Неужто он ни о чем понятияне имел, когда занимал свой пост? Неужто короли так плохо выбирают себеслуг? В хороших же руках мы находились!» Сколько раз приходилось мне этовидеть. Ведь и личины великих людей, изображенных на сцене, могут насвзволновать и обморочить. Больше всего заставляют меня преклоняться передкоролями толпы преклоненных перед ними людей. Все должно подчиняться ипокоряться им, кроме рассудка. Не разуму моему подобает сгибаться, а лишьколеням.
Когда Мелантия спросили, что он думает о трагедии, сочиненнойДионисием, он ответил: «Я ее даже и не видел, так она затуманена велеречием» [30]. Точно так же большинство из тех, кто судит о речах властителей, могутсказать: «Я не слышал того, что он сказал, так это все было затуманенопревыспренностью, важностью и величием».
Антисфен, посоветовав однажды афинянам распорядиться, чтобы их ословприменяли для пахоты так же, как лошадей, получил ответ, что эти животныедля такой работы не годятся. «Все равно, — возразил он, — достаточно вамраспорядиться. Ведь даже самые невежественные и неспособные люди, которые увас командуют на войне, сразу же становятся подходящими для этого дела, кактолько вы их назначили» [31].
Сюда же относится обычай многих народов обожествлять избранного имивластителя: им мало почитать его, они хотят ему поклоняться. Жители Мексикипосле коронования своего владыки уже не смеют смотреть ему в лицо. Он же,раз они его обожествили, наделив царской властью, клянется им не толькозащищать их веру, законы, свободу, быть доблестным, справедливым имилостивым, но также заставлять солнце светить и совершать свой путь в небе,тучи — изливать в должное время дождь, реки — струиться по течению, землю —приносить все нужные народу плоды [32].
Я не придерживаюсь этого общепринятого взгляда на вещи, и высокиедостоинства человека вызывают у меня подозрение, если им сопутствуютвеличие, удача и всеобщий почет. Надо всегда иметь в виду, какое значениеимеет возможность сказать то-то и то-то в подходящий момент, выбратьотправную точку, прервать свою речь или властным решением изменить предметее, отвергнуть возражение собеседника одним лишь движением головы, улыбкойили просто своим молчанием перед аудиторией, трепещущей от благоговейногопочтения.
Некий человек, обладатель неслыханного богатства, вмешавшись в легкую,ни к чему не обязывающую беседу, которая велась за его столом, началбуквально так: «Только лжец или невежда могут не согласиться с тем, что…»и т. д. Острый зачин столь философического свойства можно развивать и скинжалом в руках.
Вот и другое соображение, которое я считаю весьма полезным: во времябесед и споров нельзя сразу же соглашаться с каждым словом, которое кажетсянам верным. Люди большей частью богаты чужой мудростью. Каждый можетупотребить ловкое выражение, удачно изречь что-нибудь или удачно ответить и,выступив со всем этим, даже не отдавать себе отчета в подлинном значениисвоих слов. Я и на своем личном примере мог бы показать, что не всегдаполностью владеешь тем, что заимствовано у другого. Какой бы верной икрасивой ни казалась чужая мысль, не всегда следует ей поддаваться. Надо илиразумно противопоставить ей другую или же отступить и, сделав вид, что нерасслышал собеседника, основательно, со всех сторон прощупать, что он всущности имел в виду. Может случиться также, что мы слишком остро отзовемсяна удар, которым нас вовсе не собираются сильно затронуть. В свое время мнеслучалось в пылу спора давать такие ответы, которые попадали гораздо дальше,чем я намечал. Я старался, чтобы они были только числом побольше, а давилина собеседников они всем своим весом. Когда я спорю с сильным противником,то стараюсь предугадать его выводы, освобождаю его от необходимости даватьмне разъяснения, силюсь досказать за него то, что в речах его лишьзарождается и потому не вполне выражено (ведь он так ладно и правильнорассуждает, что я уже заранее чувствую его силу и готовлюсь к обороне). Спротивниками слабыми я поступаю совершенно противоположным образом: их слованадо понимать именно так, как они сказаны, я ничего дальнейшего непредугадывать. Если они употребляют общие слова: то хорошо, это плохо, — асуждение их получается верным, надо посмотреть, не случайно ли они оказалисьправы. Пусть они приведут более обстоятельные доводы и объяснят, почемуименно, каким образом это так, а не иначе. Общепринятые мнения, с которымипостоянно сталкиваешься, ничего мне не говорят. Высказывающие их люди как быприветствуют целую толпу народа, не различая в ней никого. Тот же, кому онахорошо знакома, обращается к каждому в отдельности, называя его по имени. Нодело это нелегкое.
По нескольку раз в день приходилось мне замечать, что умынеосновательные, желая сделать вид, будто они хорошо разбираются в красотахкакого-нибудь литературного произведения, выражают свое восхищение по стольнеудачному поводу, что убеждают нас не в достоинствах автора, а в своемсобственном невежестве. Прослушав страницу из Вергилия, можно безошибочновоскликнуть: «Как прекрасно!» Этим обычно и отделываются хитрецы. Нообстоятельно разобрать данный отрывок, подробно и обоснованно отметить, вчем выдающийся писатель превзошел сам себя, как он достиг высшегомастерства, взвесить отдельные слова, фразы, образы, одно за другим — отэтого лучшего откажитесь. Videndum est non modo quid quisque loquatur, sedetiam quid quisque sentiat, atque etiam qua de causa quisque sentiat [33].Постоянно слышу я, как глупцы держат речи вовсе не глупые. Говорят ониверные вещи.
Но посмотрим, насколько хорошо они их знают, откуда идет их разуменье.Мы помогаем им воспользоваться умным словом, правильным доводом, которые неим принадлежат, которыми они только завладели. Они привели их нам случайно,на ощупь, мы же относим все это на их личный счет. Вы им оказываете помощь.А зачем? Они нисколько не благодарны и становятся лишь невежественнее. Непомогайте им, предоставьте их самим себе. Они станут обращаться с предметом,о котором идет речь, как люди, опасающиеся обжечься; они не решатся подойтик нему с какой-то другой стороны, углубить его. Вы же повертите его туда исюда, и он сразу выпадет у них из рук, они уступят вам его, как бы прекрасени достоин он ни был. Оружие это хорошее, но с неудобной для них рукоятью.Сколько раз бывал я тому свидетелем! Но если вы начнете учить их ипросвещать, они тотчас же присвоят себе все преимущества, которые можнополучить от ваших разъяснений: «Это я и хотел сказать, так я именно и думал,только не нашел сразу подходящих слов». Подскажите им, как поступить. Чтобысправиться с их чванливой глупостью, нередко приходится поступать круто.Гегесий говорил, что никого не следует ненавидеть и осуждать, надо лишьучить [84], — это правило хорошо и разумно в других случаях. Здесь женесправедливо и даже бесчеловечно давать помощь и совет тому, кому они ненужны и кто от них становится только хуже. Пусть они запутаются еще крепче,завязнут еще глубже, — так, по возможности, глубоко, чтобы их положениестало им, наконец, понятно.
Глупость и разброд в чувствах — не такая вещь, которую можно исправитьодним добрым советом. О такого рода исцелении можно сказать то же, что царьКир ответил человеку, советовавшему ему обратиться к войскам с речью передсамой битвой: что людям не проникнуться воинственностью и мужеством на полебоя от одной хорошей речи, так же как нельзя сразу стать музыкантом,прослушав одну хорошую песню [35]. Этим можно овладеть только последлительного и основательного обучения.
Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их инаставлять. Но проповедовать любому прохожему, исправлять невежество итупость первого встречного — вот обычай, которого я никак не одобряю. Редкосоглашаюсь я заниматься подобным делом, даже когда случайная беседа меня наэто вызывает, и скорее готов стушеваться в споре, чем выступать в скучнойроли учителя и наставника. Нет у меня также ни малейшей склонности писатьили говорить для начинающих. Какие бы неверные и нелепые, на мой взгляд,вещи ни говорились публично или в присутствии посторонних, я не стануопровергать их ни словами, ни знаками нетерпения. Вообще же ничто в глупостине раздражает меня так, как то, что она проявляет куда большесамодовольства, чем это с полным основанием мог бы делать разум.
Беда в том, что разум-то и не дает вам проявлять самоудовлетворенностьи самоуверенность, и вы всегда бываете охвачены сомнением и тревогой там,где упрямство и самонадеянность преисполняют тех, кому они свойственны,радостью и верой в себя. Самым несмышленым людям удается иногда взглянуть надругих сверху вниз, с победой и славой выйти из любой схватки. А еще чаще ихпохвальбы и горделивая внешность производят самое благоприятное впечатлениена окружающих, которые обычно недалеки и неспособны разбираться в подлинныхкачествах человека. Упрямство и чрезмерный пыл в споре — вернейший признакглупости. Есть ли на свете существо более упорное, решительное,презрительное, самоуглубленное, важное и серьезное, чем осел?
Разве не можем мы приправлять взаимное общение и беседу краткимиостроумными замечаниями, которые сами собою рождаются в веселом и тесномкругу друзей, с полным взаимным удовольствием перебрасывающихся живыми изабавными шутками? По природной своей вялости я весьма склонен к такомувремяпрепровождению. И если в нем нет значительности и серьезности тогодругого времяпрепровождения, о котором я только что говорил, то в нем можнопроявить не меньше изобретательности и остроты и оно не менее полезно, какэто полагал и Ликург [36]. Что до меня, то в нем я проявляю большенепосредственности, чем остроумия, и я более удачлив, чем искусен. Зато ябезукоризнен в терпении, ибо без малейшей досады встречаю отпор не толькорезкий, но даже обидный. И если мне не удается тут же на месте найти удачныйответ на выпад противника, я не стану долго топтаться на одном месте,проявляя ненужное упрямство в скучных и неубедительных возражениях: яумолкаю, с веселой покорностью склоняя голову, и дожидаюсь болееблагоприятного случая доказать свою правоту. Тот, кто всегда в выигрыше, ненастоящий игрок. У большинства людей, чувствующих свою слабость, изменяютсявыражение лица и голос, и, распаляясь бесполезным гневом, вместо того чтобыдать настоящий отпор, они только доказывают свое бессилие и нетерпение. Вподобных схватках мы невзначай касаемся наиболее потаенных струн, самыхскрытых своих недостатков, которые в спокойном состоянии не могли быобнажить без мучительного чувства. И таким образом мы в самих себе получаемполезный урок и предупреждение.