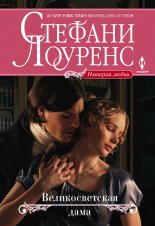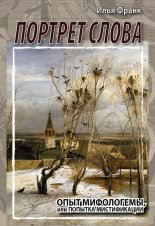Опыты Монтень Мишель

Биант [5] как-то бросил одному негодяю: «Я знаю, что рано или поздно тыбудешь наказан за это, но боюсь не увидеть этого»; и он жалел, что неосталось в живых никого из тех жителей города Орхомена, которых могло быпорадовать раскаяние Ликиска в совершенном по отношению к ним предательстве.Точно так же можно пожалеть о мести в том случае, когда тот, против кого онанаправлена, не может ее почувствовать, ибо, поскольку мститель хочетпорадоваться, увидев себя отмщенным, необходимо, чтобы налицо был и обидчик,который ощутил бы при этом унижение и раскаяние.
«Он раскается в этом», — говорим мы. Но можно ли надеяться, что онраскается, если мы пустим ему пулю в лоб? Наоборот, если мы присмотримсяповнимательнее, мы убедимся, что он скорчит нам презрительную гримасу. Ондаже не успеет на нас разгневаться и будет за тысячу миль от того, чтобыраскаяться. Мы окажем ему величайшую услугу, дав ему возможность умеретьвнезапно, без всяких мучений. Нам придется бежать, скрываться и таиться отпреследования судебных властей, а он будет мирно покоиться. Убийство годитсяв том случае, когда ты хочешь избежать предстоящей обиды, но не тогда, когдахочешь отметить за совершенный уже проступок; это скорее действие,продиктованное страхом, чем храбростью, предосторожностью, а не мужеством,обороной, а не нападением. Не подлежит сомнению, что мы отклоняемся в этомслучае и от подлинной цели мести и перестаем заботиться о нашем добромимени; мы боимся, чтобы враг не отплатил нам тем же, если останется в живых.Ты избавляешься от него ради себя, а не борясь с ним.
В Нарсингском царстве [6] такой способ борьбы был бы невозможен. Там нетолько воины, но и ремесленники решают возникающие среди них раздоры мечом.Царь предоставляет место для состязания тому, кто хочет сразиться, иприсутствует сам, если это знатные лица, награждая победителя золотой цепью.Первый попавшийся, которому захочется завоевать такую цепь, может вступить вбой с ее обладателем, и случается, что тому приходится выдерживать несколькотаких поединков.
Если бы мы хотели превзойти нашего врага доблестью и иметь возможностьрассчитаться с ним, то мы огорчились бы, если бы он избежал этого, в случае,например, смерти; ведь мы хотим победить и добиваемся не столько почетной,сколько верной победы, мы стремимся не столько к славе, сколько к тому,чтобы положить конец ссоре. Подобную ошибку совершил по своей порядочностиАзиний Поллион [7]: написав множество инвектив против Планка, он сталдожидаться его смерти, чтобы выпустить их в свет. Это походило на то, какесли бы показать кукиш слепому и обрушиться с бранью на глухого, и меньшевсего можно было рассчитывать оскорбить этим Планка. Поэтому в адресПоллиона и было сказано, что только червям дано точить мертвецов. О чемсвидетельствует поведение того, кто дожидается смерти автора, с писаниямикоторого он хочет бороться, как не о том, что он сварлив и бессилен?
Аристотелю рассказали, что кто-то клевещет на него. «Пусть он отважитсяна большее, — ответил Аристотель, — пусть бичует меня, лишь бы меня там небыло» [8].
Наши предки довольствовались тем, что отвечали на оскорбительные словаобвинением во лжи, на обвинение во лжи — ударом, и так далее, все усиливаяоскорбления. Они были достаточно храбры и не боялись встретиться лицом клицу с оскорбленным ими врагом. Мы же трепещем от страха, пока видим, чтовраг жив и здоров. Не свидетельствует ли о том, что это именно так, нашевеликолепное нынешнее обыкновение преследовать насмерть как того, кто насобидел, так и того, кого мы обидели сами?
Свидетельством трусости является также введенный у нас обычай приводитьс собой на поединок секунданта, а не то даже двух или трех. В прежниевремена бывали единоборства, а сейчас у нас — это стычки или маленькиесражения [9]. Тех, кто их выдумал, страшило одиночество: cum in se cuiqueminimum fiduciae esset [10].Ведь вполне понятно, что, когда в момент опасности с тобой находятся ещенесколько человек, то, кем бы они ни были, уж само их присутствие всегдаприносит облегчение и подбадривает. В прежние времена в обязанности третьихлиц входило следить за тем, чтобы не было нарушений порядка иликакого-нибудь подвоха, и они же должны были являться очевидцами исходасражения; но с тех пор, как повелось, что они должны сами принимать участиев этих сражениях, всякий такой человек уже не может без ущерба для своейчести оставаться зрителем из опасения быть обвиненным в трусости илинедостатке дружбы. Я нахожу, что это несправедливо, ибо гнусно для защитысвоей чести привлекать кого бы то ни было, кроме самого себя; а кроме того,я еще считаю, что для порядочного человека, целиком полагающегося на себя,недопустимо заставлять другого разделять его судьбу. Всякий человекдостаточно подвергает себя опасности ради самого себя, и не следует, чтобыон подвергал себя ей еще ради кого-нибудь другого; и с него хватает заботы отом, как бы отстоять свою жизнь собственными силами, не отдавая стольдрагоценную вещь в чужие руки. А между тем, если в условиях поединка неоговорено противное, он неизбежно превращается в сражение по меньшей меречетырех бойцов. Если ваш секундант повержен на землю, вам предстоит, поправилам, биться одновременно с двумя. Да разве это не плутовство? Ведь этовсе равно, как если бы человек хорошо вооруженный нападал на имеющего вруках лишь рукоять без клинка или целый и невредимый — на раненого.
Но если подобных преимуществ вы добились сами, сражаясь, вы вправе имивоспользоваться, не боясь упреков. Неравенство в вооружении и состояниисражающихся учитывается лишь в момент начала боя, а дальше уже вы должныположиться на собственную удачу. Если на поединке два ваших секунданта будутубиты и вам придется одному сражаться против троих, поведение вашихпротивников будет столь же безупречным, как и мое в том случае, если бы навойне я пронзил шпагой врага, имеющего против себя одного троих наших.
Всегда там, где рать стоит против рати (как это было, например, когданаш герцог Орлеанский вызвал на бой короля Генриха английского, с сотнейсвоих бойцов против ста англичан с их королем, или во время битвы аргивян соспартанцами, где решено было сражаться тремстам воинам против трехсот, иликогда трое бились против троих, как было в битве Горациев против Куриациев [11]), множество воинов, выставляемое каждой стороной, рассматривается какодин человек. Всюду там, где налицо несколько сражающихся человек, битваполна превратностей и исход ее смутен.
У меня есть свои личные основания интересоваться этой темой: мой брат,сьер де Матекулон [12], был приглашен в Риме одним мало знакомым емудворянином в качестве секунданта на дуэль между ним и другим дворянином,который вызвал его. В этом поединке моему брату пришлось скрестить шпагу счеловеком, который был ему более знаком и близок, чем дворянин, радикоторого он принял участие в этой дуэли (хотел бы я, чтобы мне когда-нибудьразъяснили смысл этих законов чести, которые так часто идут вразрез сразумом и здравым смыслом!). Разделавшись со своим противником и видя, чтооба главных дуэлянта еще целы и невредимы, мой брат напал на секунданта. Могли он поступить иначе? Или ему следовало отойти в сторону и спокойнонаблюдать, как тот, кто пригласил его секундантом, быть может, будет убит наего глазах? Ибо то, что он до сих пор сделал, не подвигало дела ни на шаг испор оставался все еще неразрешенным! То великодушие, которое вы вполнеможете и обязаны проявить по отношению к вашему личному врагу, если выприжали его к стене или причинили уже ему какой-то огромный ущерб, — я непредставляю себе, как вы могли бы его проявить, когда дело идет не о вашихсобственных интересах, а об интересах третьего лица, которому вы вызвалисьпомогать. Мой брат не имел права быть справедливым и великодушным, подвергаяриску успех лица, в распоряжение которого он себя предоставил. Вот почему,по незамедлительному и официальному требованию нашего короля, он былосвобожден из тюремного заключения в Италии.
Мы, французы, — ужасные люди: не довольствуясь тем, что весь мир знаето наших пороках и безумствах понаслышке, мы еще ездим к другим народам,чтобы показать их воочию. Поселите троих французов вместе в ливийскойпустыне — они и месяца не проживут, не поцапавшись друг с другом. Можноподумать, что эти путешествия предпринимаются нарочно для того, чтобыдоставить иноземцам удовольствие полюбоваться нашими драмами, и главнымобразом тем из них, которые смеются над нашими бедами и злорадствуют поэтому поводу.
Мы ездим в Италию учиться фехтованию и, рискуя жизнью, практикуем этоискусство, еще не научившись ему. Ведь по правилам обучения следовало бысначала изучить теорию, а потом практику этого дела. Между тем наше обучениеведется в обратном порядке:
- Primitiae iuvenum miserae, bellique futuri
- Dura rudimenta. [13]
Я знаю, что фехтовальное искусство преследует полезные цели (в Испании,например, по словам Тита Ливия [14], однажды на поединке двух двоюродныхбратьев знатного происхождения старший благодаря опытности в военном деле ихитрости легко одолел самонадеянного младшего брата), и убедился на опыте,что умелое пользование этим искусством придавало некоторым необычайнуюхрабрость; но это не мужество в истинном смысле слова, ибо оно происходит неот природной смелости, а от ловкости. Доблесть в сражении состоит всоревновании храбрости, а эта последняя не приобретается путем обучения.Так, один мой приятель, считавшийся большим знатоком фехтовальногоискусства, выбирал для своих поединков такого рода оружие, которое лишало быего возможности воспользоваться своим преимуществом и при котором всецеликом и полностью зависело бы от удачи и уверенного поведения; он нежелал, чтобы его успех приписывали не его мужеству, а искусству вфехтовании. В годы моего детства дворяне избегали приобретать репутациюискусных фехтовальщиков, ибо она считалась унизительной, и уклонялись отобучения этому искусству, которое основывается на ловкости и не требуетподлинной и неподдельной доблести:
- Non schivar, non parar, non ritirarsi
- Voglion costor, ne qui destrezza ha parte.
- Non danno i colpi finti, hor pieni, hor scarsi;
- Toglie l’irа e’il furor l’uso del arte.
- Odi le spade horribilmente urtarsi
- A mezzo il ferro; il pie d’orma non parte;
- Sempre ’il pie fermo, la man sempre in moto;
- Ne scende taglio in van ne punta voto. [15]
Военными упражнениями наших отцов были такие подобия битв, как турниры,стрельба в цель, стычки у барьера; а наши поединки считались тем не менеепочтенными, что они преследуют лишь частные наши цели: на них мы толькоуничтожаем друг друга, вопреки существующим законам и правосудию, и онивсегда приносят лишь вред и ущерб. Гораздо более достойное и подходящее дело — заниматься такими вещами, которые не портят, а укрепляют наши нравы инаправлены к обеспечению общественной безопасности и славы.
Консул Публий Рутилий [16] впервые ввел военное обучение для воинов,установив, что при обращении с оружием искусство должно сочетаться сдоблестью, но не в интересах частных лиц, а в интересах римского народа, дляразрешения его военных споров. Уменье вести войну должно быть всеобщим иобщегражданским делом. Кроме Цезаря, отдавшего во время битвы при Фарсалеприказ своим воинам целиться воинам Помпея прямо в лицо [17], многие другиеполководцы изобретали особые способы борьбы, новые виды обороны и нападенияв зависимости от требований момента. Но Филопемен осудил кулачный бой [18],в котором он не имел себе равных, поскольку подготовка к нему быласовершенно отлична от военного обучения, ибо он считал, что только почтенныелюди должны упражняться в нем. Подобно этому и я считаю, что та ловкость,которую с помощью новейших способов обучения стремятся привить молодежи, теособые выпады и парады, в которых й советуют упражняться, не толькосовершенно бесполезны, но скорее даже вредны, если их применять в настоящемсражении.
Вот почему военные люди в наше время пользуются в бою совсем особымивидами оружия, лучше всего для этой цели приспособленными. И не раз при мневыражали неодобрение дворянину, который, будучи вызван на поединок на шпагахи кинжалах, являлся на место боя в полном военном вооружении. Следуетотметить, что платоновский Лахес [19], говоря о военном обучении, подобнонашему, заявляет, что никогда не видел, чтобы такая военная школа далакакого-нибудь видного полководца или хотя бы знатока военного дела. Наш опытподтверждает это; но тут по крайней мере можно сказать, что это таланты, неимеющие отношения к обычному военному обучению. Платон запрещает привоспитании детей в своем государстве способы ведения кулачного боя,установленные Амиком и Эпеем, а также приемы борьбы, введенные Антеем иКеркионом, так как их цель отнюдь не в том, чтобы усовершенствовать военнуюподготовку молодежи или содействовать ей [20].
Но я несколько отклонился от моей темы.
Император Маврикий [21], будучи предупрежден некоторыми предсказаниямии сновидениями о том, что он будет убит неким безвестным до этого временисолдатом Фокой, обратился к своему зятю Филиппу с вопросом, что представляетсобой этот Фока, каков его характер, его душевные качества, нрав. И когдаФилипп при перечислении его качеств упомянул о том, что он труслив и робок,Маврикий тотчас же на основании этого заключил, что он, следовательно,жесток и склонен к убийствам. Почему тираны так кровожадны? Не потому ли,что они заботятся о своей безопасности? Не потому ли, что их трусость видитлучшее средство избавиться от опасности в том, чтобы истребить всех, вплотьдо женщин, кто только способен встать против них, кто может нанести им хотябы малейший ущерб?
- Cuncta ferit, dum cuncta timet. [22]
Первые жестокости совершаются ради них самих, но они порождают страхперед справедливым возмездием, который влечет за собой полосу новыхжестокостей с целью затмить одни зверства другими. Македонский царь Филипп,у которого было столько свар с римским народом, напуганный тем, чтосовершенные по его приказанию убийства вызвали общий ужас и величайшееволнение, и не зная, как обезопасить себя от такой массы потерпевших от негов разное время людей, решил арестовать детей всех убитых и день за днемприканчивать их, чтобы таким путем добиться успокоения [23]. Благородныепоступки всегда хороши, где бы они ни совершались. Я всегда более озабочентем, чтобы трактуемые мною сюжеты были важны и полезны, чем желаниемдобиться последовательности и стройности моего повествования, и потому небоюсь привести здесь одно замечательное происшествие, несколькоотклоняющееся от нити моего изложения [24]. В числе осужденных Филиппом былфессалийский князь Геродик. Вслед за ним Филипп умертвил еще и двух егозятьев, каждый из которых оставил после себя малолетнего сына. Теоксена иАрхо — так звали двух оставшихся вдов. Теоксену никак не удавалось уговоритьвторично выйти замуж, несмотря на самые настойчивые ухаживания. Архо вышлазамуж за самого знатного человека среди энийцев, Пориса, и имела от негомного детей, которые после ее смерти остались малолетними. Охваченнаяматеринской жалостью к несчастным детям своей сестры, Теоксена, желая взятьих под свое попечение и воспитать их, вышла замуж за Пориса. К этому временибыл издан упомянутый выше указ Филиппа об аресте детей. Отважная Теоксена,опасаясь жестокости Филиппа и его разнузданных приближенных, способных навсе по отношению к этим юным и прелестным детям, осмелилась заявить, что оналучше убьет их собственными руками, чем отдаст палачам. Испуганный еесловами, Порис обещал спрятать их и затем увезти в Афины, чтобы там отдатьна попечение преданным друзьям. Они воспользовались ежегодным праздником,который справлялся в Эносе в честь Энея, и отправились туда всей семьей.Днем они присутствовали на праздничных обрядах и на общем пиру, а ночью селив приготовленную заранее лодку, чтобы добраться морем до Афин. Противныйветер помешал им, и наутро, очутившись неподалеку от того места, откуда онивчера отплыли, они были замечены портовой стражей. Когда их вот-вот должныбыли схватить, Порис попытался убедить гребцов удвоить свои усилия, чтобыускользнуть от преследователей, а Теоксена, потеряв голову от любви к своимдетям и жажды мести, вернулась к своему первоначальному намерению и сталаготовить оружие и яд. Затем, показав все это детям, она сказала: «Дети, уменя осталось только одно средство защитить вас и сохранить вам свободу —это заставить вас умереть. Боги, внемля священному правосудию, рассудят этодело. В случае, если мечи изменят вам, эти чаши откроют вам двери в тот мир.Будьте мужественны! Ты же, сын мой, так как ты старше всех, сам вонзи себеэтот кинжал себе в грудь, чтобы умереть смертью храбрых». Дети, видя передсобой мать, бесстрашно призывавшую их скорее покончить с собой, и имеяпозади себя настигавших их врагов, бросились грудью на те лезвия, которыебыли к ним ближе всего, и полумертвыми были сброшены в море. Теоксена,счастливая тем, что ей удалось так геройски спасти всех своих детей, горячообняла своего мужа и сказала: «Последуем, друг мой, за нашими детьми! Пустьбудет у нас с тобой та радость, что мы окажемся с ними в одной могиле». И,обнявшись, они бросились в море, так что когда лодку подтащили к берегу, онабыла пуста.
Тираны, стремясь чинить две жестокости одновременно — убивать ивымещать свой гнев, — прилагают все усилия к тому, чтобы по возможностипродлить казнь. Они жаждут гибели своих врагов, но не хотят их скоройсмерти; им нужно не упустить возможности насладиться местью [25]. Из-заэтого они оказываются в затруднительном положении, ибо, если мучениянестерпимы, они коротки, если же они продолжительны, то тираны их считаютнедостаточно сильными; и вот они начинают разнообразить орудия пытки. Тысячиподобных примеров мы встречаем в древности, и я не уверен, не сохраняем лимы в себе, сами того не сознавая, некоторых следов этого варварства.
Все, что выходит за пределы обычной смерти, я считаю неоправданнойжестокостью [26]; наше правосудие не может рассчитывать на то, что тот, когоне удерживает от преступления страх смерти — боязнь быть повешенным илиобезглавленным, — не совершит его из страха перед смертью на медленном огнеили посредством колесования или из боязни колодок. И все же я не уверен,доводим ли мы таким путем осужденных до полного отчаяния. Действительно,каково должно быть душевное состояние человека, ожидающего смерти,подвергнутого колесованию или, по старинному обычаю, пригвожденному ккресту? Иосиф [27] рассказывает, что во время иудейской войны, проходя мимоодного места, где за три дня до того распяли нескольких евреев, он узналсреди них троих своих друзей, и ему удалось добиться того, что их сняли скрестов; двое из них, сообщает он, умерли, третий же прожил после этого ещенесколько лет.
Халкондил [28], автор, заслуживающий доверия, в записках, оставленныхим о событиях, происшедших на его памяти и часто на его глазах, описываеткак самую чудовищную ту казнь, которую нередко применял султан Мехмед: онприказывал одним ударом кривой турецкой сабли рассечь человека пополам полинии диафрагмы, так что люди умирали как бы двумя смертями одновременно;можно было видеть, рассказывает он, как обе части тела, полные жизни,продолжали еще некоторое время трепетать в муках. Не думаю, чтобы это былопридумано им очень умно. Не всегда те казни, которые выглядят самымистрашными, являются самыми мучительными.
Я нахожу несравненно более жестокой ту казнь, которую тот же Мехмед, пословам некоторых историков [29], применял к эпирским князьям: он приказывалсдирать с них заживо кожу частями, и таким коварно придуманным способом, чтоони мучились в течение двух недель.
А вот еще два примера. Когда Крез захватил одного вельможу, любимцасвоего брата, Панталеонта, он велел отвести пленника в мастерскуюваляльщика, где приказал до тех пор скрести его скребками и чесатьчесальными орудиями, пока тот не скончался [30].
Георгии Секей, вождь тех польских крестьян, которые под предлогомкрестового похода причинили массу бедствий, был разбит трансильванскимвоеводой и захвачен в плен [31]. Целых три дня, раздетый донага, он былпривязан к особым козлам для пыток, и всякий мог терзать его и издеватьсянад ним, как ему вздумается; за все это время остальным пленникам не давалини есть, ни пить. Наконец, когда в нем теплилась еще жизнь, на его глазахего собственной кровью напоили его любимого брата Луку, о спасении которогоон молил, принимая на себя одного вину за все совершенные ими дела. Еготело, изрубленное на мелкие куски, были вынуждены съесть двадцать егоближайших помощников; а то, что еще оставалось, и его внутренности сварили вкотле и скормили остальным членам его отряда.
Глава XXVIII
Всякому овощу свое время
Те, кто сопоставляют Катона Цензора с умертвившим себя Катоном Младшим [1], сравнивают двух замечательных людей, у которых есть много общего.
Катон Цензор проявил себя в более разнообразных областях и превосходитКатона Младшего своими военными подвигами и более плодотворнойгосударственной деятельностью. Но доблесть Катона Младшего — не говоря уже отом, что кощунственно сравнивать с ним кого бы то ни было в этом отношении, — куда более безупречна. Действительно, кто решится утверждать, что КатонЦензор был свободен от зависти и честолюбия, когда он отважился посягнуть начесть Сципиона, самого выдающегося по своим достоинствам человека своеговремени? Мне не кажется особенно лестным для Катона Цензора то, что он, каксообщают [2], на старости лет принялся с величайшим усердием изучатьгреческий язык, словно стремясь утолить давнишнюю жажду. Это скорее говорито том, что он стал впадать в детство. Все вещи — и похвальные, и обыденные —хороши в свое время; даже молитва может быть несвоевременной: ведь обвинялиже Тита Квинкция Фламинина в том, что в бытность его командующим армией егозастали в разгар боя в укромном месте молящимся богу о сражении, в которомон одержал победу [3]:
- Imponit finem sapiens et rebus honestis. [4]
Евдамид [5], глядя на то, как совсем уже дряхлый Ксенократ спешил назанятия в школу, с удивлением спросил: «Когда же он будет знать, если до сихпор все еще учится?»
Точно так же и Филопемен, обращаясь к тем, кто превозносил царяПтолемея за то, что он закалял себя ежедневно военными упражнениями, сказал:«Не похвально, чтобы царь в его возрасте упражнялся в военном искусстве; ондолжен был бы уже применять его на деле» [6].
По утверждению мудрецов, учиться надо смолоду, на старости же лет —наслаждаться знаниями [7]. Самым большим пороком человеческой природымудрецы считают непрерывное появление у нас все новых и новых желаний. Мыпостоянно начинаем жить сызнова. Надо было бы, чтобы наше стремление учитьсяи наши желания с годами дряхлели, а между тем, когда мы уже одной ногойстоим в могиле, у нас все еще пробуждаются новые стремления:
- Tu secanda marmora
- Locas sub ipsum funus, et sepulchri
- Immemor, struis domos. [8]
Я никогда не загадываю больше, чем на год вперед, и думаю тогда толькоо том, как бы закончить свои дни; я гоню от себя всякие новые надежды, незатеваю никаких новых дел, прощаюсь со всеми покидаемыми мною местами иежедневно расстаюсь с тем, что имею: Olim iam nec perit quicquam mihi necacquiritur. Plus superest viatici quam viae [9].
- Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi. [10]
В конце концов единственное облегчение, даваемое мне старостью, состоитв том, что она убивает во мне многие желания и стремления, которыми полнажизнь: заботу о делах этого мира, о накоплении богатств, о величии, орасширении познаний, о здоровье, о себе. Бывает, что человек начинаетобучаться красноречию, когда ему впору учиться, как сомкнуть свои устанавеки.
Можно продолжать учиться всю жизнь, но не начаткам школьного обучения:нелепо, когда старец садится за букварь [11].
- Diversos diversa iuvant, non omnibus annis
- Omnia conveniunt. [12]
Если надо учиться, будем изучать то, что под стать нашему возрасту;тогда мы сможем сказать, как тот, кто на вопрос, к чему ему эти занятия приего дряхлости, ответил: «Чтобы я мог лучше и легче уйти отсюда» [13]. Таковбыл смысл занятий Катона Младшего, когда он, почувствовав приближениесмерти, углубился в диалог Платона о бессмертии души. Он обратился к Платонуне потому, что не был уже с давних пор подготовлен к уходу из жизни:непоколебимости, твердой воли и умения у него было не меньше, чем он могпочерпнуть из писаний Платона; его самообладание и его знания в этой областибыли выше всех требований, предъявляемых философией. Он погрузился в Платонане с целью получить наставление, как умирать, а как тот, кто, приняв стольважное решение, не желает ради него отказываться даже от сна; не меняяничего в заведенном укладе жизни, он продолжал свои занятия наряду с другимисвоими привычными делами.
Ту самую ночь, когда его лишили претуры, он провел в игре, а ночь передсмертью провел за книгами. Утрата жизни и утрата должности равно казалисьему чем-то незначительным.
Глава XXIX
О добродетели
Я знаю по опыту, что следует отличать душевный порыв человека оттвердой и постоянной привычки. Знаю я также прекрасно, что для человека нетничего невозможного, вплоть до того, что мы способны иногда, как выразилсянекий автор [1], превзойти даже божество, — и это потому, что гораздо большезаслуги в том, чтобы, преодолев себя, приобрести свободу от страстей, нежелив том, чтобы быть безмятежным от природы, и особенно замечательнаспособность сочетать человеческую слабость с твердостью и непоколебимостьюбога. Но это бывает только порывами. В жизни выдающихся героев древности мынередко наталкиваемся на поразительные деяния, которые, казалось бы,значительно превосходят наши природные способности. Но в действительностиэто лишь отдельные проявления. Трудно себе представить, чтобы этивозвышенные устремления так глубоко вошли в нашу плоть и кровь, что сталиобычной и как бы естественной принадлежностью нашей души. Ведь даже нам,заурядным людям, удается иногда подняться душой, если мы вдохновленычьими-нибудь словами или примером, превосходящими обычный уровень; но этобывает похоже на какой-то порыв, выводящий нас из самих себя; а как толькоэтот вихрь уляжется, душа съеживается, опадает и спускается если не до самыхнизин, то во всяком случае до такого уровня, где она уже не та, какой толькочто была; и тогда по любому поводу — будь то разбитый стакан или упущенныйсокол — наша душа приходит в ярость, подобно всякой самой грубой душе.
Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человекспособен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставатьвыдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, чтосудить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденныхпоступках, наблюдая его повседневное существование.
Пиррон, который из нашего неведения сделал такую веселую науку,старался, как всякий подлинный философ, сообразовать свою жизнь со своимучением [2]. Он настаивал на том, что из-за крайней слабости человеческогосуждения человек не может произвести выбора и склониться на определеннуюсторону, и потому требовал, чтобы суждение всегда находилось в равновесии,чтобы все вещи были человеку безразличны. Поэтому он, как передают, держалсявсегда одинаково и невозмутимо: если он начинал что-то говорить кому-нибудь,то непременно доводил свою речь до конца, даже если тот, к кому онобращался, уже ушел; он не сворачивал с пути, если встречал какие-нибудьпрепятствия, так что друзья оберегали его от ям или каких-нибудь другихнеожиданных случайностей. Бояться или избегать чего-нибудь значило бы длянего отступиться от своих убеждений, согласно которым даже чувства лишеныдостоверности и не способны производить выбор. Он, не моргнув глазом, споразительной выдержкой переносил боль, когда ему делали прижигания иликакой-нибудь надрез. Немалое дело — усвоить себе подобные взгляды, и ещетруднее — хотя все же это в силах человеческих — добиться, чтобы слова нерасходились с делами; но сообразовать их с такой твердостью и постоянством,чтобы они вошли в плоть и кровь (разумеется, когда речь идет о вещахнеобыденных), кажется невероятным. Вот почему, когда Пиррона однажды засталиссорящимся с сестрой и упрекнули в том, что он изменяет своейневозмутимости, он ответил: «Как! Разве еще и эта ничтожная бабенка должнаслужить подтверждением моих правил?» В другой раз, когда Пиррона заставилиотбиваться от злой собаки, он сказал: «Очень трудно освободиться от всегочеловеческого; приходится быть настороже и бороться с обстоятельствамипрежде всего делами, а на худой конец — с помощью разума и размышлений» [3].
Около семи или восьми лет тому назад один крестьянин, проживающий вкаких-нибудь двух лье отсюда и здравствующий еще и поныне, жестоко страдалот своей жены, изводящей его своей ревностью. Однажды, когда он вернулся сработы и она стала угощать его своими обычными причитаниями, он разъярилсядо того, что отсек себе начисто косарем те части, которые так тревожили ее,бросив их ей в лицо.
Рассказывают также, что один молодой дворянин, весельчак и повеса,которому после упорного натиска удалось наконец покорить сердце своейвозлюбленной, пришел в отчаяние из-за того, что в самый решительный моментего мужское естество отказалось служить ему и что
- non viriliter
- Iners senile penis extulerat caput. [4]
Тогда он бросился к себе домой и через некоторое время послал своейкрасавице кровавое свидетельство жестокого жертвоприношения, которое онсвершил, дабы загладить причиненную обиду. Интересно, как судили бы мы остоль героическом поступке, будь он совершен по философским убеждениям иливо имя религии, как то делали жрецы Кибелы?
Недавно в Бражераке, в пяти лье от моего дома, вверх по реке Дордони,одна женщина, которую накануне избил и истерзал муж, пришла в такое отчаяниеот его несносного характера, что решила ценой жизни избавиться от егожестокостей. На другой день с утра она, поздоровавшись, как обычно, сосвоими соседками и промолвив несколько бодрых слов о своих делах, взяла заруку свою сестру и отправилась с ней на мост; здесь она, как бы в шутку,простилась с сестрой и без всяких колебаний бросилась с моста в реку, где ипогибла. В этом происшествии достойно внимания то, что женщина обдумываласвой план самоубийства в течение всей ночи.
Другое дело индийские женщины: согласно обычаю, мужья имеют не поодной, а по нескольку жен и самая любимая из них лишает себя жизни послесмерти мужа. Поэтому каждая из жен всю жизнь стремится завоевать это место иприобрести это преимущество перед остальными женами. За все заботы о своихмужьях они не ждут никакой другой награды, кроме как умереть вместе с ним:
- … ubi mortifero iacta est fax ultima lecto,
- Uxorum fusis stat pia turba comis;
- Et certamen habent lethi, quae viva sequatur
- Coniugium; pudor est non licuisse mori.
- Ardent victrices, et flammae pectora praebent,
- Imponuntque suis ora perusta viris. [5]
Один современный нам автор пишет [6], что у некоторых восточных народовсуществует обычай, согласно которому не только жены хоронят себя послесмерти мужа, но и рабыни, являвшиеся его возлюбленными. Делается это воткаким образом. После смерти мужа жена может потребовать, если ей угодно (нолишь очень немногие пользуются этим), три-четыре месяца на устройство своихдел. В назначенный день она садится на коня, празднично разодетая и веселая,и отправляется, по ее словам, почивать со своим мужем; в левой руке онадержит зеркало, в правой — стрелу. Торжественно прокатившись таким образом всопровождении родных, друзей и большой толпы праздных людей, онанаправляется к определенному месту, предназначенному для таких зрелищ. Этоогромная площадь, посередине которой находится заваленная дровами яма, арядом с ямой возвышение, на которое она поднимается по четырем-пятиступеням, и ей туда подают роскошный обед. Насытившись, она танцует и поет,затем, когда ей захочется, приказывает зажечь костер. Сделав это, онаспускается и, взяв за руку самого близкого родственника мужа, отправляетсявместе с ним к ближайшей речке, где раздевается донага и раздает друзьямсвои драгоценности и одежды, после чего погружается в воду, как бы для того,чтобы смыть с себя грехи. Выйдя из воды, она заворачивается в кусок желтогополотна длиной в четырнадцать локтей и, подав руку тому же родственникумужа, возвращается вместе с ним к возвышению, с которого она обращается сречью к народу и дает наставления своим детям, если они у нее есть. Междуямой и возвышением часто протягивают занавеску, чтобы избавить женщину отвида этой горящей печи; но некоторые, желая подчеркнуть свою храбрость,запрещают всякие завешивания. Когда все речи окончены, одна из женщинподносит ей сосуд с благовонным маслом, которым она смазывает голову и тело,после чего бросает сосуд в огонь и сама кидается туда же. Толпа тотчас жезабрасывает ее горящими поленьями, чтобы сократить ее мучения, и веселоепразднество превращается в мрачный траур. Если же муж и жена — людималосостоятельные, то труп покойника приносят туда, где его хотятпохоронить, и здесь усаживают его, а вдова его становится перед ним наколени, тесно прильнув к нему, и стоит до тех пор, пока вокруг них не начнутвозводить ограду; когда ограда достигает уровня плеч женщины, кто-нибудь изее близких сзади берет ее за голову и сворачивает ей шею; к тому времени,когда она испустит дух, ограда бывает закончена, и супруги лежат за ней,похороненные вместе.
Нечто подобное имело место в этой же стране с так называемымигимнософистами [7], которые без всякого принуждения с чьей бы то ни былостороны и не под влиянием какого-то внезапного порыва, а лишь в силуусвоенного ими обыкновения, достигнув определенного возраста илипочувствовав приближение какой-нибудь болезни, приказывали приготовитькостер, а над ним роскошное ложе; весело попировав с друзьями и знакомыми,они укладывались на это ложе с такой непоколебимостью, что даже когда подними занимался огонь, они и пальцем не шевелили; так умер один из них,Калан, на глазах у всего войска Александра Великого [8].
Они считали святыми и блаженными лишь тех, кто умер подобной смертью иотдал свою душу, предварительно очистив ее огнем и избавившись от всегоземного и тленного.
Самым поразительным в этом обычае является предумышленность всехдействий, то, что весь замысел остается неизменным в течение всей жизни.
Среди разных ведущихся нами споров есть спор о фатуме; когда мы хотимподчеркнуть неизбежность каких-нибудь вещей и даже наших желаний, то до сихпор пользуемся старинным рассуждением: раз бог знает наперед, что событияпроизойдут именно так, а не иначе, то они и произойти должны в точности так,как он это предвидел. Но наши учителя отвечают на это, видеть, что даннаявещь происходит, как видим мы и как видит сам бог (ибо, поскольку бог видитвсе, он, следовательно, не предвидит, а видит), еще не значит заставить еесовершиться, иначе говоря, мы видим потому, что данные вещи происходят, ноэто вовсе не значит, что они происходят потому, что мы их видим.Совершившееся обусловливает знание, но не знание предопределяет свершениетех или иных вещей. То, что мы видим происходящим, происходит, но оно моглосовершиться и по-иному; в цепи причин, которые бог предвидит, имеются и такназываемые случайные причины, и добровольные причины, зависящие от тойсвободы, которую он предоставил нашему выбору; он знает, что мы ошибаемсяпотому, что мы захотим ошибиться.
Мне приходилось видеть, что многие военачальники вселяли бодрость всвоих солдат верой в эту фатальную необходимость, ибо если даже нашейпогибели предназначен определенный час, то никакие вражеские пули, ни нашахрабрость, ни наше бегство или трусость не в состоянии ни приблизить, ниотсрочить его. Это легко сказать, но попробуйте, как это сделать! Есливерно, что сильная и пылкая вера влечет за собой решительные действия,приходится признать, что вера в наши дни стала очень слаба, — если только недопустить, что из презрения к каким-либо делам она склоняется к полномубездействию.
Именно об этом говорит сир Жуанвиль [9], очевидец, заслуживающий неменьшего доверия, чем другие, по поводу бедуинов, народа, смешавшегося ссарацинами, с которыми Людовик IX столкнулся во время пребывания своего вСвятой земле. По его словам, бедуины твердо верили, что день смерти каждогоиз них по какому-то предопределению предустановлен от века и потому шли вбой, не имея в руках ничего, кроме турецкой сабли, и совершенно нагими, несчитая легкого полотняного покрывала. Самым свирепым проклятием, когда ониссорились между собой, были в их устах следующие слова: «Будь ты проклят,как тот, кто вооружается из страха смерти!» Вот пример совсем иной веры, чемнаша.
Сходна с нею и та вера, пример которой был явлен в дни наших дедовдвумя флорентийскими монахами. Поспорив о каком-то научном вопросе, онидоговорились, что оба взойдут на костер на городской площади в присутствиивсего честного народа, чтобы таким образом окончательно выяснить, кто из нихправ. И когда все было уже готово для испытания, которое вот-вот должно былосовершиться, только неожиданная случайность помешала этому [10].
Один молодой турецкий вельможа совершил геройский воинский подвиг предлицом двух сошедшихся для боя армий Мурада и Гуньади. Когда Мурад [11]спросил турка, кто в него, столь еще молодого и неопытного — ибо он в первыйраз участвовал в сражении, — вселил такую беззаветную отвагу, — турокответил, что его главным наставником в доблести был заяц, и рассказалследующее: «Однажды, охотясь, я наткнулся на заячью нору, и, хотя со мнойбыли две великолепные борзые, я решил, во избежание неудачи, что вернеебудет прибегнуть к луку, которым я хорошо владел. Я выпустил одну за другойвсе сорок стрел, которые были у меня в колчане, но без всякого успеха: я нетолько не попал в зайца, но даже не смог выгнать его из норы. После этого янатравил на него обеих моих борзых, но столь же безуспешно. Тогда я понял,что зайца охраняла сама судьба и что стрелы и меч опасны лишь сблагословения судьбы, и не в нашей власти ускорить или задержать еерешение». Этот рассказ показывает, между прочим, насколько ум наш подвержендействию воображения.
Один очень пожилой человек, славившийся своим происхождением,достоинствами и ученостью, хвалился мне, что какое-то необыкновенноевнушение побудило его переменить веру, причем внушение это было до такойстепени странным и невразумительным, что я истолковывал его прямо впротивоположном смысле: и он, и я называли его чудом, но каждый понимал этослово по-разному. Турецкие историки утверждают, что широко распространенноесреди турок убеждение в том, что сроки их жизни раз и навсегдапредопределены, придает им необычайную уверенность в опасных случаях [12].
Я знаю одного великого государя, который умеет искусно пользоватьсятем, что судьба к нему благосклонна [13].
Не было на нашей памяти более замечательного примера отваги, чемпроявленная теми двумя лицами, которые покушались на принца Оранского [14].Поразительно, как мог решиться на это дело осуществивший его второй изпокушавшихся после того, как первого, сделавшего все, от него зависящее,постигла полнейшая неудача! Как мог он решиться, действуя тем же оружием ина том же месте, напасть на человека, бдительность которого после недавнегоурока была на страже и который находился в окружении целой свиты друзей усебя в зале, среди своих телохранителей, в преданном ему городе! Кинжал —вернейшее орудие смерти, но, поскольку он требует большей гибкости и силы вруке, чем пистолет, он легко может отклониться и изменить. Я не сомневаюсь втом, что второй заговорщик шел уверенно на смерть, так как ни одинздравомыслящий человек не мог бы в таком положении тешить себя надеждами; ивсе поведение его в этом деле показывает, что у него не было недостатка ни вясности мысли, ни в мужестве. Причины такой твердой убежденности могут бытьразные, ибо наше воображение проделывает с самим собой и с нами все чтоугодно.
Покушение, которое осуществлено было около Орлеана [15], не имеет себеравных: решающую роль здесь сыграла удача, а вовсе не храбрость, инанесенный удар не был бы смертельным, если бы не помогла случайность. Самаямысль стрелять издалека и сидя верхом на лошади в человека, который тожесидит на коне и находится в движении, говорит о том, что покушающийсяпредпочитал лучше погибнуть, чем не достигнуть своей цели. Этоподтверждается тем, что последовало. Стрелявший был до такой степени опьяненмыслью о своем блестящем подвиге, что совершенно потерял голову и неспособен был думать ни о бегстве, ни о предстоящем допросе. Ему следовалопросто-напросто присоединиться к своим, перебравшись через реку. Этосредство, к которому я всегда прибегал при малейшей опасности и которое ясчитаю не сопряженным почти ни с каким риском, как бы широка ни была река,лишь бы только лошади было легко сойти в воду и на другой стороне виднелсябы удобный берег. Убийца принца Оранского, когда ему вынесли жестокийприговор, заявил: «Я был к этому готов; вы изумитесь моему терпению».
Ассасины [16], одно из финикийских племен, славятся среди магометансвоим исключительным благочестием и чистотой нравов. Самым верным способомпопасть в рай у них считается убить какого-нибудь иноверца. Нередкослучалось поэтому, что один или два из них, ради столь важного дела презреввсе опасности и обрекши себя на верную смерть, отправлялись убивать (словоassassiner «убивать» происходит от названия этого народа) своего врага наглазах его соратников. Так был убит на улице своего города граф РаймундТриполитанский [17].
Глава XXX
Об одном уродце [1]
Рассказ мой будет очень простодушен, ибо судить о таких вещах япредоставляю врачам. Позавчера я видел ребенка, которого вели двое мужчин икормилица, называвшие себя отцом, дядей и теткой ребенка. Они собиралиподаяние, показывая всем его уродство. Ребенок имел обычный человеческийвид, стоял на ногах, мог ходить и что-то лопотал, так же примерно, как и вседети его возраста; он не хотел принимать никакой другой пищи, кроме молокасвоей кормилицы, а то, что в моем присутствии ему клали в рот, он немногожевал, а затем выплевывал, не проглотив; в его крике было что-то необычное,ему было еще только четырнадцать месяцев. Пониже линии сосков он былсоединен с другим безголовым ребенком, у которого задний проход был закрыт,а все остальное в порядке; одна рука была у него короче другой, но этооттого, что она была у него сломана при рождении. Оба тела были соединенымежду собой лицом к лицу в такой позе, как если бы ребенок поменьше хотелобнять большего. Соединявшая их перепонка была шириной не больше чем вчетыре пальца, так что, если приподнять этого безголового ребенка, то можнобыло увидеть пупок второго; спайка проходила, таким образом, от сосков и допупка. Пупка безголового ребенка не было видно в отличие от всей остальнойвидневшейся части его живота. Подвижные части тела безголового ребенка —руки, бедра, ягодицы, ноги — болтались вокруг второго ребенка, которомубезголовый доходил до колен. Кормилица сообщала, что он мочится через обамочевых канала; таким образом, органы безголового ребенка исправнодействовали, и находились на тех же местах, что и у того, другого, но толькоотличались меньшими размерами.
Это двойное тело, имевшее отдельные члены и заканчивавшееся однойголовой, могло служить для нашего короля благоприятным предзнаменованиемтого, что под эгидой его законов могут объединяться различные части нашейстраны, но, дабы не впасть в ошибку, пусть лучше вещи идут своим путем, ибопредпочтительно гадать о том, что уже произошло: Ut cum facta sunt, tum adconiecturam aliqua interpretatione revocantur [2]. Так и об Эпимениде говорили, что он угадывает задним числом [3].
Я видел недавно в Медоке одного пастуха лет тридцати, у которого небыло ни малейшего намека на детородные органы; у него есть три отверстия, изкоторых у него беспрестанно выделяется моча; у него растет густая борода, ион любит касаться женского тела.
Те, кого мы называем уродами, вовсе не уроды для господа бога, которыйв сотворенной им вселенной взирает на неисчислимое множество созданных имформ; можно поэтому полагать, что удивляющая нас форма относится к какой-тодругой породе существ, неизвестной человеку. Премудрость божия порождаеттолько благое, натуральное и правильное, но нам не дано видеть порядка исоотношения всех вещей.
Quod crebro videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Quod ante nonvidit, id, si evenerit, ostentum esse censet. [4]
Мы называем противоестественным то, что отклоняется от обычного; однаковсе, каково бы оно ни было, соответствует природе. Пусть же этотестественный и всеобщий миропорядок устранит растерянность и изумление,порождаемые в нас новшествами.
Глава XXXI
О гневе
О чем бы ни писал Плутарх, он всегда восхитителен, но особенно в своихсуждениях о человеческих поступках. Взять, например, его замечательныесуждения, высказанные в его сравнении Ликурга с Нумой по поводу того, какнелепо оставлять детей на попечении и воспитании родителей. В большинствегосударств, как указывает Аристотель [1], всякому отцу семействапредоставляется — все равно как у циклопов — воспитывать жен и детей как имвздумается, и только в Спарте и на Крите воспитание детей ведется поустановленным законам. Кому не ясно, какое важнейшее значение имеет длягосударства воспитание детей? И тем не менее, без долгих размышлений, детейоставляют на произвол родителей, какими бы взбалмошными и дурными людьми онини были.
Сколько раз, проходя по улицам, я испытывал желание устроить скандал,заступившись за какого-нибудь малыша, которого потерявшие от гнева головуотец или мать колошматят, дубасят, избивают чуть ли не до смерти! Поглядите,как они вращают глазами от ярости:
- rabie iecur incendente, feruntur
- Praecipites, ut saxa iugis abrupta, quibus mons
- Subtrahitur, clivoque latus pendente recedit. [2]
А ведь, согласно Гиппократу [3], самые опасные болезни — это те, чтоискажают лица. Послушайте только, как неистово они орут на малютку, недавно,может быть, вышедшего из пеленок. В результате дети бывают покалечены илинавсегда оглушены ударами; а наше законодательство не обращает на это нималейшего внимания, словно эти вывихнутые суставы не принадлежат членамнашего общества:
- Gratum est quod patriae civem populoque dedisti,
- Si facis ut patriae sit idoneus, utilis agris,
- Utilis et bellorum et pacis rebus agendis. [4]
Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность суждения, как гнев.Никто не усомнится в том, что судья, вынесший обвиняемому приговор вприпадке гнева, сам заслуживает смертного приговора. Почему же в такомслучае отцам и школьным учителям разрешается сечь и наказывать детей, когдаони обуреваемы гневом? Ведь это не обучение, а месть. Наказание должнослужить для детей — лечением, но ведь не призвали бы мы к больному врача,который пылал бы к нему яростью и гневом.
Мы сами, желая быть на высоте, никогда не должны были бы давать волюрукам по отношению к нашим слугам, пока мы обуреваемы гневом. До тех пор,пока пульс наш бьется учащенно и мы охвачены волнением, отложим решениевопроса; когда мы успокоимся и остынем, вещи предстанут нам в ином свете, асейчас нами владеет страсть, это она подсказывает нам решение, а не наш ум.
Рассматриваемый сквозь призму этой страсти проступок приобретаетувеличенные размеры, подобно очертаниям предметов, скрытых туманом. Голодныйнабрасывается на мясо, но желающий применить наказание не должен испытыватьни голода, ни жажды.
Кроме того, наказания, продуманные и взвешенные, воспринимаютсянаказуемыми как заслуженные и приносят ему большую пользу. В противномслучае он не считает, что был справедливо наказан человеком, охваченнымгневом и яростью; наказуемый ссылается в свое оправдание на взвинченностьсвоего хозяина, на его горящие щеки, необычные бранные слова, на еговозбуждение и неистовую стремительность:
- Ora tument ira, nigrescunt sanguine venae,
- Lumina Gorgoneo saevius igne micant. [5]
Светоний сообщает, что, когда Луций Сатурнин осужден был Цезарем, емуудалось путем апелляции к народному собранию добиться пересмотра приговора,так как он ссылался на вражду и неприязнь Цезаря, которыми продиктовано былоего решение [6].
Слово и дело — разные вещи, и надо уметь отличать проповедника от егопроповеди. Те, кто в настоящее время старается подорвать основы нашейрелигии, ссылаясь на пороки служителей церкви, бьют мимо цели; истинностьнашей религии зиждется не на этом; такой способ доказательства нелеп испособен лишь все запутать. У добропорядочного человека могут быть ложныеубеждения, а с другой стороны, заведомо дурной человек может проповедоватьистину, сам в нее не веря. Разумеется, это прекрасно, когда слово нерасходится с делом, и я не буду отрицать, что, когда словам соответствуютдела, слова более вески и убедительны; вспомним ответ Евдамида, который,услышав философа, рассуждавшего о военном деле, сказал: «Эти рассужденияпревосходны. Плохо только то, что нельзя положиться на человека, который ихвысказывает, ибо его уши не привыкли к звуку военной трубы» [7]. Клеомен же,услышав ритора, разглагольствовавшего о храбрости, громко расхохотался и вответ ритору, возмутившемуся его поведением, сказал: «Я повел бы себя также, если бы о храбрости щебетала ласточка; но если бы это был орел, я судовольствием послушал бы его» [8]. Мне кажется, что в писаниях древнихавторов можно ясно различить следующее: автор, высказывающий то, что ондумает, выражает свои мысли более убедительно, чем тот, кто подделывается.Прислушайтесь к тому, как о любви и свободе говорит Цицерон и как о том жеговорит Брут; сами писания Брута неопровержимо доказывают, что это былчеловек, готовый заплатить за свободу ценою жизни. Послушайте отцакрасноречия, Цицерона, рассуждающего о презрении к смерти, и Сенеку,рассуждающего о том же: Цицерон говорит об этом длинно и тягуче, вычувствуете, что он хочет убедить вас в том, в чем сам не уверен, он непридает вам духу, ибо ему и самому его не хватает; Сенека же вдохновляет изажигает вас. Я всегда стараюсь узнать, что за человек был автор, вособенности когда дело касается пишущих о доблести и об обязанностях.
Если в Спарте какому-нибудь человеку, известному распутным образомжизни, приходило в голову подать народу полезный совет, эфоры приказывалиему молчать и просили какого-нибудь почтенного человека приписать себе этумысль и предложить ее [9].
Писания Плутарха, если внимательно вчитаться в них, раскрывают нам егос самых разных сторон, поэтому мне кажется, что я знаю его насквозь; и темне менее я хотел бы, чтобы до нас дошли какие-нибудь воспоминания о егожизни; горя этим желанием, я с жадностью набросился на тот стоящий особнякомрассказ о нем, за который я необычайно благодарен Авлу Геллию [10],оставившему нам закрепленное на бумаге сообщение о нравах Плутарха, как разотносящееся к трактуемой мной здесь теме о гневе. Один из рабов Плутарха,человек дурной и порочный, имевший, однако, понаслышке кой-какое понятие онаставлениях философии, должен был за какой-то совершенный им проступокпонести, по повелению Плутарха, наказание плетьми. Когда его стали бить, онсначала завопил, что его избивают зря, ибо он не виноват, но под конецпустился ругать и поносить своего хозяина, крича, что в нем нет ни на грошот философа, каковым он мнит себя; ведь твердил же он постоянно, чтогневаться дурно, и даже написал об этом целую книгу, но то, что он сейчас,обуреваемый гневом, заставляет так свирепо избивать его, полностьюопровергает его писания. Па это Плутарх с полнейшим спокойствием ответилему: «На основании чего, негодяй, ты решил, что я сейчас охвачен гневом?Разве на моем лице, в моем голосе, в моих словах есть какие-нибудь признакивозбуждения? Глаза мои не мечут молний, лицо не дергается, и я не воплю.Разве я покраснел? Или говорю с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-нибудь, вчем мог бы раскаяться? Трепещу ли я, дрожу ли от ярости? Ибо именно таковы,да будет тебе известно, подлинные признаки гнева». И, повернувшись к тому,кто хлестал провинившегося, Плутарх приказал: «Продолжай свое дело, пока мыс ним рассуждаем». Таков рассказ Авла Геллия.
Архит Тарентский [11], вернувшись домой из похода, где был главнымвоеначальником, нашел свое хозяйство в полном расстройстве: земли оставалисьне обработанными из-за нераспорядительности управляющего: «Убирайся с глазмоих, — сказал он ему. — Если бы я не был охвачен гневом, я бы отделал тебя,как следует». Сам Платон, распалившись против одного из своих рабов, поручилСпевсиппу наказать его, не желая сам и пальцем тронуть раба, поскольку онбыл сердит на него. Спартанец Харилл [12], обращаясь к илоту, которыйслишком непочтительно, даже нагло, разговарил с ним, сказал ему:
«Клянусь богами, не будь я разъярен, я бы убил тебя, не сходя с места».
Гнев — это страсть, которая любуется и упивается собой. Нередко, будучивыведены из себя по какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря напредставленные нам убедительные оправдания и разъяснения, продолжаемупираться вопреки отсутствию вины. У меня удержался в памяти поразительныйпример подобного поведения, относящийся к древности. Пизон [13], человек вовсех отношениях отменно добродетельный, прогневался на одного своего воиназа то, что он, вернувшись с фуражировки, не смог дать ему ясного ответа,куда девался второй бывший с ним солдат. Пизон решил, что вернувшийся солдатубил своего товарища, и на этом основании, долго не раздумывая, приговорилего к смерти. Когда осужденного привели к виселице, вдруг, откуда нивозьмись, появился потерявшийся солдат. Все войско необычайно обрадовалосьего появлению, и после того, как оба приятеля крепко обнялись и по-братскирасцеловались, палач повел их к Пизону, рассчитывая, что такой исход событиядоставит Пизону большое удовольствие. Но вышло как раз наоборот: со стыда идосады его еще не рассеявшийся гнев лишь еще более распалился и смолниеносной быстротой, внушенной яростью, Пизон решил, что ввидуневиновности одного виноваты все трое, и отправил всех на тот свет, первогосолдата во исполнение того смертного приговора, который был ему вынесен,второго за то, что он своей отлучкой явился причиной присуждения к смертиего товарища, а палача за то, что он ослушался и не выполнил отданного емуприказа.
Те, кому приходится иметь дело с упрямыми женщинами, знают по опыту, вкакое бешенство они приходят, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшимспокойствием, не разделяя их возбуждения. Оратор Целий [14] был по природенеобычайно раздражителен. Однажды, когда он ужинал с одним знакомым,человеком мягким и кротким, тот, не желая волновать его, решил одобрять все,что бы он ни говорил, и во всем с ним соглашаться. Целий, не выдержавотсутствия всякого повода для гнева, под конец взмолился: «Во имя богов!Будь хоть в чем-нибудь несогласен со мной, чтобы нас было двое!» Точно также и женщины: они гневаются только с целью вызвать ответный гнев — это вродевзаимности в любви. Однажды, когда один из присутствующих прервал речьФокиона и обрушился на него с резкой бранью, Фокион замолчал и дал емуполностью излить свою ярость. После этого, ни словом не упомянув опроисшедшем столкновении, продолжал свою речь с того самого места, накотором его прервали [15]. Нет ответа более уничтожающего, чем подобноепрезрительное молчание.
По поводу самого вспыльчивого человека во всей Франции (гневливость —всегда недостаток, но более извинительный для военного, ибо в военном делебывают такие случаи, где без нее не обойдешься) я часто говорю, что этосамый терпеливый из всех известных мне людей, умеющий обуздывать свой гнев:ибо гнев охватывает его с таким яростным неистовством —
- magno veluti cum flamma sonore
- Virgea suggeritur costis undantis aheni,
- Exultantque aestu latices; furit intus aquai
- Fumidus atque alte spumis exuberat amnis;
- Nec iam se capit unda; volat vapor ater ad auras, [16] —
что ему приходится делать невероятные усилия, чтобы умерить его. Чтокасается меня, то я не знаю страсти, для подавления которой я способен былбы сделать подобное усилие. Столь дорогой ценой я не хотел бы обрести дажемудрость. Говоря об этом военном, я обращаю внимание не на то, что онделает, а на то, каких усилий ему стоит не поступать еще похуже.
Другой мой знакомый хвалился передо мной своим ровным и мягким нравом,и впрямь поразительным. В ответ я сказал ему, что в особенности для людей,занимающих, как он, высокое положение и находящихся у всех на виду,чрезвычайно важно всегда проявлять выдержку, но что главное все же в том,чтобы ощущать ее в себе, в глубине души; а потому, на мой взгляд, плохопоступает тот, кто тайком непрерывно гложет себя: можно опасаться, что онжелает поддержать эту видимость сдержанности, сохранить эту надетую на себяличину.
Пытаясь скрыть гнев, его загоняют внутрь; это напоминает мне следующийслучай: однажды Диоген крикнул Демосфену, который, опасаясь, как бы его незаметили в кабачке, поспешил забиться в глубь помещения: «Чем больше тыпятишься назад, тем глубже влезаешь в кабачок» [17]. Я рекомендую лучше даженекстати влепить оплеуху своему слуге, чем корчить из себя мудреца,поражающего своей выдержкой; я предпочитаю обнаруживать свои страсти, чемскрывать их в ущерб самому себе: проявившись, они рассеиваются иулетучиваются, и лучше, чтобы жало их вышло наружу, чем отравляло насизнутри. Omnia vitia in aperto leviora sunt; et tunc perniciosissima, cumsimulata sanitate subsidunt [18].
Я предупреждаю тех моих домашних, которые имеют право раздражаться, оследующем. Во-первых, чтобы они сдерживали свой гнев и не впадали в него повсякому поводу, ибо он не производит впечатления и не оказывает никакогодействия, если проявляется слишком часто. К бессмысленному и постоянномукрику привыкают и начинают презирать его. Крик, который слышит от вас слуга,укравший что-нибудь, совершенно бесполезен; слуга знает, что это тот жекрик, который он сотни раз слышал от вас, когда ему случалось плохо вымытьстакан или неловко подставить вам скамеечку под ноги. Во-вторых, япредупреждаю их, чтобы они не гневались на ветер, то есть чтобы их попрекидоходили до того, кому они предназначены, ибо обычно они начинают бранитьсяеще до появления виновника и продолжают кричать часами, когда его уже и следпростыл;
- et secum petulans amentia certat. [19]
Они воюют уже не с ним, а с тенью его, и эти громы разражаются уже там,где нет тех, против кого они направлены, где никто больше ничем неинтересуется, кроме того, чтобы кончилась эта суматоха. Я также против тех,кто спорит и возмущается, не имея перед собой противника; следует обращатьсвои филиппики против тех, к кому они относятся:
- Mugitus veluti cum prima in proelia taurus
- Terrificos ciet atque irasci in cornua tentat,
- Arboris obnixus trunco, ventosque lacessit
- Ictibus, et sparsa ad pugnam proludit arena. [20]
Когда на меня находит гнев, он охватывает меня со страшной силой, новместе с тем мои вспышки носят весьма кратковременный и потаенный характер.Сила и внезапность порыва не доводят меня все же до такого помрачениярассудка, при котором я стал бы извергать без разбора всякие оскорбительныеслова, совершенно не заботясь о том, чтобы мои стрелы попадали в самыеуязвимые места, — ибо я обычно прибегаю только к словесной расправе. Моислуги легче расплачиваются за крупные проступки, чем за мелкие, ибо мелкиепроступки застают меня врасплох, и со мной в таких случаях происходит то же,что с человеком, находящимся на краю глубокого обрыва: стоит ему сорваться —и он сразу же покатится и, какова бы ни была причина его падения, будетпродолжать катиться вниз со всевозрастающей скоростью, пока не достигнет днаоврага. В случае серьезных проступков я получаю то удовлетворение, чтокаждый считает оправданным вызываемый им гнев; в таких случаях я горжусьтем, что действую вопреки его ожиданиям: я беру себя в руки и накладываю насебя узду, ибо в противном случае, если я поддамся приступам гнева, онимогут увлечь меня слишком далеко. Я стараюсь поэтому не поддаваться им, и уменя хватает силы, если я слежу за этим, отбросить довод к гневу, каким бызначительным он ни был; но если мне не удалось предупредить вспышку и яподдался ей, она увлекает меня, каким бы пустячным поводом она ни былавызвана. Ввиду этого я сговариваюсь с теми, кто может вступить со мной впререкания, о следующем: «Если вы заметите, — говорю я им, — что я вскипелпервым, предоставьте мне нестись, закусив удила, а когда настанет вашаочередь, я поступлю так же». Буря разражается только из столкновения вспышекс двух сторон. Но это может произойти лишь добровольно с обеих сторон, ибосами по себе вспышки эти возникают не в один и тот же момент. Поэтому, еслиодна сторона охвачена гневом, дадим ей разрядиться, и тогда мир всегда будетобеспечен. Полезный совет, но как трудно его выполнить! Мне случается иногдаразыгрывать гнев ради наведения порядка в моем доме, не испытывая на деленикакого раздражения. По мере того, как с годами я становлюсь болеевспыльчивым, я учусь преодолевать такого рода настроения и буду стараться,если хватит сил, впредь быть тем более мягким и уступчивым, чем больше будету меня законных оснований раздражаться и чем простительнее мне это будет; донастоящего же времени я был в числе тех, кому это наименее простительно.
В заключение еще несколько слов. Аристотель утверждает, что иногда гневслужит оружием для добродетели и доблести [21]. Это правдоподобно; но все жете, кто с этим не согласны [22], остроумно указывают, что это — необычноеоружие: ведь обычно оружием владеем мы, а этот род оружия сам владеет нами;не наша рука направляет его, а оно направляет нашу руку, не мы держим его, аоно нас.
Глава XXXII
В защиту Сенеки и Плутарха
И Сенека, и Плутарх — настолько близкие мне авторы, такая незаменимаяподдержка в моей старости и при писании этой книги, целиком созданной извзятых у них трофеев, что это обязывает меня вступиться за их честь [1].
Что касается Сенеки, то среди неисчислимого множества книжонок,выпускаемых приверженцами так называемой реформированной религии в защитусвоего дела, — книжонок, иной раз выходивших из-под пера вполне почтенныхавторов (приходится горько жалеть, что они не посвящены более достойнымсюжетам), мне пришлось натолкнуться на следующий памфлет [2]. Автор его,стремясь провести подробное сопоставление между правлением нашего покойногои злополучного короля Карла IX и правлением Нерона, сравнивает покойногокардинала Лотарингского с Сенекой [3]. Он сопоставляет судьбы их обоих,каждый из которых был первым лицом при своем государе, сравнивает характеробоих, их поведение и образ действий. Проводя это сравнение, он оказывает,на мой взгляд, слишком много чести названному кардиналу, ибо, хоть я ипринадлежу к тем, кто высоко ценит его ум, красноречие, преданность своейрелигии и верную службу королю, а также признает, насколько удачно для себяон родился в такой век, когда человек, подобный ему, оказался явлениемсовершенно новым и необычным, а вместе с тем и весьма необходимым дляобщественного блага, — ибо чрезвычайно важно было появление духовного лицастоль глубокого благородства и достоинства, богато одаренного и отвечающегосвоему высокому назначению, — несмотря на все это, если уж говоритьначистоту, я считаю, что ему далеко до Сенеки, что его духовному обликунедостает той цельности, твердости и законченности, которые присущи Сенеке.
Итак, возвращаясь к упомянутой книге, отмечу, что она содержит весьмаоскорбительный отзыв о Сенеке, основанный на упреках, почерпнутых у Диона [4] — историка, показаниям которого я совершенно не доверяю. Ибо преждевсего Дион крайне непостоянен: то он называет Сенеку мудрецом и смертельнымврагом пороков Нерона, то, в других местах, изображает его человеком скупым,жадным, низким, честолюбивым, распутным и только прикидывавшимся настоящимфилософом. Однако же добродетель Сенеки так ярко и убедительно проступает вего писаниях, а опровержение некоторых обвинений, выдвигаемых Дионом противнего, как, например, в чрезмерном богатстве или в слишком больших тратах,так и напрашивается само собой, что я не поверю ни одному свидетелю,пытающемуся убедить меня в обратном. Кроме того, гораздо разумнее полагатьсяв таких вещах на римских историков, чем на греческих или каких-либо другихиноземных. Но Тацит и другие римские историки с глубоким почтениемотзываются о жизни и смерти Сенеки и изображают его нам человеком весьмадостойным и весьма добродетельным во всех отношениях. Против отзыва Диона оСенеке я приведу лишь один неопровержимый довод: он настолько искаженносудит о римских делах, что решается защищать дело Юлия Цезаря против Помпеяи Антония против Цицерона.
Перейдем к Плутарху.
Жан Воден [5], выдающийся современный писатель, выделяющийся из толпыписак нашего времени своим большим здравомыслием, заслуживает всяческоговнимания и уважения. Я нахожу излишне резким одно из мест его сочинения«Метод легкого изучения истории», где он обвиняет Плутарха не только внезнании (тут я спорить не берусь, так как это не по моей части!), но такжеи в том, что этот автор часто пишет о вещах невероятных, от начала до концавыдуманных (таковы подлинные слова Бодена). Если бы Боден просто сказал, чтоПлутарх изображает вещи не такими, каковы они в действительности, это былобы не очень серьезным упреком, ибо то, чего мы не видели своими глазами, мыберем из вторых рук и принимаем на веру, и я действительно замечаю, чтоПлутарх иногда сознательно рассказывает один и тот же эпизод различнымобразом; возьмем, например, его суждение о трех величайших полководцах,когда либо живших на свете: в жизнеописании Ганнибала оно звучит совсеминаче, чем в жизнеописании Фламиния, и совершенно по-новому, на третий лад,в жизнеописании Пирра. Но обвинять Плутарха в том, что он принимал за чистуюмонету вещи невероятные и невозможные, это значит обвинять самогорассудительного автора на свете в неумении судить о вещах. В доказательствоВоден приводит следующий пример. Плутарх рассказывает об одном спартанскоммальчике, который, спрятав у себя под платьем украденную лисичку, предпочел,чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не сознаться в краже [6]. Я нахожупрежде всего пример этот неудачным, ибо трудно установить предел нашихдушевных сил, между тем как о физических силах нам судить легче; поэтомуесли бы выбор надлежало сделать мне, я скорее выбрал бы пример из этойвторой области. И тут можно найти примеры еще менее правдоподобные, вродеописанного Плутархом случая с Пирром [7]: будто последний, несмотря на точто он был весь изранен, с такой силой ударил мечом по вооруженному до зубовврагу, что рассек его надвое с головы до пят, так что тело его разлетелосьпополам. Я не вижу никакого особого чуда в примере, сообщаемом Плутархом, ине признаю извинения, которым Боден пытается защитить Плутарха,предваряющего свой рассказ словами: «говорят, будто», как это делают в техслучаях, когда хотят набросить на рассказ тень сомнения. Плутарх и впрямь нехотел ни сам признавать невероятных вещей, ни побудить нас верить в них, заисключением тех случаев, когда дело касается вещей, принимаемых из уваженияк древней традиции или из почтения к религии. Что же касается слов «говорят,будто», то нетрудно убедиться, что Плутарх употребляет их здесь не с цельюзаронить в нас сомнение, так как сам же он в другом месте [8], касаясьвопроса о выдержке спартанских детей, приводит примеры событий, случавшихсяв его время, в которые еще труднее поверить; так, если взять пример, окотором Цицерон сообщил [9] еще до Плутарха, а именно, что в их временаможно было встретить юношей, которых для доказательства их выдержкииспытывали перед алтарем Дианы: их бичевали до крови, а они не только некричали, но даже не разрешали себе издать стон, некоторые же добровольнопозволяли засечь себя насмерть. А вот еще пример, о котором также сообщаетПлутарх [10] наряду с сотней других упоминающих об этом случае свидетелей:во время жертвоприношения в рукав одного спартанского юноши попал горящийуголь; рукав воспламенился и рука юноши стала гореть, но он терпел до техпор, пока запах паленого мяса не ударил в нос присутствующим. Согласнопонятиям спартанцев, ничто не могло в такой мере затронуть их честь и в ихглазах не было ничего более ужасного и позорного, как быть пойманным вмомент кражи. Я до такой степени проникнут верой в величие этих людей, чторассказ Плутарха, вопреки Бодену, не только не кажется мне невероятным, но яне нахожу в нем даже ничего необычного и поразительного.
В истории Спарты можно найти тысячи гораздо более потрясающих иисключительных примеров, ее история полна таких чудес.
Марцеллин собщает [11] по поводу воровства, что в его времена нельзябыло придумать такой пытки, которая способна была бы заставить уличенных вэтом весьма распространенном среди египтян преступлении хотя бы раскрытьсвое имя.
Одного испанского крестьянина подвергли пытке, добиваясь, чтобы онвыдал своих сообщников в убийстве претора Луция Пизона. В разгар своихмучении он завопил, что друзьям его нечего опасаться: пусть спокойно стоятна месте и смотрят на него; они тогда убедятся, что нет такой боли, котораямогла бы вырвать у него хоть слово признания. В течение всего этого дня отнего не могли добиться ничего другого. На следующий день, когда его привели,чтобы возобновить пытки, он с силой вырвался из рук стражи и, ударившись сразмаху головой о стену, размозжил себе череп и пал мертвый [12].
Эпихарида, презрев жестокость приспешников Нерона — и выдержав кандалы,бичевание и истязание колодками, не сказала в течение первого дня ни одногослова о заговоре, раскрытия которого от нее добивались. На другой день,когда ее несли в кресле (ибо она не могла держаться на переломанных ногах),чтобы возобновить пытки, она продела шнур от своего платья через ручкукресла и, сделав петлю, просунула в нее голову и, навалившись на шнур всейтяжестью тела, удавилась. Найдя в себе достаточно мужества, чтобы умеретьподобной смертью, избежав продолжения пыток и дав такое удивительноедоказательство своей выдержки, не посмеялась ли она тем самым над тираном ине подала ли она и другим пример противодействовать ему [13]?
Порасспросите-ка наших конных стрелков о том, что им пришлосьперевидать во время происходивших у нас гражданских войн, и они приведут вамзамечательные примеры выдержки, упорства и сопротивления, проявленных в нашзлосчастный век нашими современниками, гораздо более расслабленными иизнеженными, чем египтяне, — примеры, достойные сравнения с теми, какие мысейчас привели относительно доблести спартанцев. Мне известно, чтовстречались простые крестьяне, которые шли на то, чтобы им поджаривалипятки, отрубали затвором ружья концы пальцев или так туго стягивали головутолстой веревкой, что глаза у них вылезали на лоб, лишь бы не платитьтребуемого от них выкупа.
Я видел крестьянина, которого признали мертвым и оставили лежать голымво рву, шея у него совсем посинела и вздулась от веревки, которая все ещеболталась на ней; накануне он был привязан ею к хвосту лошади, которая всюночь волочила его за собой; на его теле было множество колотых ран,нанесенных кинжалом — не для того, чтобы убить, а чтобы причинить ему боль инапугать; он все это вытерпел вплоть до того, что лишился чувств испособности речи, ибо решил, как он потом рассказывал мне, лучше претерпетьтысячу смертей (и в самом деле, его страдания были не легче смерти!), чемсогласиться на уплату выкупа: а ведь это был один из самых богатых крестьянв наших местах. А сколько было людей, которые мужественно шли на костерумирать за чужие идеи, непонятные и неизвестные им!
Я знал сотни женщин — говорят, что в этом отношении жительницы Гасконизанимают особо почетное место, — которые скорее согласились бы, чтобы ихжгли раскаленным железом, чем отказались от своих слов, брошенных в пылугнева. От ударов или всякого иного принуждения их упорство лишь возрастает.Автор, сочинивший рассказ о женщине [14], которая, несмотря ни на какиеугрозы и избиения, продолжала обзывать своего мужа вшивым, а когда, подконец, ее бросили в реку, она, идя ко дну, все еще поднимала кверху руки,делая вид, будто щелкает вшей у себя на голове, — этот автор, повторяю,сочинил рассказ, который каждый день подтверждается примерами упорстваженщин. А упорство — родная сестра выдержки, по крайней мере в отношениитвердости и настойчивости.
Как я уже говорил в другом месте [15], не следует судить о том, чтовозможно и что невозможно, на основании того, что представляется вероятнымили невероятным нашим чувствам, и грубая ошибка, в которую впадаетбольшинство людей (в чем я однако, не упрекаю Бодена), состоит в том, чтоони не хотят верить тому, чего не смогли бы сделать сами или не захотели бысделать. Всякому кажется, что он совершеннейший образец природы, что он —пробный камень и мерило для всех других. Черты, не согласующиеся с егособственными, уродливы и фальшивы. Какая непроходимая глупость! Что касаетсяменя, то я считаю множество людей стоящими значительно выше меня, особенномужей древности; и, хотя ясно сознаю свою неспособность следовать ихпримеру, стараюсь все же не упускать их из виду, пытаюсь разобраться впричинах, поднимающих их на такую высоту, и иногда мне удается найти у себяслабые зачатки таких же свойств. Точно так же я веду себя и по отношению ксамым низменным душам: я не удивляюсь им и не считаю их чем-то невероятным.Я прекрасно вижу, какой дорогой ценой великие мужи древности платили за своевозвышение, и восхищаюсь их величием; я перенимаю те стремления, которые, намой взгляд, прекрасны, и если у меня не хватает сил следовать им, то вовсяком случае мое внимание пристально обращено к ним.
Другой пример, приводимый Боденом из области невероятных и полностьювымышленных вещей, сообщаемых Плутархом, касается Агесилая, который былприговорен эфорами к штрафу за то, что снискал себе расположение и любовьсвоих сограждан. Я не понимаю, что неверного усматривает Боден в этомсообщении Плутарха, но во всяком случае Плутарх сообщает здесь о вещах,которые ему были значительно лучше известны, чем нам; ведь в Греции быловполне обычным делом наказывать или изгонять людей только за то, что оничересчур потакали своим согражданам, доказательством чего служат остракизм ипетализм [16].
У Бодена есть еще одно обвинение, которое я воспринимаю как незаслуженную Плутархом обиду; а именно, Боден утверждает, что Плутархдобросовестен, когда сравнивает римлян с римлянами и греков с греками, но нев своих параллельных жизнеописаниях греков и римлян; доказательством могутслужить, говорит он, сравнения Демосфена с Цицероном, Катона с Аристидом,Суллы с Лисандром, Марцелла с Пелопидом, Помпея с Агесилаем. Боден считает,что Плутарх обнаружил свое пристрастие к грекам, сопоставив их с лицами,которые были им совсем не под стать. Бросать Плутарху такое обвинение значитпорицать в нем самое прекрасное, самое достойное похвалы: ибо в этихсопоставлениях (которые являются наилучшей частью творений Плутарха икоторые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил) верность и искренностьего суждений не уступают их глубине и значительности. Здесь перед намифилософ, наставляющий нас в добродетели. Посмотрим, сумеем ли мы снять снего приведенный выше упрек в предвзятости и искажении.
Поводом к такому суждению о Плутархе могло, мне кажется, послужить товеликое преклонение перед именами римлян, которое тяготеет над нашими умами.Так, нам представляется, что Демосфен отнюдь не мог сравняться в славе скаким-нибудь консулом, проконсулом или квестором великой римской державы. Нокто захочет разобраться в истинном положении дел и в самих этих людях — кчему и стремился Плутарх, — кто захочет сопоставить нрав этих людей, иххарактеры и способности, а не их судьбы, тот согласится, думаю, со мной и, вотличие от Бодена, признает, что Цицерон и Катон Старший во многом уступаюттем людям, с которыми Плутарх их сравнивает. На месте Плутарха я скореевыбрал бы для осуществления его замысла параллель между Катоном Младшим иФокионом, ибо при таком сопоставлении различие между сравниваемыми было быболее убедительным и преимущество было бы на стороне римлянина. Что касаетсяМарцелла, Суллы и Помпея, то я охотно признаю, что их военные подвиги болеедоблестны, блестящи и значительны, чем подвиги тех греков, которых Плутархсравнивает с ними. Однако в военном деле, как и во всяком ином, самыенеобычайные и выдающиеся подвиги отнюдь не являются самыми замечательными. Янередко вижу, как имена полководцев меркнут перед именами людей с меньшимизаслугами; примером могут служить имена Лабиена, Вентидия, Телесина и многихдругих [17]. Если бы я с этой точки зрения захотел вступиться за греков, торазве не мог бы я сказать, что Камилл [18] куда менее годится для сравненияс Фемистоклом, братья Гракхи для параллели с Агисом и Клеоменом, Нума длясопоставления с Ликургом. Но ведь нелепо желать судить о столь многообразныхвещах, сравнивая их лишь в одном отношении.
Когда Плутарх проводит сопоставление между ними, он не ставит междуними знака равенства. Кто в состоянии был бы с большей тщательностью идобросовестностью установить черты различия между ними? Сравнивая победы,воинские подвиги и мощь армий, возглавлявшихся Помпеем, с победами,подвигами и военной мощью Агесилая, Плутарх заявляет [19]: «Я не думаю,чтобы даже Ксенофонт, если бы он был жив и если бы даже ему разрешили писатьвсе, что угодно, в пользу Агесилая, отважился сравнить его с Помпеем».Сопоставляя Лисандра с Суллой, Плутарх пишет [20]: «Между ними не может бытьникакого сравнения: ни по числу одержанных побед, ни по числу сражений, ибоЛисандр выиграл лишь две морские битвы», и т. д. Такие замечания Плутархадоказывают, что он ничего не отнимает у римлян; тем, что он простосопоставляет их с греками, он нисколько не умаляет их, как бы ни велико былоразличие между ними. К тому же Плутарх не сравнивает их в целом и никому неотдает предпочтения: он сопоставляет события и подробности одно за другим исудит о каждом из них в отдельности. Поэтому, кто хочет упрекнуть его впристрастии, тот должен разобрать какое-нибудь отдельное его суждение, илисказать вообще, что он неудачно выбрал для сравнения такого-то грека стаким-то римлянином, так как есть другие, более подходящие для сравнения, иболее соизмеримые фигуры.
Глава XXXIII
История Спурины
Философия неплохо распорядилась своим достоянием, предоставив разумуверховное руководство нашей душой и возложив на него обуздание нашихстрастей. Кто считает самыми неистовыми страсти, порождаемые любовью,ссылаясь на подкрепление своей точки зрения на то, что они завладевают идушой и телом, заполняя человека целиком, так что даже здоровье его начинаетзависеть от них и медицина иной раз вынуждена выступать здесь в ролипосредницы.
Однако можно было бы возразить против этого, что вмешательство тела внаши страсти до известной степени снижает и ослабляет их, ибо такого родажелания утоляются, их можно удовлетворить материальным путем. Многие,стремясь избавиться от постоянных докук чувственных вожделений, отсекали иотрезали томившие и мучившие их части тела. Другие подавляли пыл чувственныхжеланий, применяя холодные компрессы из снега или уксуса. Таково же было иназначение власяниц, вытканных из конского волоса, которые носили нашипредки, одни в виде сорочек, другие в виде поясов, терзавших их чресла. Одинвельможа рассказывал мне недавно, что в дни его молодости ему однаждывзбрело в голову предстать на торжественном празднестве при дворе Франциска I [1], на которое все явились разряженными, одетым во власяницу, доставшуюсяему от отца; но при всем его благочестии у него едва хватило терпениядождаться ночи, чтобы поскорее сбросить ее с себя, и он долго болел послеэтого; нет такого юношеского пыла, — заявил в заключение мой знакомый, —которого применение этого средства не способно было бы убить. Но ему,по-видимому, неведомы были самые неистовые приступы этих вожделений, ибоопыт показывает, что нередко такие чувства скрываются под грубой и убогойодеждой, и власяницы не всегда приносят успокоение тем, кто надевает их насебя. Ксенократ поступил более решительно; когда его ученики, желая испытатьего выдержку, положили ему в постель прекрасную и прославленную куртизанкуЛаису, полуобнаженную, у которой прикрыты были лишь ее прелести, он,чувствуя, что, вопреки его речам и правилам, тело его готово взбунтоваться,приказал прижечь возмутившиеся части тела [2]. Между тем душевные страсти,вроде честолюбия, скупости и тому подобных, больше зависят от нашего разума,ибо только он способен справиться с ними; эти желания к тому же неукротимы,ибо, утоляя, только усиливаешь и обостряешь их.
Достаточно привести в пример хотя бы Юлия Цезаря, чтобы убедиться внесходстве душевных и плотских страстей, ибо не было человека, которыйпредавался бы любовным наслаждениям с большей яростью, чем Цезарь [3].Доказательством его приверженности к ним может служить его необычайнотщательный уход за своим телом; он доходил до того, что прибегал к самымутонченным средствам, применявшимся в его время, например ему выщипываливолосы на всем теле и умащивали самыми изысканными благовониями. Если веритьСветонию, он был хорош собой: белокурый, высокий, статный, лицо полное,глаза черные и живые; однако сохранившиеся в Риме статуи Цезаря неподтверждают этого описания его наружности. Не считая его законных жен — аон был женат четыре раза, не говоря о его увлечении в ранней молодости царемВифинии Никомедом, — ему отдала свою девственность прославленная египетскаяцарица Клеопатра, родившая ему сына — Цезариона; у него была связь смавританской царицей Евноей, а в Риме — с Постумией, женой Сервия Сульпиция,с Лоллией, женой Габиния, с Тертуллой, женой Красса, и даже с Муцией, женойПомпея Великого, который по этой причине, как утверждают римские историки,развелся с нею [4] (впрочем, Плутарх заявляет, что ему на этот счет ничегоне известно). Когда же Помпеи женился на дочери Цезаря, то оба Куриона, отеци сын, упрекали Помпея в том, что он сделался зятем человека, которыйнаставил ему рога и которого он сам часто называл Эгисфом [5]. Кроме всехперечисленных связей, Цезарь был близок с Сервилией, сестрой Катона иматерью Марка Брута, и, по единодушному мнению всех, этим объясняетсячрезмерная любовь Цезаря к Бруту, так как, судя по времени его рождения,Брут мог быть его сыном. Я имею поэтому, как мне кажется, право считатьЦезаря человеком весьма распутным и необычайно склонным к любовным утехам.Но когда другая страсть, честолюбие, которое было у него не менее уязвимымместом, столкнулась с его пристрастием к женщинам, оно тотчас же отодвинулоего любовные дела на задний план.
Мне припоминается в этой связи завоеватель Константинополя Мехмед, неоставивший в Греции камня на камне. Я не знаю человека, у которого обе этистрасти находились бы в таком совершеннейшем равновесии: он был такой женеутомимый распутник, как и вояка. Но когда случалось в его жизни, что обеэти страсти сталкивались, воинский пыл неизменно брал верх над любовным.Сластолюбие полностью поглотило его — хотя это было уже совсем не ко времени — лишь в глубокой старости, когда бремя войны стало уже не по нем.Противоположностью Мехмеду может служить неаполитанский король Владислав [6]. Достойно внимания то, что сообщают о нем: прекрасный полководец, смелыйи честолюбивый, он ставил, однако, превыше всего свое сластолюбие иобладание какой-нибудь редкой красавицей. Его смерть была под стать этому.Доведя длительной осадой город Флоренцию до такой крайности, что жители ееуже готовы были признать себя побежденными, он согласился снять осаду приусловии, чтобы они выдали ему девушку необыкновенной красоты, о которой донего дошли слухи. Пришлось пойти на это и ценою попрания чести одной семьиизбежать общественного бедствия. Красавица эта была дочерью славившегося вте времена врача, который, очутившись в таком тяжелом положении, решился накрайность. Так как все наряжали его дочь и дарили ей украшения идрагоценности, которые должны были сделать ее еще более привлекательной дляее будущего возлюбленного, то и отец со своей стороны подарил ей платокзамечательной работы и надушенный необыкновенными духами; этим платком,который является у них обычной принадлежностью туалета, она должна былавоспользоваться при первом же сближении с ним. Но, применив свое врачебноеискусство, отец напитал этот платок ядом, который, быстро проникнув воткрытые поры разгоряченных тел обоих возлюбленных, внезапно превратил ихжаркие объятия в ледяные, и они скончались в объятиях друг у друга. Вернусь,однако, к Цезарю.
Он не жертвовал ради своих любовных похождений ни одной минутой, ниодним случаем, которые могли бы содействовать его возвеличению. Честолюбиевластвовало так безраздельно над всеми другими его страстями и до тогозаполняло его душу, что способно было увлечь его куда угодно. Меняохватывает досада при мысли о величии этого человека и замечательныхзадатках, которые таились в нем, о его обширнейших и разнообразныхпознаниях, благодаря которым не было почти ни одной науки, о которой бы онне писал. Он был такой несравненный оратор, что многие ставили егокрасноречие выше цицероновского, и сам Цезарь, по-моему, был убежден, чтоненамного уступает в этом Цицерону; оба антикатоновских памфлета былинаписаны Цезарем главным образом с целью парировать ораторское красноречие,обнаруженное Цицероном в его «Катоне». Кто мог сравняться с Цезарем вбдительности, неустанной деятельности и трудолюбии? Он несомненно обладал,кроме этого, еще многими другими исключительными и незаурядными задатками.Он был очень воздержан и поразительно непривередлив в еде: Оппий сообщает,что однажды, когда Цезарю было подано за столом в виде приправыконсервированное оливковое масло вместо свежего, он ел его большимипорциями, не желая ставить в неловкое положение хозяина дома [7]. В другойраз Цезарь велел наказать плетьми своего пекаря, подавшего ему другой хлеб,нежели всем остальным [8]. Сам Катон говаривал о Цезаре, что он единственныйиз всех трезвым приступил к разрушению своего отечества [9]. Правда, былслучай, когда тот же Катон назвал Цезаря пьянчугой. Произошло это вот как.Когда оба они находились в сенате, где обсуждалось дело о заговоре Катилины [10], причастным к которому многие считали Цезаря, Цезарю подали принесеннуюоткуда-то секретную записку. Катон, решив, что этой запиской остальныезаговорщики о чем-то предупреждают Цезаря, потребовал, чтобы Цезарь дал емуее прочесть, на что Цезарь вынужден был согласиться, чтобы не бытьзаподозренным в худшем. Это была любовная записка сестры Катона Сервилии кЦезарю. Прочтя записку, Катон швырнул ее Цезарю со словами: «На, пьянчуга!»Но ведь этим бранным словом Катон хотел выразить Цезарю свой гнев ипрезрение, а вовсе не обвинить его всерьез в этом пороке, — совсем так, какмы часто ругаем тех, на кого сердимся, первыми же сорвавшимися с языкасловами, совершенно неуместными по отношению к тем, к кому мы их применяем.К тому же порок, который Катон приписал в данном случае Цезарю, необычайносродни той слабости, в которой Катон изобличил Цезаря, ибо, как гласитпословица, Венеру и Вакха водой не разольешь.
Но для меня лично Венера в союзе с трезвостью гораздо сладостнее.
Существует бесчисленное количество примеров снисхождения и великодушияЦезаря по отношению к своим противникам. Я имею в виду далеко не одни лишьслучаи из времен гражданских войн: об относящихся к ним случаях Цезарь самдает понять в своих писаниях, что проявлял мягкость с целью успокоить своихврагов и побудить их меньше опасаться его будущего владычества и победы. Поповоду этих примеров надо признать, что если они не могут убедить нас в егоприродной мягкости, то они во всяком случае свидетельствуют о егопоразительном мужестве и доверчивости. Ему не раз случалось после победы надврагами отпускать целые армии, не требуя от них даже клятвенного обещания,что они будут — не говоря уже о какой бы то ни было помощи ему — простовоздерживаться от войны с ним. Ему приходилось по три-четыре разазахватывать в плен некоторых полководцев Помпея и каждый раз отпускать их насвободу. Помпей объявлял врагами всех тех, кто не явится воевать вместе сним, Цезарь же приказал объявить, что будет считать друзьями всех тех, ктоне примкнет ни к той, ни к другой из борющихся сторон и фактически невыступит против него [11]. Тем из своих военачальников, которым случалосьуходить от него ради более выгодных условий, он отсылал еще их оружие,лошадей и снаряжение [12]. Захватив тот или иной город, Цезарь предоставлялему право примкнуть к какой угодно партии и оставлял в качестве гарнизонатолько память о своем милосердии и человечности. В решающий для него деньФарсальской битвы он приказал щадить римских граждан, за исключением толькосамых крайних случаев [13].
Таковы рискованные, на мой взгляд, приемы Цезаря, и неудивительнопоэтому, что во время нынешних гражданских войн те, кто, подобно ему,борются против старых порядков, не следуют его примеру, ибо это средствачрезвычайные, которые мог себе позволить только Цезарь с его необыкновеннымсчастьем и изумительной проницательностью. Когда я думаю о подавляющемвеличии этого человека, я оправдываю богиню победы, которая ни разу непожелала разлучиться с ним, даже в названном мною весьма несправедливом ибеззаконном деле [14].
Возвращаясь к милосердию Цезаря, заметим, что есть много убедительныхпримеров его, относящихся ко времени господства Цезаря, когда он обладалвсей полнотой власти и ему незачем было притворяться. Гай Меммий [15]выступил против Цезаря с весьма острыми обличениями, на которые Цезарьотвечал с не меньшей запальчивостью, но это не помешало Цезарю вскоре послетого поддержать кандидатуру Меммия в консулы. Когда Гай Кальв [16],сочинивший против Цезаря множество оскорбительных эпиграмм, изъявил черездрузей желание примириться с ним, Цезарь с готовностью согласился первымнаписать ему. А когда наш славный Катулл, который так отделал его под именемМамурры, явился к нему с повинной, он в тот же день пригласил его к обеду.Узнав, что кое-кто злословит о нем, он ограничился заявлением в одной изсвоих публичных речей, что ему это известно. Как ни мало он ненавидел своихврагов, он еще меньше боялся их. Когда его предупредили о некоторыхзамышлявшихся покушениях на его жизнь, он удовольствовался опубликованиемуказа, в котором сообщал, что знает о них, и не применил к виновным никакихдругих мер. Достойна внимания заботливость Цезаря по отношению к друзьям:однажды, когда разъезжавший вместе с ним Гай Оппий плохо себя почувствовал,Цезарь уступил ему единственное имевшееся пристанище, а сам провел ночь наголой земле и под открытым небом. Что касается его правосудия, то однажды онприговорил к казни своего любимого слугу за прелюбодеяние с женой одногоримского всадника, хотя никто не принес ему на это жалобы. Ни один человекне проявлял большей умеренности после победы и большей стойкости впревратностях судьбы.
Но все эти отличные качества были омрачены и изуродованы его неистовымчестолюбием, которое увлекло его так далеко, что — как это нетрудно доказать — все его поступки и действия целиком определялись этой страстью.Обуреваемый ею, он для того, чтобы иметь возможность раздавать щедрые дары,превратился в расхитителя государственной собственности; ослепленный ею, онне постеснялся такой гнусности, как заявить, что самых отпетых и мерзкихнегодяев, помогавших ему возвыситься, он будет ценить и всячески поощрятьничуть не меньше, нежели самых достойных людей. Опьяненный безмернымтщеславием, он не постеснялся хвастаться перед своими согражданами тем, чтоему удалось превратить великую римскую республику в пустой звук, а такжезаявить, что слова его должны считаться законом; он дошел до того, что сидяпринимал весь состав сената и допускал, чтобы ему поклонялись и оказывалибожеские почести. Словом, на мой взгляд, одни этот порок загубил в нем самыеблестящие и необыкновенные дарования, которыми наделила его природа; этотпорок сделал его имя ненавистным для всех порядочных людей тем, что онстремился утвердить свою славу на обломках своего отечества, на разрушениисамой цветущей и мощной державы в мире.
Можно было бы, наоборот, привести немало случаев, когда выдающиеся людижертвовали делами государства ради своего сластолюбия: взять, к примеру,Марка Антония и других; но я не сомневаюсь, что там, где любовь и честолюбиеодинаково сильны и приходят в противоборство между собой, честолюбиенеминуемо возобладает.
Возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу, что великое дело —уметь обуздать свои страсти доводами разума или сдержать неистовые порывысвоего тела. Однако, чтобы кто-нибудь подвергал себя бичеванию ради другогоили чтобы кто-нибудь не только пожелал лишиться сладкой радости нравитьсядругому, вызывать к себе влечение, нежную страсть в этом другом, но и —больше того — возненавидел бы свою привлекательность, повинную в этом,осудил бы свою красоту за то, что она воспламеняет другого, — примеров томуя не наблюдал. А между тем примеры тому бывали. Молодой тосканец Спурина —
- Qualis gemma micat, fulvum quae dividit aurum,
- Aut collo decus aut capiti; vel quale, per artem
- Inclusum buxo aut Oricia terebintho,
- Lucet ebur [17] —
наделен был такой редкостной и неописуемой красотой, что самыесдержанные люди не могли устоять против нее. Однако жар и пламя, все пущеразгоравшиеся от его чар, не только оставляли его холодным, но возбудили внем лютую ярость против самого себя, против щедрых даров, отпущенных емуприродой, как если бы он ответственен был за то, что другие оказалисьобделенными в этом отношении. Он дошел до того, что изуродовал свое лицо,нанеся себе множество ран и шрамов и полностью обезобразив ту гармонию иблагообразие, которые природа так заботливо запечатлела в его чертах [18].
Сказать по чистой совести, подобные поступки больше изумляют меня, чемвосхищают: такие крайности противны моим правилам. Цель этого поступкапрекрасна и высоконравственна, и, однако, он кажется мне безрассудным. А чтоесли бы его безобразие ввело людей в грех презрения или ненависти, илизависти к такой неслыханной славе, или, наконец, побудило к клевете,приписав его поступок бешеному честолюбию? Есть ли хоть какая-нибудь форма,которую порок не пожелал бы использовать, ища возможность проявиться? Былобы более правильно и честно, если бы он обратил эти дары неба в образецдобродетели, в пример, достойный подражания. Те, кто уклоняются отисполнения общественного долга и от бесчисленного количества разнообразныхобременительных правил, связывающих в общественной жизни безукоризненночестного человека, по-моему, сильно облегчают себе жизнь, с какими бычастными неудобствами для них это ни было связано. Это похоже на то, какесли бы человек решил умереть с целью избавиться от жизненных тягот. Такиелюди могут обладать разными достоинствами, но мне всегда казалось, что онилишены способности противостоять трудностям и что в беде нет ничего болеевысокого, чем стойко держаться среди разбушевавшихся волн, честно выполняявсе то, что требует от нас долг. Иногда легче обходиться вовсе без женщин,чем вести себя во всех отношениях должным образом со своей женой, в бедностиможно жить более беззаботно, чем при хорошо распределяемом достатке. Ведьразумное пользование доставляет больше хлопот, нежели воздержание.Умеренность — добродетель более требовательная, чем нужда. Доблестная жизньСципиона Младшего имеет тысячу разных проявлений, доблестная жизнь Диогена —только одно.
Жизнь Диогена настолько же превосходит своей чистотой обычную жизнь,насколько жизнь, заполненная выдающимися делами и подвигами, превосходит еесилой и большей пользой.
Глава XXXIV
Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря
О многих полководцах рассказывают, что у них были свои настольныекниги; так, например, у Александра Великого — Гомер, у Сципиона Африканского — Ксенофонт, у Марка Брута — Полибий, у Карла V — Филипп де Коммин; говорят,что в наше время таким же успехом пользуется у многих Маккиавелли. Однаконесомненно наилучший выбор в этом отношении сделал покойный маршал Строцци [1], избравший «Записки» Юлия Цезаря, ибо это сочинение, являясь подлинным ивысшим образцом военного искусства, поистине должно быть молитвенникомвсякого воина. К тому же Цезарь сумел облечь свой богатейший сюжет в стольизящную и прекрасную литературную форму и довести ее до такой ясности исовершенства, что, на мой взгляд, нет сочинения, которое могло бы с ним вэтом отношении сравниться.
Я хочу отметить здесь некоторые примечательные особенности Цезаря вделе ведения войны, которые врезались мне в память.
Когда на солдат Цезаря напал страх из-за распространившихся в еговойске слухов об огромной армии, которую Юба ведет против Цезаря, последний,вместо того чтобы опровергнуть составившееся у его солдат представление ипреуменьшить силы врага, собрал их на сходку с целью ободрить их и придатьим мужества. Но он выбрал для этого совсем другой способ, противоположныйобычно применяемому, а именно: он посоветовал солдатам прекратить расспросыо численности направляющихся против них неприятельских войск, ибо он имеетна этот счет весьма точные сведения, и тут он назвал им цифру, намногопревосходившую ту, о которой шли слухи среди его солдат. Цезарь последовал вданном случае совету, который у Ксенофонта дает Кир; ибо обман не такстрашен, когда враг оказывается на деле более слабым, чем ожидали, нежелитогда, когда враг оказывается более сильным, чем по слухам предполагали [2].
Цезарь прежде всего приучал своих солдат к беспрекословномуповиновению, требуя, чтобы они не интересовались планами своего полководца ине обсуждали их; для этого он сообщал им свои планы лишь в момент ихвыполнения. Ему доставляло удовольствие в тех случаях, когда солдатыугадывали его планы, сразу же менять их с целью обмануть солдат; он нередкотак и делал: например, наметив стоянку в определенном месте он, достигнувее, продолжал идти вперед, удлиняя переход; такие вещи он особенно любилпроделывать в ненастную погоду [3].
Когда гельветы, в самом начале его похода в Галлию, отправили к Цезарюпослов, прося у него разрешения пройти через римские владения, то, хотя он ирешил им помешать в этом силой, однако притворился сговорчивым и попросил уних несколько дней якобы для размышлений, в действительности же чтобывыиграть время и собрать свою армию [4]. Несчастные гельветы и неподозревали, как искусно он умел использовать время. Цезарь неоднократноповторял, что умение вовремя воспользоваться случаем — одно из важнейшихкачеств полководца; быстрота, характерная для его военных действий, поистиненеслыханна и невероятна.
Беззастенчиво используя преимущество, которое он получал над врагом,заключая с ним временное соглашение, Цезарь был беззастенчив и в томотношении, что от своих солдат не требовал никаких других качеств, кромедоблести, и налагал наказания только за неповиновение и бунт [5]. Нередкопосле одержанной победы он давал солдатам полную волю, предоставляя имделать что угодно и освобождая их на некоторое время от правил воинскойдисциплины; при этом он говорил, что солдаты его так хорошо вышколены, что,даже надушенные и напомаженные, они яростно кидаются в бой [6]. Цезарьдействительно любил, чтобы солдаты его имели богатое вооружение; он давал импозолоченные, посеребренные и разукрашенные латы, считая, что боязньпотерять в сражении свои роскошные доспехи заставит их биться с еще большиможесточением. Обращаясь к солдатам, он называл их «друзья мои», как этоделаем мы еще до сих пор; однако преемник Цезаря Август, отменил этотобычай, считая, что Цезарь ввел его лишь по необходимости, находясь втрудном положении, чтобы польстить солдатам, которые шли за ним пособственной доброй воле;
- Rheni mihi Caesar in undis
- Dux erat, hic socius: facinus quos inquinat, aequat. [7]
Считая, что это несовместимо с достоинством императора и вождя армии,Август восстановил прежний обычай называть их просто воинами [8].
Однако наряду с этим вниманием к солдатам Цезарь проявлял большуюсуровость при наказании их. Взбунтовавшийся у Плаценции девятый легионЦезарь без всякого колебания распустил с позором, несмотря на то что Помпейеще не был побежден, и принял этих солдат обратно лишь после их долгих иусиленных просьб [9]. Он приводил их к повиновению не мягкостью, а скореесвоим авторитетом и храбростью.
Говоря о его решении переправиться через Рейн в Германию, Цезарьзаявляет [10], что считал несовместимым с достоинством римского народа,чтобы переправа его армии происходила на судах, и потому приказал построитьмост, по которому должны были пройти его войска. Именно при такихобстоятельствах был воздвигнут этот великолепный мост, устройство которогоон столь подробно рисует; нигде при изложении своих предприятий Цезарь необнаруживает такой словоохотливости, как при описании своих изобретательныхвыдумок, осуществление которых требовало умелого применения рук.
Я обратил также внимание на то, что Цезарь придавал большое значениесвоим речам к солдатам перед боем, ибо в тех случаях, когда он хочетпоказать, что спешил или был застигнут врасплох, он всегда указывает на то,что не имел даже возможности обратиться со словами ободрения к своимсолдатам. Так было, например, перед крупным сражением с жителями Турне.Отдав необходимые распоряжения, сообщает Цезарь [11], он поспешил со словамиободрения к солдатам, там, где их заставал; попав к десятому легиону, онуспел только кратко сказать воинам, чтобы они твердо помнили о своей прежнейдоблести, не падали духом и смело отражали натиск неприятельской армии. Таккак враги подошли уже на расстояние полета стрелы, Цезарь дал сигнал к бою.Быстро направившись в другое место для осмотра других отрядов, он засталсолдат уже в самом разгаре сражения. Вот все, что сам Цезарь рассказывает обэтом в приводимом месте. И надо признать, что во многих случаях эти речиЦезаря оказали ему огромные услуги. Речи Цезаря перед солдатами даже в еговремя пользовались такой популярностью, что многие его соратники собирали ихранили их; благодаря этому составились целые тома его речей, надолго егопережившие. Он говорил всегда так своеобразно, что близко знавшие его люди —и в том числе Август, — слушая чтение тех речей, которые были собраны, моглиотличить в них отдельные фразы и даже слова, ему явно не принадлежавшие [12].
Когда Цезарь впервые отправился из Рима с государственным поручением,он за неделю достиг реки Роны, причем рядом с ним в повозке находились одинили два непрерывно записывавших за ним писца, а сзади воин, который держалего меч [13]. И правда, мало кто, даже непрерывно двигаясь, мог бысоперничать с Цезарем в быстроте. Благодаря ей он, всегда победоносный,оставив Галлию и преследуя Помпея, направился в Бриндизи; за девятнадцатьдней он покорил Италию и вернулся из Бриндизи в Рим. Из Рима он отправился всамые отдаленные области Испании, где преодолел величайшие трудности в войнепротив Афрания и Петрея [14] и во время долгой осады Марселя. Отсюда ондвинулся в Македонию, разбил римскую армию при Фарсале, а затем, преследуяПомпея, переправился в Египет и покорил его. Из Египта он прибыл в Сирию иПонтийское царство, где нанес поражение Фарнаку [15]. После этого онотправился в Африку, где разбил Сципиона и Юбу, и, вернувшись через Италию вИспанию, одержал победу над сыновьями Помпея [16].
- Ocior et caeli flammis et tigride foeta. [17]
- Ac veluti montis saxum de vertice praeceps
- Cum ruit avuisum vento, seu turbidus imber
- Proluit, aut annis solvit sublapsa vetustas,
- Fertur in abruptum magno mons improbus actu,
- Exultatque solo, silvas armenta virosque
- Involvens secum. [18]
Говоря об осаде Аварика, Цезарь сообщает [19], что он, по своемуобыкновению, день и ночь находился при работавших солдатах. Во всех важныхвоенных операциях он всегда производил разведку сам и никогда не направлялсвоей армии в такое место, которое не было бы предварительно обследовано.Если верить Светонию, то Цезарь, решив переправиться в Британию, сначала самобследовал, где и как лучше высадиться [20].
Он неоднократно повторял, что победу, одержанную с помощью ума, онпредпочитает победе, одержанной мечом. Во время войны против Петрея иАфрания Цезарь не пожелал воспользоваться одним явно благоприятным для негообстоятельством, заявив, что надеется доконать своих врагов с несколькобольшей затратой времени, но зато с меньшим риском [21].
Во время той же операции Цезарь придумал замечательную штуку, приказаввсему своему войску без всякой к тому необходимости переправиться вплавьчерез реку:
- rapuitque ruens in proelia miles,
- Quod fugiens timuisset, iter; mox uda receptis
- Membra fovent armis, gelidosque a gurgite, cursu
- Restituunt artus. [22]
Я нахожу, что Цезарь при проведении своих предприятий был более сдержани рассудителен, чем Александр Македонский; тот как бы искал опасностей ибежал им навстречу, подобно бурному потоку, который без разбора крушит исметает все на своем пути:
- Sic tauriformis volvitur Aufidus,
- Qui regna Dauni perfluit Appuli,
- Dum saevit, horrendamque cultis
- Diluviem meditatur agris. [23]
Дело в том, что Александр начал свое поприще еще будучи очень молод,находясь в самом пылком возрасте, между тем как Цезарь вступил в игру ужебудучи зрелым и опытным человеком. Кроме того, Александр обладал болеегорячим, вспыльчивым и необузданным характером, а пристрастие к вину ещеусугубило его буйный нрав, Цезарь же был необычайно воздержан в употреблениивина. Однако в случае необходимости, если того требовали обстоятельства, небыло человека, который щадил бы себя меньше, чем Цезарь.
Что касается меня, то во многих его подвигах я усматриваю готовностьлучше погибнуть, чем снести позор поражения. Во время упомянутой битвыпротив обитателей Турне Цезарь, видя, что весь головной отряд его армиидрогнул, спешно пробрался в первые ряды своих солдат, представ перед врагом,как был, без щита [24]; и такое случалось с ним не раз. Услышав, что солдатыего осаждены, он, переодетый, пробрался через передовые посты неприятельскойармии, чтобы ободрить их своим присутствием [25]. Переправившись в Диррахийс очень незначительным войском и видя, что остальная часть его армии,которую он поручил привести Антонию, замешкалась, он решил переплыть обратнои еще раз пересечь море, несмотря на неистовую бурю; он тайно направился вобратный путь с целью привести самому застрявшие войска, не считаясь с тем,что все тамошние порты и все участки моря контролировались флотом Помпея [26].
Что же касается подвигов Цезаря, совершенных с оружием в руках, томногие из них по своей дерзости превосходят все, что предписывается военнойнаукой: например, с какими ничтожными силами он двинулся, чтобы покоритьЕгипет, а вслед за тем напал на армии Сципиона и Юбы, в десять разпревышавшие численность его войск. Такие люди, как Цезарь, должны былиобладать какой-то сверхчеловеческой верой в свою судьбу.
Говорил же он, что великие дела надо совершать, а не обдумыватьбесконечно.
После битвы при Фарсале, отправив свои войска вперед в Азию ипереправляясь на единственном судне через Геллеспонт, он встретил ЛуцияКассия с десятью большими военными кораблями. У Цезаря хватило духу нетолько не отступить перед ним, но пойти прямо на врага и потребовать у негосдачи; и Цезарь добился своего [27]. Предприняв пресловутую жестокую осадуАлесии, где сосредоточено было 80000 защитников, Цезарь фактически имелпротив себя всю Галлию, ибо галлы, все как один, поднялись против него,решив заставить его снять осаду и выставив армию из 18000 человек конницы и240000 человек пехоты [28]. Какой же надо было обладать беззаветнойхрабростью и безрассудной верой в себя, чтобы не отказаться от своегозамысла и решиться идти на преодоление двух таких гигантских трудностейодновременно. И все же он справился с обеими этими задачами: выиграв сначалакрупнейшее сражение и сокрушив врага, находившегося вне Алесии, он вслед затем заставил сдаться и осажденных. Так же поступил и Лукулл при осадеТигранокерты в войне с Тиграном; разница, однако, заключалась в том, чтоЛукуллу пришлось иметь дело с неприятелем, гораздо менее мужественным [29].
Говоря об осаде Алесии, я хотел бы отметить две поразительныеособенности, связанные с этим делом. Первая состояла в том, что галлы,собрав все, что они могли, против Цезаря, и произведя смотр своих сил, насвоем совете решили не вводить в бой часть этой массы людей, опасаясь, какбы при таком множестве воинов не произошло замешательства в их рядах. Этотстрах перед чересчур многочисленным войском был явлением совершенно новым.Оценивая его по существу, следует признать правильным, что основной костякармии должен быть не слишком велик: надо, чтобы он был ограниченсравнительно умеренными пределами, как принимая во внимание трудностьорганизации снабжения такого огромного войска, так и учитывая сложностьруководства им и поддержания порядка. Во всяком случае нетрудно доказать напримерах, что такие гигантские армии не совершали ничего значительного.
Надо признать правильным изречение Кира, приводимое у Ксенофонта [30],что перевес в сражении дает не общее число бойцов, а количество смелыхвоинов, — все же остальные — скорее помеха, чем подспорье.
Баязид, решив, вопреки мнению всех своих военачальников, дать сражениеТамерлану, построил весь свой расчет на том, что надеялся на замешательствов чересчур многочисленной неприятельской армии [31]. Весьма опытный воин изнаток своего дела Скандербег любил повторять, что десяти-двенадцати тысячпреданных воинов достаточно, чтобы обеспечить полководцу славу во всякомвоенном деле [32].
Вторая особенность, которая противоречила принятому обычаю и способуведения войны, состояла в том, что Верцингеториг, стоявший во главеобъединенных сил всех частей восставшей Галлии, решил направиться к Алесии иподвергнуться там осаде [33]. Ведь вождь целой страны никогда не долженставить себя в безвыходное положение, разве что в крайнем случае, когда речьидет о его последней крепости и единственной оставшейся надежде, — защищатьее до конца; во всех остальных случаях он должен быть свободен и иметьвозможность приходить на помощь всем частям своей армии.
Возвращаясь к Цезарю, следует отметить, что, как сообщает близкийЦезарю человек — Оппий, с годами он стал более осмотрителен и не стольпоспешен в своих действиях, полагая, что не должен рисковать славой, которуюпринесли ему его многочисленные победы, ибо достаточно одного поражения,чтобы погубить ее [34].
Именно эту сторону дела имеют в виду итальянцы, когда, порицаябезрассудную смелость, нередко наблюдаемую у молодых людей, называют их«жаждущими славы» (bisognosi d’onore) и полагают, что они правы, если,страстно желая прославиться, добиваются этого любой ценой, но что так недолжны поступать те, кто уже прославлен в достаточной мере. В стремлении кславе, как и во многом другом, должна соблюдаться какая-то мера, равно как ив утолении жажды; немало людей именно так себя и ведет.
Цезарю было очень далеко до щепетильности тех древних римлян, которыестремились достичь военной победы лишь своей простой и безыскусственнойдоблестью; но и он руководствовался в этом деле более возвышеннымипредставлениями, чем это делается в наше время, и не все средства были длянего хороши, лишь бы одержать победу. Во время войны с Ариовистом [35], втот момент, когда Цезарь вел переговоры с ним, произошло столкновение междуобеими армиями по вине всадников Ариовиста. Эта стычка была весьма на рукуЦезарю, но он не пожелал ею воспользоваться из опасения, как бы его не сталиупрекать в вероломстве.
Он имел обыкновение одеваться во время сражения в богатое платье яркогоцвета, чтобы быть заметным.
Он был требователен по отношению к солдатам, но проявлял особуюстрогость к ним пред лицом врага.
Когда древние греки хотели изобличить кого-нибудь в полнойбесталанности, они, по принятому изречению, говорили о таком человеке, чтоон не умеет ни читать, ни плавать. Цезарь тоже считал, что умение плаватьвесьма важно в военном деле, и извлекал из этого умения много преимуществ.Если ему нужно было спешить, он обычно переправлялся через встречавшиеся емуна пути реки вплавь; в походе же любил шествовать пешком, как АлександрВеликий. Во время войны в Египте Цезарь принужден был, чтобы спастись,прыгнуть в небольшую лодку, но, когда он увидел, что в нее же устремилисьмногие его солдаты и лодка рискует пойти ко дну, он предпочел броситься вморе и вплавь достиг своего флота, переплыв расстояние в двести с лишнимфутов, держа в поднятой над водой левой руке таблички, а в зубах своевоинское снаряжение, чтобы оно не досталось врагу; и все это Цезарьпроделал, будучи отнюдь не юношей [36].
Ни один полководец не мог похвалиться большей преданностью своихСолдат. В начале гражданской войны центурионы всех легионов предложили емувыставить каждый по одному всаднику за свой счет, а все пехотинцы предложилислужить ему бесплатно, причем солдаты побогаче брали на себя содержаниеменее достаточных [37]. Покойный адмирал Шатийон [38] явил нам подобный жепример во время наших гражданских войн: французские солдаты из его армииоплачивали из своих средств находившихся в их рядах иностранных наемников;подобных примеров горячей преданности и самоотверженности нельзя быловстретить в лагере католической партии, среди сторонников старой веры.
Чувство диктует нам более повелительно, чем разум.
Во время войны с Ганнибалом солдаты и военачальники, следуя примерущедрости римского народа, отказались от жалованья, так что в лагере Марцелла [39] тех, кто не отказывался от жалованья, называли наемниками.
Когда солдаты Цезаря в битве под Диррахием понесли поражение, они самипотребовали для себя наказания, и Цезарю пришлось скорее утешать их, чемнаказывать [40]. Одна-единственная его когорта в течение четырех часоввыдерживала натиск четырех легионов Помпея и почти до последнего человекабыла истреблена неприятельскими лучниками, так что под конец во рву былонайдено 130000 стрел [41]. Один из его воинов, Сцева, защищавший воротаукрепления, держался неколебимо, несмотря на то, что у него был выбит глаз,а бедро и одно плечо пронзены насквозь и щит пробит ста двадцатью ударами [42]. Многие его солдаты, попав в плен, предпочитали умереть, чемсогласиться перейти на сторону врага. Граний Петроний [43] был захвачен вАфрике Сципионом; тот приговорил к смерти всех находившихся с Петронием, аему самому обещал помилование, ввиду того что он человек знатный и квестор.В ответ на это Петроний заявил, что воины Цезаря привыкли давать пощаду, ноне получать ее от других, и с этими словами тут же покончил с собой.
Можно привести бесчисленное количество примеров преданности, выказаннойЦезарю его солдатами. Нельзя забыть поведение тех, кто были осаждены вСалонах [44] (городе, стоявшем на стороне Цезаря против Помпея), ввидуисключительности происшедшего здесь случая. Марк Октавий подверг Салоныблокаде; осажденные терпели нужду во всем до такой степени, что для того,чтобы пополнить недостаток в людях — ибо большинство их было либо перебито,либо ранено, — они отпустили на свободу всех своих рабов и, обрезав волосы увсех женщин, свили из них веревки для своих метательных орудий. Кроме всегоэтого, они терпели ужасные муки из-за полного отсутствия продовольствия, нотем не менее были полны решимости ни в коем случае не сдаваться. Затянувтаким образом осаду надолго и добившись того, что Октавий стал болеенебрежен и менее внимателен, осажденные однажды в полдень улучили удобныймомент. Они расставили на стенах своих укреплений жен и детей, чтобы отвлечьвнимание неприятеля, а сами с такой яростью набросились на осаждавших, чтозахватили один за другим первые четыре их лагеря, а потом и остальные,вытеснив их полностью из укреплений и заставив бежать на корабли. СамОктавий спасся бегством в Диррахий, где находился Помпеи. Я не могуприпомнить другого подобного примера, чтобы осажденные наголову разбилиосаждающих и взяли инициативу в свои руки; не помню я также случая, чтобыпростая вылазка привела к столь полной и решительной победе.
Глава XXXV
О трех истинно хороших женщинах
Всем известно, что хороших женщин не так-то много, не по тринадцать надюжину, а в особенности мало примерных жен. Ведь брак таит в себе столькошипов, что женщине трудно сохранить свою привязанность неизменной в течениедолгих лет. Хотя мужчины в этом отношении и стоят намного выше, однако и имэто не легко дается.
Показателем счастливого брака, убедительнейшим доказательством его,является долгая совместная жизнь в мире, согласии, без измен. В наше время —увы! — жены большей частью выказывают свои неустанные заботы и всю силусвоей привязанности к мужьям, когда тех уже нет в живых; по крайней мереименно тогда жены стараются доказать свою любовь. Что и говорить —запоздалые, несвоевременные доказательства! Жены скорее, пожалуй, доказываютэтим, что любят своих мужей мертвыми. Жизнь была наполнена пламенемраздоров, а смерть — любовью и уважением. Подобно тому как родители нередкотаят любовь к детям, так и жены часто скрывают свою любовь к мужьям,соблюдая светскую пристойность. Эта скрытность не в моем вкусе: такие женымогут сколько угодно неистовствовать и рвать на себе волосы, я же в такомслучае спрашиваю какую-нибудь горничную или секретаря: «Как они относилисьдруг к другу? Как они жили друг с другом?» Я всегда припоминаю по этомуповоду чудесное изречение: iactantius maerent, quae minus dolent [1]. Ихотчаяние противно живым и не нужно мертвым. Мы не против того, чтобы онирадовались после нас, лишь бы они радовались вместе с нами при нашей жизни.Можно просто воскреснуть от досады, если та, кому наплевать было на меня прижизни, готова чесать мне пятки, когда я только-только испустил дух. Если,оплакивая мужей, жены проявляют благородство, то право на него принадлежиттолько тем, которые улыбались им при жизни; но жены, которые, живя с нами,грустили, пусть радуются после нашей смерти, пусть будет у них на лице тоже, что и в душе. Поэтому не обращайте внимания на их полные слез глаза ижалобный голос: смотрите лучше на горделивую поступь, на цвет лица иокруглившиеся щеки под траурным покрывалом: эти вещи раскроют вам гораздобольше, чем любые слова. Многие из них, овдовев, начинают расцветать, —разве это не безошибочный показатель их самочувствия? Они блюдутустановленные для вдов приличия не из уважения к прошлому, а в расчете нато, что их ждет: это — не уплата долга, а накопление для будущего. В днимоего детства некая почтенная и очень красивая дама, которая и сейчас ещежива, вдова одного принца, носила больше драгоценностей, чем положено понашим обычаям для вдов. Когда ее упрекнули в этом, она ответила: «По ведь яне завожу больше новых привязанностей и не собираюсь вновь выходить замуж».
Не желая идти вразрез с принятым у нас обычаем, я расскажу здесь лишь отрех женах, вся глубина любви и доброты которых по отношению к их мужьямтоже проявилась в момент смерти последних; однако эти примеры несколькоотличны от приведенных: здесь имели место крайние обстоятельства и женщиныпожертвовали своей жизнью.
У Плиния Младшего [2], около одной его усадьбы в Италии, был сосед,который невероятно страдал от гнойных язв, покрывавших его половые органы.Жена его, видя долгие и непрестанные мучения своего мужа, попросила, чтобыон позволил ей самой осмотреть его, говоря, что никто откровеннее ее нескажет ему, есть ли надежда. Получив согласие мужа и внимательно осмотревего, она нашла, что надежды на выздоровление нет и что ему предстоит ещедолго влачить мучительное существование. Во избежание этого она посоветовалаему вернейшее и лучшее средство — покончить с собой. Но, видя, что у него нехватает духу для такого решительного поступка, она прибавила: «Не думай,друг мой, что твои страдания терзают меня меньше, чем тебя; чтобы избавитьсяот них, я хочу испытать на себе то самое лекарство, которое я тебепредлагаю. Я хочу быть вместе с тобой при твоем выздоровлении, так же какбыла вместе с тобой в течение всей твоей болезни. Отрешись от страха смертии думай о том, каким благом будет для нас этот переход, который избавит насот нестерпимых страданий: мы уйдем вместе, счастливые, из этой жизни».Сказав это и подбодрив своего мужа, она решила, что они выбросятся в море изокна своего дома, расположенного у самого берега. И желая, чтобы муж ее допоследней минуты был окружен той преданной и страстной любовью, какою онадарила его в течение всей жизни, она захотела, чтобы он умер в ее объятиях.Однако боясь, чтобы руки его при падении и от страха не ослабели и неразомкнулись, она плотно привязала себя к нему и рассталась с жизнью радитого, чтобы положить конец страданиям своего мужа.
Это была женщина совсем простого звания, но именно среди простых людейнередко можно встретить проявления необыкновенного благородства:
- extrema per illos
- Iustitia excedens terris vestigia fecit. [3]
Две другие женщины, о которых я собираюсь рассказать, были богатые изнатного происхождения, а среди таких людей примеры доблести — редчайшееявление.
Аррия, жена консула Цецины Пета, была матерью Аррии младшей, жены тогосамого Тразеи Пета, что прославился своей добродетелью во времена Перона, ачерез этого своего зятя Аррия старшая была бабкой Фаннии (одинаковые имена уэтих двух жен и двух мужей, а также сходная их судьба привели к тому, чтомногие потом их смешивали) [4]. Аррия старшая, когда ее муж, Цецина Пет, былзахвачен солдатами императора Клавдия после гибели Скрибониана [5](сторонником которого он был), стала умолять тех, кто увозил его в Рим,позволить ей ехать вместе с ним. Она будет стоить им дешевле — убеждалаАррия солдат — и будет меньшей помехой, чем рабы, которые понадобятся им дляобслуживания ее мужа, ибо она одна будет убирать его комнату, стряпать иисполнять все другие обязанности. Но ей было отказано. Тогда она, не медля,наняла рыбачье суденышко и на нем последовала за мужем от самой Иллирии.Однажды, когда они были уже в Риме, в присутствии императора Клавдия, Юния,вдова Скрибониана, приблизилась к ней с выражением дружеского участия ввидуобщности их судеб, но Аррия резко отстранила ее от себя со словами: «И тыхочешь, — сказала она, — чтобы я говорила с тобой или стала тебя слушать? Утебя на груди убили Скрибониана, а ты все еще живешь?» Из этих слов Аррии,так же как из многих других признаков, родные ее заключили, что оназамышляет самоубийство и стремится разделить судьбу своего мужа. Ее зять,Тразея, умоляя ее не губить себя, сказал ей: «Если бы меня постигла такая жеучасть, как и Цецину, то разве ты захотела бы, чтобы моя жена — твоя дочь —покончила с собой?» — «Что ты сказал! — воскликнула Аррия. — Захотела ли быя? Да, да, безусловно захотела бы, если бы она прожила с тобой такую жедолгую жизнь и в таком же согласии, как я со своим мужем». Ответ этот усилилбдительность ее близких, которые стали внимательно следить за каждым еешагом. Однажды она сказала тем, кто ее стерег: «Это ни к чему: вы добьетесьлишь того, что я умру более мучительной смертью, но добиться, чтобы я неумерла, вы не сможете». С этими словами она вскочила со стула, на которомсидела, и со всего размаху ударилась головой о противоположную стену. Когдапосле долгого обморока ее, тяжело раненную, с величайшим трудом привели вчувство, она сказала: «Я говорила вам, что если вы лишите меня возможностилегко уйти из жизни, я выберу любой другой путь, каким бы трудным он ниоказался».
Смерть этой благородной женщины была такова. У ее мужа Пета не хваталомужества самому лишить себя жизни, как того требовал приговор, вынесенныйему жестоким императором. Однажды Аррия, убеждая своего мужа покончить ссобой, сначала обратилась к нему с разными увещаниями, затем выхватилакинжал, который носил при себе ее муж и, держа его обнаженным в руке, взаключение своих уговоров промолвила: «Сделай, Пет, вот так». В тот же мигона нанесла себе смертельный удар в живот и, выдернув кинжал из раны, подалаего мужу, закончив свою жизнь следующими благороднейшими и бессмертнымисловами: Paete, non dolet [6]. Она успела произнести только эти трикоротких, но бесценных по своему значению слова: «Пет, это вовсе не больно» [7]:
- Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto
- Quem de visceribus traxerat ipsa suis:
- Si qua fides, vulnus quod feci, non dolet, inquit;
- Sed quod tu facies, id mihi, Paete, dolet. [8]
Слова Аррии в тексте Плиния производят еще более глубокое впечатление иеще более значительны. И правда, нужно было обладать беззаветным мужеством,чтобы нанести смертельную рану себе и побудить сделать то же самое мужа, но,чего бы это ей ни стоило, тут она была и побудителем и советчиком; однакосамое замечательное в другом. Совершив этот высокий и смелый подвигединственно ради блага своего мужа, она до последнего своего вздоха былапреисполнена заботы о нем и, умирая, жаждала избавить его от страхапоследовать за ней. Пет, не раздумывая, убил себя тем же кинжалом; мнекажется, он устыдился того, что ему понадобился такой дорогой, такойневознаградимый урок.
Помпея Паулина, молодая и весьма знатная римская матрона, вышла замужза Сенеку, когда тот был уже очень стар [9]. В один прекрасный деньвоспитанник Сенеки, Нерон, послал своих приспешников объявить ему, что оносужден на смерть; делалось это так: когда римские императоры того времениприговаривали к смерти какого-нибудь знатного человека, они предлагали емучерез своих посланцев выбрать по своему усмотрению ту или иную смерть ипредоставляли для этого определенный срок, иногда очень короткий, а иной разболее длительный, сообразно степени их немилости. Осужденный имел такимобразом иногда возможность привести за это время в порядок свои дела, ноиной раз за краткостью срока не в состоянии был этого сделать; если жеприговоренный не повиновался приказу, императорские слуги присылали длявыполнения его своих людей, которые перерезали осужденному вены на руках ина ногах или же насильно заставляли его принять яд; однако люди благородныене дожидались такой крайности и прибегали к услугам своих собственных врачейи хирургов. Сенека спокойно и уверенно выслушал сообщенный ему приказ ипопросил бумаги, чтобы составить завещание. Когда центурион отказал ему вэтом, Сенека обратился к своим друзьям со следующими словами: «Так как ялишен возможности отблагодарить вас по заслугам, то оставляю вамединственное, но лучшее что у меня есть, — память о моей жизни и нравах;если вы исполните мою просьбу и сохраните воспоминание о них, вы приобрететеславу настоящих и преданных друзей». Вместе с тем, стараясь облегчитьстрадания, которые он читал на их лицах, он обращался к ним то с ласковойречью, то со строгостью, чтобы придать им твердость, и спрашивал у них: «Гдеже те прекрасные философские правила, которых мы придерживались? Гдерешимость бороться с превратностями судьбы, которые мы столько лет сносили?Разве мы не знали о жестокости Нерона? Чего можно было ждать от того, ктоубил родную мать и брата? Разве ему не оставалось только прибавить к этомунасильственную смерть своего наставника и воспитателя?» Сказав это, онобратился к жене и, крепко обняв ее, — так как, подавленная горем, онатеряла и душевные, и телесные силы — стал умолять ее, чтобы она из любви кнему стойко перенесла удар. «Настал час, — сказал он, — когда надо показатьне на словах, а на деле, какое поучение я извлек из моих философскихзанятий: не может быть сомнений, что я без малейшей горечи, а наоборот, срадостью встречу смерть». «Поэтому, друг мой, — утешал он жену, — не омрачайее своими слезами, чтобы не сказали о тебе, что ты больше думаешь о себе,чем о моей доброй славе. Победи свою скорбь и найди утешение в том, что тызнала меня и мои дела; постарайся провести остаток своих дней в благородныхзанятиях, к которым ты так склонна». В ответ на это Паулина, собравшисьнемного с силами и укрепив свой дух благороднейшей любовью к мужу, сказала:«Нет, Сенека, я не могу оставить тебя в смертный час, я не хочу, чтобы тыподумал, что доблестные примеры, которые ты показал мне в своей жизни, ненаучили меня умереть как подобает; как смогу я доказать это лучше,чистосердечнее и добровольнее, чем окончив жизнь вместе с тобой?» ТогдаСенека, не противясь столь благородному и мужественному решению своей жены иопасаясь оставить ее после своей смерти на произвол жестокости своих врагов,сказал: «Я дал тебе, Паулина, совет, как тебе провести более счастливо твоидни, но ты предпочитаешь доблестную кончину; я не стану оспаривать этойчести. Пусть твердость и мужество перед лицом смерти у нас одинаковы, но утебя больше величия славы». Вслед за тем им обоим одновременно вскрыли венына руках, но так как у Сенеки они были сужены и из-за возраста его, и из-заобщего истощения, то он, очень медленно и долго истекая кровью, приказал,чтобы ему еще перерезали вены на ногах. Опасаясь, чтобы его муки не ослабилидух его жены, а также желая избавить самого себя от необходимости видеть еев таком ужасном состоянии, он, с величайшей нежностью простившись с ней,попросил, чтобы она позволила перенести ее в соседнюю комнату, что и былоисполнено. Но так как и вскрытие вен на ногах не принесло ему немедленнойсмерти, то Сенека попросил своего врача Стачия Аннея дать ему яд. Однакотело его до такой степени окоченело, что яд не подействовал. Поэтомупришлось еще приготовить ему горячую ванну, погрузившись в которую онпочувствовал, что конец его близок. Но до последнего своего вздоха онпродолжал излагать исполненные глубочайшего значения мысли о своемпредсмертном часе. Находившиеся при нем секретари старались записать все,что в состоянии были расслышать, и долгое время после смерти Сенеки этизаписи сказанных им в последний час слов ходили по рукам и пользовалисьвеличайшим почетом среди его современников. (Какая огромная потеря, что онине дошли до нас!) Почувствовав приближение кончины, Сенека, зачерпнувладонью смешавшейся с кровью воды и оросив ею голову, сказал, что совершаетэтой водой возлияние Юпитеру Избавителю. Нерон, узнав обо всем этом иопасаясь, чтобы ему не поставили в вину смерть Паулины, которая принадлежалак именитейшему римскому роду и к которой он не питал особой вражды, приказалсрочно перевязать ей раны, что и было исполнено его посланцами без ееведома, ибо она была без чувств и наполовину мертвая. Оставшись, вопрекисвоему намерению, в живых, она вела жизнь похвальную, вполне достойную еедобродетели, а навсегда сохранившаяся бледность ее лица доказывала, какмного жизненных сил она потеряла, истекая кровью.
Вот три истинных происшествия, которые я хотел рассказать и которые янахожу не менее увлекательными и трагическими, чем все то, что мы пообязанности измышляем для развлечения публики. Меня удивляет, что те, ктозанимается этим, не предпочитают черпать тысячи таких замечательныхпроисшествий из книг: это стоило бы им меньших усилий и приносило бы большепользы и удовольствия. Тот, кто захотел бы создать из них единое идолговечное произведение, должен был бы со своей стороны только связать искрепить их, как спаивают один металл с помощью другого. Подобным образомможно было бы соединить воедино множество истинных событий, разнообразя их ирасполагая так, чтобы от этого красота всего произведения в целом тольковыиграла, как, например, поступил Овидий, использовавший в своих«Метаморфозах» множество прекрасных сказаний.
В истории этой четы — Сенеки и Паулины — достойно внимания еще и то,что Паулина охотно готова была расстаться с жизнью из любви к мужу, подобнотому как Сенека в свое время из любви к ней отверг мысль о смерти. Нам можетпоказаться, что расплата со стороны Сенеки была не так уж велика, но, верныйсвоим стоическим принципам, он, я думаю, полагал, что сделал для нее неменьше, оставшись в живых, чем если бы умер ради нее. В одном из своих писемк Луцилию [10] Сенека сообщает, что, находясь в Риме и почувствовав приступлихорадки, он тотчас же сел на колесницу и направился в один из своихзагородных домов, вопреки настояниям жены, пытавшейся удержать его. Сенекапостарался уверить ее, что лихорадка гнездится не в его теле, а в Риме.Вслед за тем Сенека пишет в упомянутом письме: «Она отпустила меня,строжайше наказав мне заботиться о моем здоровье. И вот, так как я знаю, чтоее жизнь зависит от моей, я начинаю заботиться о себе, заботясь тем самым оней. Я отказываюсь от преимущества, которое дает мне моя старость,закалившая меня и научившая переносить многое, всякий раз, когда вспоминаю,что с этим старцем связана молодая жизнь, предоставленная моим заботам. Таккак я не могу заставить ее любить меня более мужественно, то мне приходитсязаботиться о себе как можно лучше: ведь надо же расплачиваться за глубокиепривязанности, и, хотя в некоторых случаях обстоятельства внушают нам совсеминое, приходится призывать к себе жизнь, как она ни мучительна, приходитсяпринимать ее, стиснув зубы, ибо закон велит порядочным людям жить не так,как хочется, а повинуясь долгу. Кто не настолько любит свою жену или друга,чтобы быть готовым ради них продлить свою жизнь, и упорствует в стремленииумереть, тот слишком изнежен и слаб. Наше сердце должно уметь принуждатьсебя к жизни, если это необходимо для блага наших близких, нужно иногдаполностью отдаваться друзьям и ради них отказываться от смерти, которой мыхотели бы для себя. Оставаться в живых ради других — это доказательствовеликой силы духа, как об этом свидетельствует пример многих выдающихсялюдей; исключительное великодушие в том, чтобы стараться продлить своюстарость (величайшее преимущество которой в том, что можно не заботиться опродлении своего существования и жить, ничего не боясь и ничего не щадя),если знаешь, что это является радостью, счастьем и необходимостью для того,кто глубоко тебя любит. И как же велика награда за это, — ибо есть ли насвете большее счастье, чем представлять для своей жены такую ценность, чтотебе приходится дорожить и собой. Наказав мне заботиться о себе, моя Паулинане только передала мне свой страх за меня, но и усугубила мой собственный. Яне мог больше думать о том, чтобы умереть с твердостью, а должен был думатьо том, как невыносимо будет для нее это страдание. И я подчинилсянеобходимости жить, ибо величие души иногда в том, чтобы предпочесть жизнь».Таковы слова Сенеки, столь же замечательные, как и его деяния.
Глава XXXVI
О трех самых выдающихся людях
Если бы меня попросили произвести выбор среди всех известных мне людей,я, мне кажется, счел бы наиболее выдающимися следующих трех человек.
Первый из них — Гомер; и не потому, чтобы Аристотель или, к примеру,Варрон были менее знающими, чем он, или чтобы с его искусством нельзя былосравнить, скажем, искусство Вергилия. Я не берусь этого решать ипредоставляю судить тем, кто знает и того, и другого. Мне доступен толькоодин из них, и я, в меру отпущенного мне понимания в этом деле, могу лишьсказать, что, по-моему, вряд ли даже сами музы превзошли бы римского поэта:
- Tale facit carmen docta testudine quale
- Cynthius impositis temperat articulis. [1]
Однако же при этом сопоставлении, следует помнить, что своимсовершенством Вергилий больше всего обязан Гомеру; именно Гомер является егоруководителем и наставником, и самый замысел «Илиады» послужил образцом,давшим жизнь и бытие непревзойденной и божественной «Энеиде». Но для меня вГомере важно не это, мне Гомер представляется существом исключительным,каким-то сверхчеловеком по другим причинам. По правде говоря, я нередкоудивляюсь, как этот человек, который сумел своим авторитетом создать такоемножество богов и обеспечить им признание, не сделался богом сам. Слепойбедняк, живший во времена, когда не существовало еще правил науки и точныхнаблюдений, он в такой мере владел всем этим, что был с тех пор для всехзаконодателей, полководцев и писателей — чего бы они ни касались: религии,философии со всеми ее течениями или искусства, — неисчерпаемым кладеземпознаний, а его книги — источником вдохновения для всех:
- Quidquid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,
- Plenius ac melius Chrisippo ac Crantore dicit; [2]
или, как утверждает другой поэт:
- А quo, ceu fonte perenni
- Vatum Pieriis labra rigantur aquis; [3]
или, как выражается третий:
- Adde Heliconiadum comites, quorum unus Homerus
- Astra potitus; [4]
или, как заявляет четвертый:
- cuiusque ex ore profuso
- Omnis posteritas latices in carmina duxit,
- Amnemque in tenues ausa est deducere rivos,
- Unius foecunda bonis. [5]
Созданные им самые замечательные в мире произведения не укладываются нив какие привычные рамки и почти противоестественны; ибо, как правило, вещи вмомент их возникновения несовершенны, они улучшаются и крепнут по мерероста, Гомер же сделал поэзию и многие другие науки зрелыми, совершенными изаконченными с самого их появления. На этом основании его следует назватьпервым и последним поэтом, так как, согласно справедливому, сложившемуся онем в древности изречению, у Гомера не было предшественников, которым он могбы подражать, но не было зато и таких преемников, которые оказались бы всилах подражать ему. По мнению Аристотеля [6], слова Гомера — единственныеслова, наделенные движением и действием, исключительные по значительностислова. Александр Великий, найдя среди оставленных Дарием вещей драгоценныйларец, взял этот ларец и приказал положить в него принадлежавший ему личносписок поэм Гомера, говоря, что это его лучший и вернейший советчик во всехвоенных предприятиях [7]. На том же основании сын Александрида, Клеомен,утверждал, что Гомер — поэт лакедемонян, так как он наилучший наставник ввоенном деле [8]. По мнению Плутарха, Гомеру принадлежит та редчайшая иисключительная заслуга, что он единственный в мире автор, который никогда неприедался и не надоедал людям, а всегда поворачивался к ним неожиданнойстороной, всегда очаровывая их новой прелестью. Беспутный Алкивиад попросилнекогда у одного писателя какое-то из сочинений Гомера и влепил ему оплеуху,узнав, что у писателя его нет [9]; это все равно, как если бы укакого-нибудь нашего священника не оказалось молитвенника. Ксенофан однаждыпожаловался сиракузскому тирану Гиерону на свою бедность, которая доходиладо того, что он не в состоянии был прокормить двух своих слуг. «А тыпосмотри, — ответил ему Гиерон, — на Гомера, который, хоть и был во многораз беднее тебя, однако же и по сей день, лежа в могиле, питает десяткитысяч людей» [10].
А что иное означали слова Панэция, когда он назвал Платона Гомеромфилософов [11]? Какая слава может сравниться со славой Гомера? Ничто неживет в устах людей такой полной жизнью, как его имя и его произведения,ничего не любят они так и не знают так, как Трою, прекрасную Елену и войныиз-за нее, которых, может быть, на самом деле и не было. До сих пор мы даемсвоим детям имена, сочиненные им свыше трех тысяч лет назад. Кто не знаетГектора и Ахилла? Не отдельные только нации, а большинство народов стараетсявывести свое происхождение, опираясь на его вымыслы. Разве не писал турецкийсултан Мехмед II папе Пию II [12]: «Я поражаюсь, почему сговариваются иобъединяются против меня итальянцы? Разве мы не происходим от одних и тех жетроянцев и не у меня ли та же цель, что и у них, — отомстить за кровьГектора грекам, которых они натравливают на меня?» Разве не грандиозенспектакль, в котором цари, республиканские деятели и императоры в течениестольких веков стараются играть гомеровские роли? И не является ли аренойэтого представления весь мир? Семь греческих городов оспаривали друг у другаправо считаться местом его рождения; так, даже самая невыясненность егобиографии служит к вящей славе его.
- Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenae. [13]
Вторым наиболее выдающимся человеком является, на мой взгляд, АлександрМакедонский. Если учесть, в каком раннем возрасте он начал совершать своиподвиги, с какими скромными средствами он осуществил свой грандиозный план,каким авторитетом он с отроческих лет пользовался у крупнейших и опытнейшихполководцев всего мира, старавшихся подражать ему; если вспомнитьнеобычайную удачу, сопутствовавшую стольким его рискованным — чтобы несказать безрассудным — походам, —
- impellens quicquid sibi summa petenti
- Obstaret, gaudensque viam fecisse ruina; [14] —
если принять во внимание, что в возрасте тридцати трех лет он прошелпобедителем по всей обитаемой вселенной и за полжизни достиг такого полногорасцвета своих дарований, что в дальнейшие годы ему нечего было прибавить нив смысле доблести, ни в смысле удач, — то нельзя не признать, что в нем былонечто сверхчеловеческое. Его воины положили начало многим царским династиям,а сам он оставил после себя мир поделенным между четырьмя своимипреемниками, простыми военачальниками его армии, потомки которых напротяжении многих лет удерживали затем под своей властью эту огромнуюимперию. А сколько было в нем выдающихся качеств: справедливости, выдержки,щедрости, верности данному им слову, любви к ближним, человеколюбия поотношению к побежденным. Его поступки и впрямь кажутся безупречными, если несчитать некоторых, очень немногих из них, необычных и исключительных. Новедь невозможно творить столь великие дела, придерживаясь обычных рамоксправедливости! О таких людях приходится судить по всей совокупности их дел,по той высшей цели, которую они себе поставили. Разрушение Фив, убийствоМенандра и врача Гефестиона, одновременное истребление множества персидскихпленников и целого отряда индийских солдат в нарушение данного им слова,поголовное уничтожение жителей Коссы вплоть до малых детей — все это,разумеется, вещи непростительные. В случае же с Клитом [15] поступокАлександра был искуплен — и даже в большей мере, чем это было необходимо, —что, как и многое другое, свидетельствует о благодушном нраве Александра, отом, что это была натура, глубоко склонная к добру, и потому как нельзяболее верно было о нем сказано, что добродетели его коренились в егоприроде, а пороки зависели от случая. Что же касается его небольшой слабостик хвастовству или нетерпимости к отрицательным отзывам о себе, или убийств,хищений, опустошений, которые он производил в Индии, то все это, на мойвзгляд, следует объяснять его молодостью и головокружительными успехами.Нельзя не признать его поразительных военных талантов, быстроты,предусмотрительности, дисциплинированности, проницательности, великодушия,решимости, удачливости и везения. Даже если бы мы не знали авторитетногомнения Ганнибала на этот счет, то должны были бы признать, что во всем этомАлександру принадлежит первое место. Нельзя не отметить его редчайшихспособностей и одаренности, почти граничащей с чудом; его горделивой осанкии всей его благороднейшей повадки при столь юном, румяном и бросающемся вглаза лице:
- Qualis, ubi Oceani perfusus lucifer unda,
- Quem Venus ante alios astrorum diligit ignes,
- Extulit os sacrum caelo, tenebrasque resolvit. [16]
Нельзя не оценить его огромных познаний, его незабываемой в векахславы, чистой, без единого пятнышка, безупречной, недоступной для зависти,славы, в силу которой еще много лет спустя после его смерти людиблагоговейно верили, что медали с его изображением приносят счастье тем, ктоих носит. Ни об одном государе историки не написали столько, сколько самигосудари написали о его подвигах. Еще до настоящего времени магометане, спрезрением отвергающие историю других народов, в виде особого исключенияпринимают и почитают единственно историю его жизни и деяний [17]. Ктовспомнит обо всем этом, должен будет согласиться, что я был прав, поставивАлександра Македонского даже выше Цезаря, единственного человека,относительно которого я мог на минуту заколебаться при выборе. Нельзяотрицать, что в деяния Цезаря вложено больше личных дарований, ноудачливости было несомненно больше в подвигах Александра. Во многихотношениях они не уступали друг другу, а в некоторых Цезарь даже превосходилАлександра.
Оба они были подобно пламени или двум бурным потокам, с разных сторонринувшимся на вселенную:
- Et velut immissi diversis partibus ignes
- Arentem in silvam et virgulta sonantia lauro;
- Aut ubi decursu rapido de montibus altis
- Dant sonitum spumosi amnes et in aequora currunt,
- Quisque suum populatus iter. [18]
И хотя честолюбие Цезаря было более умеренным, но оно являлось роковымв том смысле, что совпало с развалом его родины и общим ухудшениемтогдашнего мирового положения; таким образом, собрав все воедино и взвесив,я не могу не отдать пальмы первенства Александру.
Третьим и наиболее, на мой взгляд, выдающимся человеком являетсяЭпаминонд [19].
Он далеко не пользовался той славой, которая выпала на долю многимдругим (но слава и не является решающим обстоятельством в этом деле); что жекасается отваги и решимости — не тех, которые подстрекаются честолюбием, апорождаемых в добропорядочном человеке знанием и умом, — то нельзяпредставить себе, чтобы кто-либо обладал ими в более полной мере. Эпаминондвыказал, на мой взгляд, не меньше отваги и решимости, чем Александр иЦезарь, ибо, хотя его военные подвиги и не столь многочисленны и не такрасписаны, как подвиги Александра и Цезаря, однако, если вникнуть во всеобстоятельства, они были не менее сложны и трудны и требовали не меньшейсмелости и военных талантов. Греки воздали ему должное, единодушно признав,что ему принадлежит первое место среди его соотечественников [20]; но бытьпервым среди греков без преувеличения значит занимать первое место в мире.Что касается его знаний и способностей, то до нас дошло древнее суждение,гласящее, что ни один человек не знал больше и не говорил меньше его, ибо онбыл по убеждениям своим пифагорейцем [21].
Но то, что Эпаминонд говорил, никто не мог сказать лучше его. Он былвыдающийся оратор, умевший убеждать своих слушателей.
По части морали он далеко превосходил всех государственных деятелей.Именно в этом отношении, которое должно считаться важнейшим ипервостепенным, — ибо только по нему мы можем судить, каков человек (ипотому эта сторона перевешивает, по-моему, все остальные достоинства, вместевзятые) — Эпаминонд не уступает ни одному философу, даже самому Сократу.