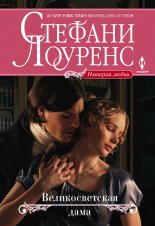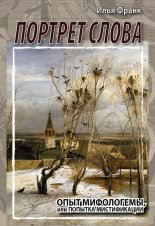Опыты Монтень Мишель

Ибо какое другое оправдание этому мог бы я подыскать? Хватит с милыхдам и того, что они умеют без нашей помощи придавать своим глазам прелестьвеселости, нежности и суровости, вкладывать в свое «нет» строгость,колебание и благосклонность и понимают без толмача страстные речи,обращенные к ним их поклонниками. Владея этой наукой, они повелевают всеммиром, и выходит, что ученицы властвуют над своими учителями со всей ихученостью. Если им неприятно уступать нам хоть в чем-нибудь и любопытствотолкает их к книгам, то самое подходящее для себя развлечение они могутнайти в поэзии: это искусство лукавое и проказливое, многоликое, говорливое,все в нем тянется к наслаждению, все показное, короче говоря, оно такое же,как они. Наши дамы извлекут много полезного и из истории. В философии, в томразделе ее, где рассматриваются различные стороны жизни, они найдутрассуждения, которые научат их разбираться в наших нравах и душевныхсклонностях, препятствовать нашим изменам, умерять дерзость своих желаний,оберегать свою свободу от посягательств, продлевать радость жизни, сдостоинством переносить непостоянство поклонника, грубость мужа и докучноебремя лет и морщин и многим другим тому подобным вещам.
Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимые, ушедшиецеликом в себя. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание — общатьсяс людьми и созидать. Я весь обращен к внешнему миру, весь на виду и рождендля общества и для дружбы. Уединение, которое я люблю и которое проповедую,состоит, главным образом, в переносе моих привязанностей и мыслей на себясамого и в ограничении и сокращении не только моих усилий, но и моих забот ижеланий; достигается это тем, что я слагаю с себя попечение о ком-либо,кроме как о себе, и бегу, словно от смерти, от порабощения и обязательств, ине столько от сонма людей, сколько от сонма обступающих меня дел. Что жекасается физического уединения, то есть пребывания в одиночестве, то оно,должен признаться, скорее раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводяменя за пределы моего «я», и никогда я с большей охотой не погружаюсь врассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наединесам с собой. В Лувре и среди толпы [15] я внутренне съеживаюсь и забиваюсь всвою скорлупу; толпа заставляет меня замыкаться в себе, и нигде я не беседуюсам с собой так безудержно и откровенно, с таким увлечением, как в местах,требующих от нас сугубой почтительности и церемонного благоразумия. Нашиглупости не вызывают у меня смеха, его вызывает наше высокомудрие. По своемунраву я не враг придворной сумятицы; я провел в самой гуще ее часть моейжизни и, можно сказать, создан для веселого времяпровождения в многолюдныхсобраниях, но при условии, чтобы они не были непрерывными и происходили вугодный для меня час. Однако повышенная раздражимость ума, которую я в себеотмечаю, обрекает меня на вечное уединение даже в кругу семьи и средимногочисленных слуг и навещающих меня посетителей, ибо мой дом принадлежит кчислу весьма посещаемых. Я вижу вокруг себя достаточно много народа, но лишьизредка тех, с кем мне приятно общаться; вопреки принятому обыкновению япредоставляю как себе самому, так и всем остальным неограниченную свободу. Яне терплю церемоний — постоянной опеки гостя, проводов и прочих правил,налагаемых на нас нашей обременительной учтивостью (о подлый и несносныйобычай!); всякий волен располагать собой по своему усмотрению, и ктопожелает, тот углубляется в свои мысли; я нем, задумчив и замкнут, и этонисколько не обижает моих гостей.
Люди, общества и дружбы которых я постоянно ищу, — это так называемыепорядочные и неглупые люди; их душевный склад настолько мне по душе, чтоотвращает от всех остальных. Среди всего многообразия характеров такой, всущности говоря, наиболее редок; это — характер, созданный в основном,природой. Для подобных людей цель общения — быть между собой на короткойноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями; это —соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любыетемы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и важны;ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелыхи твердых суждений, все дышит добросердечием, искренностью, живостью идружелюбием. Не только в разговорах о новых законах наш дух раскрывает своюсилу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; онраскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.
Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке иуспешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале совета. Гиппомахутверждал, что, встречая на улице хороших борцов, он узнавал их по однойпоходке [16]. Если ученость изъявляет желание принять участие в нашихдружеских разговорах, мы отнюдь не отвергаем ее — разумеется, при условии,что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, апроявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошопровести время — большего мы не ищем; когда же настанет наш час выслушать еепоучения и наставления, мы благоговейно припадем к ее трону. А пока пустьона снизойдет до нашего уровня, если захочет, ибо сколь бы полезной ижелательной она ни была, я заранее убежден, что мы сможем при случае отличнообойтись без нее и сделаем свое дело, не прибегая к ее услугам. Благороднаяи повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука —не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами.
Сладостно мне общаться также с красивыми благонравными женщинами. Namnos quoque oculos eruditos habemus [17]. Если душа в этом случае наслаждается много меньше, чем впредыдущем, удовольствия наших органов чувств, которые при втором видеобщения гораздо острее, делают его почти таким же приятным, как и первый,хотя, по-моему, все же не уравнивают с ним. Но это общение таково, что тутвсегда нужно быть несколько настороже, и особенно людям вроде меня, надкоторыми плоть имеет большую власть. В ранней юности я пылал от этого, как вогне, и мне хорошо знакомы приступы неистовой страсти, которые, какрассказывают поэты, нападают порою на тех, кто не желает налагать на себяузду и не слушается велений рассудка. Правда, эти удары бича послужили мневпоследствии хорошим уроком,
- Quicunque Argolica de classe Capharea fugit,
- Semper ab Euboicis vela retorquet aquis. [18]
Безрассудно отдавать этому все свои помыслы и вкладывать в отношения сженщинами безудержное и безграничное чувство. Но с другой стороны,домогаться их без влюбленности и влечения сердца, уподобляясь актерам насцене, исключительно для того, чтобы играть модную в наше время изакрепленную обычаем роль, и не вносить в нее ничего своего, кроме слов,означает предусмотрительно оберегать свою безопасность, делая это, однако,крайне трусливо, как тот, кто готов отказаться от своей чести, своей выгодыили своего удовольствия из страха перед опасностью; ведь давно установлено,что подобное поведение не может дать человеку ничего, что бы тронуло илиусладило благородную душу. Нужно по-настоящему жаждать тех удовольствий,которыми хочешь по-настоящему наслаждаться: я имею в виду тот случай, когдасудьба, вопреки справедливости, благоприятствует мужскому лицемерию, а этобывает достаточно часто, ибо нет такой женщины, сколь бы нескладной она нибыла, которая не мнила бы себя достойной любви и не обладала бы обаяниемюности, или улыбки, или телодвижений, ибо совершенных дурнушек между ними небольше, чем безупречных красавиц, и дочери брахманов, если они начистолишены привлекательности, выходят на площадь к народу, собранному для этогокриками городского глашатая, и выставляют напоказ свои детородные части,дабы попытаться хотя бы таким путем добыть себе мужа.
По этой причине нет такой женщины, которая не поверила бы с легкостьюпервой же клятве своего поклонника.
За этим общераспространенным и привычным для нашего века мужскимвероломством не может не следовать то, что уже ощущается нами на опыте, аименно, что женщины теснее сплачиваются между собой и замыкаются в себе илив своем кругу, дабы избегать общения с нами, или, подражая примеру, которыймы им подаем, в свою очередь лицедействуют и идут на такую сделку безстрасти, без колебаний и без любви — neque affectui suo aut alieno obnoxiae [19], — считая, согласно утверждению Лисия у Платона [20], что они могутотдаваться нам с тем большей легкостью и выгодой для себя, чем меньше мы вних влюблены.
И все тут пойдет, как в комедии, причем зрители будут испытыватьстолько же удовольствия, — а то и немного побольше, — сколько сами актеры.
Что до меня, то на мой взгляд Венера без Купидона [21] так женевозможна, как материнство без деторождения, — это вещи взаимоопределяющиеи дополняющие друг друга. Таким образом, этот обман бьет в конечном итогетого, кто прибегает к нему. Правда, он ему ничего не стоит, но и не даетничего стоящего. Те, кто сотворил из Венеры богиню, немало пеклись о том,чтобы главное и основное в ее красоте было бестелесное и духовное; нолюбовь, за которой гоняются люди, не только не может быть названачеловеческой, ее нельзя назвать даже скотскою. Животных, и тех не влечеттакая низменная и земная любовь! Мы видим, что воображение и желаниезачастую распаляют и захватывают их прежде, чем разгорячится их тело; мывидим, как особи обоих полов отыскивают и выбирают в сумятице стада предметысвоей привязанности и что знаются между собою те, кто проявлял друг к другудлительную склонность. Даже те из них, у кого старость отняла их былуютелесную силу, и они также все еще продолжают дрожать, ржать и трепетать отлюбви. Мы видим, что перед совокуплением они полны упований и пыла, а когдаих плоть сделает свое дело, они горячат себя сладостными воспоминаниями; имы видим, что иных с той поры распирает гордость, а другие — усталые инасытившиеся — распевают песни победы и ликования. Кому требуется освободитьсвое тело от бремени естественной надобности и ничего больше не нужно, томунезачем угощать другого столь изысканными приправами: это не пища дляутоления лютого и не знающего удержу голода.
Нисколько не заботясь о том, чтобы обо мне думали лучше, чем каков я вдействительности, я расскажу нижеследующее о заблуждениях моей юности. Нетолько по причине существующей здесь опасности для здоровья (все же я несумел уберечь себя от двух легких и, так сказать, предварительныхприступов), но и вследствие своего рода брезгливости я никогда не имел охотысближаться с доступными и продажными женщинами. Я стремился усилить остротуэтого наслаждения, а ее придают ему трудности, неугасающее желание инемножко удовлетворенного мужского тщеславия; и мне нравилось вести себяподобно императору Тиберию [22], которого в его любовных делах в такой жемере воспламеняли скромность и знатность, как и все остальное, привлекающеенас в женщинах, и я одобрял разборчивость куртизанки Флоры [23],отдававшейся лишь тем, кто был никак не ниже, чем в ранге диктатора, консулаили цензора, и черпавшей для себя усладу в высоком звании своихвозлюбленных. Здесь, разумеется, кое-что значат и жемчуга, и парча, ититулы, и весь образ жизни. Впрочем, я отнюдь не пренебрегал духовнымикачествами, однако ж при том условии, чтобы и тело было, каким ему следуетбыть, ибо, по совести говоря, если бы оказалось, что надо обязательновыбирать между духовной и телесной красотой, я предпочел бы скореепренебречь красотою духовной: она нужна для других, лучших вещей; но еслидело идет о любви, той самой любви, которая теснее всего связана со зрениеми осязанием, то можно достигнуть кое-чего и без духовных прелестей, ноничего — без телесных.
Красота — и впрямь могучая сила женщин. Она в такой же мере присуща им,как и нам; и хотя наша красота требует несколько иных черт, все же в порусвоего цветения она мало чем отличается от их красоты: такая же отроческая —нежная и безбородая.
Говорят, что наложницы турецкого султана, услужающие ему своейкрасотой, — а их у него несметное множество — получают отставку самоебольшее в двадцать два года [24].
Разум, мудрость и дружеские привязанности чаще встречаются средимужчин; вот почему последние и вершат делами нашего мира.
Эти оба вида общения зависят от случая и от воли других. Общениепервого вида до того редко, что не может спасти от скуки; что же касаетсяобщения с женщинами, то оно с годами сходит на нет; таким образом, ни то, нидругое не смогло полностью удовлетворить потребности моей жизни. Общение скнигами — третье по счету — гораздо устойчивее и вполне в нашей власти. Оноуступает двум первым видам общения в ряде других преимуществ, но за негоговорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддерживать.
Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и яобщаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моемуединенном существовании. Они снимают с меня бремя докучной праздности и влюбой час дают мне возможность избавляться от неприятного общества. Онисмягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов ине подчиняет себе все остальное.
Чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли, мне достаточновзяться за чтение; оно легко завладевает моим вниманием и прогоняет ихпрочь. К тому же книги неизменно повинуются мне и не возмущаются тем, что яприбегаю к ним лишь тогда, когда не могу найти других развлечений — болеесущественных, живых и естественных; они всегда встречают меня с той жеприветливостью.
Принято говорить, что кто ведет под уздцы свою лошадь, тому идти пешком — одно удовольствие, и наш Иаков, король Неаполя и Сицилии, — красивый,молодой и здоровый, — заставлявший носить себя по стране на носилках, вкоторых он лежал на жалкой перине, облаченный в серый суконный плащ и такуюже шляпу, тогда как за ним следовала пышная королевская свита, состоявшая издворян и придворных, конными носилками и верховыми лошадьми всевозможныхпород, являл собою пример половинчатого и еще неустойчивого самоуничижения [25]: незачем жалеть хворого, если у него под рукой целительное лекарство.Проверка на опыте справедливости этого поразительно мудрого изречения — вот,в сущности, и вся польза, извлекаемая мною из книг. Я и впрямь обращаюсь кним почти так же часто, как те, кто их вовсе не знает. Я наслаждаюськнигами, как скупцы своими сокровищами, уверенный, что смогу насладитьсяими, когда пожелаю; моя душа насыщается и довольствуется таким правом наобладание. Я никогда не пускаюсь в путь, не захватив с собой книг, — ни вмирное время, ни на войне. И все же бывает, что я не заглядываю в них понескольку дней, а то и месяцев. «Вот, возьмусь сейчас, — говорю я себе, —или завтра, или когда я того пожелаю». Между тем, время бежит и несется, и яне замечаю его. Ибо нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю иуспокаиваюсь при мысли о том, что книги всегда рядом со мной, чтобыдоставить мне удовольствие, когда наступит мой час, и ясно сознавая,насколько они помогают мне жить. Они — наилучшее снаряжение, каким только ямог бы обзавестись для моего земного похода, и я крайне жалею людей,наделенных способностью мыслить и не запасшихся им. И развлечениям любогодругого рода, сколь бы незначительны они ни были, я предаюсь с тем большейохотой, что мои книги никуда от меня не уйдут.
Когда я дома, я немного чаще обращаюсь к моей библиотеке, в которой, ктому же, я отдаю распоряжения по хозяйству. Здесь я у самого въезда в мойзамок и вижу внизу под собой сад, птичник, двор и большую часть моего дома.Тут я листаю когда одну книгу, когда другую, без всякой последовательности иопределенных намерений, вразброд, как придется; то я предаюсь размышлениям,то заношу на бумагу или диктую, прохаживаясь взад и вперед, мои фантазиивроде этих.
Моя библиотека на третьем этаже башни. В первом — часовня, во втором —комната с примыкающей к ней каморкой, в которую я часто уединяюсь прилечьсреди дня. Наверху — просторная гардеробная. Помещение, в котором я держукниги, было в прошлом самым бесполезным во всем моем доме. Теперь я провожув нем большую часть дней в году и большую часть часов на протяжении дня.Ночью, однако, я тут никогда не бываю. Рядом с библиотекой есть довольноприличный и удобно устроенный нужник, который в зимнее время можноотапливать. И если бы я не страшился хлопот еще больше, чем трат, я мог былегко добавить с обеих сторон на одном уровне с библиотекой по галереедлиной в сто и шириной в двенадцать шагов, ибо стены для них, возведенные доменя в других целях, поднимаются до потребной мне высоты. Всякомупребывающему в уединении нужно располагать местом, где бы он могпрохаживаться.
Если я даю моим мыслям роздых, они сразу же погружаются в сон. Мой умцепенеет, если мои ноги его не взбадривают. Кто познает не только по книгам,те всегда таковы. Моя библиотека размещена в круглой комнате, и свободногопространства в ней ровно столько, сколько требуется для стола и кресла; у ееизогнутых дугой стен расставлены пятиярусные книжные полки, и куда бы я нивзглянул, отовсюду смотрят на меня мои книги. В ней три окна, из которыхоткрываются прекрасные и далекие виды, и она имеет шестнадцать шагов вдиаметре. Зимой я посещаю ее менее регулярно, ибо мой дом, как подсказываетего название, стоит на юру [26], и в нем не найти другой комнаты, столь жеоткрытой ветрам, как эта; но мне нравится в ней и то, что она не оченьудобна и находится на отлете, так как первое некоторым образом закаляетменя, а второе дает мне возможность ускользать от домашней сутолоки и суеты.
Это — мое пристанище. Я стремлюсь обеспечить за собой безраздельноевладение им и оградить его от каких бы то ни было посягательств со сторонытех, кто может притязать на него в силу супружеских, семейных илиобщественных отношений. Повсюду, кроме как в нем, власть моя в сущностиноминальна и стоит немногого. Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя домаместечка, где бы он был и впрямь у себя, где мог бы отдаться личным заботамо себе или укрыться от чужих взглядов! За тщеславие нужно расплачиватьсянемалыми жертвами, ибо тех, кто одержим этой страстью, она заставляет бытьвсегда на виду, точно они — статуя на рыночной площади: Magna servitus estmagna fortuna [27]. Дажеуединение не приносит им одиночества. В том суровом образе жизни, которомупредаются наши монахи, нет, на мой взгляд, ничего более тягостного, чемпорядок, ставший, как видно, правилом в некоторых орденах, — я имею в видупостоянное сожительство всех в одном месте и присутствие многих при любомдействии каждого из них. И я нахожу более предпочтительным пребывать всегдав одиночестве, чем не иметь возможности иногда остаться наедине с собоюсамим.
Кто заявляет, что видеть в музах только игрушку и прибегать к ним радизабавы означает унижать их достоинство, тот, в отличие от меня, очевидно, незнает действительной ценности удовольствия, игры и забавы. Я едва не сказал,что преследовать какие-либо другие цели при обращении к музам смешно. Я живусо дня на день и, говоря по совести, живу лишь для себя; мои намерениядальше этого не идут. В юности я учился, чтобы похваляться своей ученостью;затем — короткое время — чтобы набраться благоразумия; теперь — чтобы тешитьсебя хоть чем-нибудь; и никогда — ради прямой корысти. Пустое иразорительное влечение к домашней утвари этого рода — я говорю о книгах, —направленное не только на удовлетворение потребности в знаниях, но на тричетверти и на то, чтобы принарядиться и приукраситься в глазах окружающих —такое влечение я уже давно поборол.
Книги (для умеющих их выбирать) обладают многими приятными качествами;но не бывает добра без худа; этому удовольствию столь же не свойственнычистота и беспримесность, как и всем остальным; у книг есть свои недостатки,и притом очень существенные; читая, мы упражняем душу, но тело, которое ятакже не должен оставлять своими заботами, пребывает в это время вбездействии, расслабляется и поникает. Я не знаю излишеств, которые были быдля меня губительнее и которых на склоне лет мне следует избегать с большейстарательностью.
Вот три моих излюбленных и предпочитаемых всему остальному занятия. Яне упоминаю о тех, которыми я служу обществу во исполнение моегогражданского долга.
Глава IV
Об отвлечении
Однажды мне пришлось утешать одну и впрямь огорченную даму — ведь вбольшинстве случаев их горести искусственны и наигранны
- Uberibus semper lacrimis, semperque paratis
- In statione sua, atque expectantibus illam,
- Quo iubeat manare modo. [1]
Кто противодействует этой страсти, тот поступает весьма неразумно, ибопротиводействие лишь раздражает их и усиливает их печаль; заводя спор,только обостряешь их горе. Мы замечаем на примере наших повседневныхразговоров, что вздумай кто-нибудь возражать сказанному мной походя, тому,чему я сам не придавал никакого значения, я тотчас же становлюсь на дыбы ипринимаюсь пылко отстаивать каждое мое слово; и я делаю это еще болеегорячо, когда речь идет о вещах, которые для меня и в самом деле важны. Ипотом, действуя подобным образом, вы начинаете рубить с плеча, с грубойнеловкостью, а между тем врач, впервые приступая к лечению своего пациента,должен делать это изящно, весело и с приятностью для больного; и никогдабезобразный и хмурый врач не преуспевает в своем ремесле. Итак, напротив,сначала нужно помочь страждущим излить свои жалобы, ласково выслушать их ивыразить им свое сочувствие и полное понимание. С помощью этой уловки вызавоюете их доверие и сможете пойти дальше и, легко и неприметно отклоняясьв сторону, перейти затем к речам и более твердым и более пригодным дляисцеления тех, кто удручен своим горем.
Если вернуться ко мне, то, стремясь преимущественно к тому, чтобы неударить лицом в грязь перед присутствующими, которые смотрели на меня в оба,я задумал немного прикрыть скорбь упомянутой дамы тонким слоем румян ибелил. Ведь я хорошо знаю на опыте, насколько тяжела и неуклюжа у меня рукаи как я беспомощен в увещаниях. Или мои доводы бывают слишком замысловатымии слишком сухими, или я обрушиваю их слишком внезапно, или делаю это слишкомнебрежно. Разобравшись по истечении какого-то времени в сути ее страданий, яне предпринял попытки избавить ее от них при помощи веских и убедительныхдоводов, то ли потому, что у меня их не было, то ли потому, что рассчитывална больший успех, действуя по-иному; при этом я не остановил своего выборани на одном из тех способов, которые предписывает нам философия, когдатребуется доставить кому-нибудь утешение; я не утверждал, как Клеанф [2],что горе, на которое она жалуется, совсем не несчастье, или, какперипатетики [3], что это не такая уж большая беда, или, как Хрисипп [4],что жаловаться на это и несправедливо и отнюдь не похвально; я не советовал,как Эпикур, — хотя его способ крайне близок моему, — перенестись мыслью свещей тягостных на приятные; я не следовал также Цицерону, полагавшему, чтовсе эти доводы нужно свалить в одну кучу и пользоваться ими по меренадобности; но, отклоняя мало-помалу нашу беседу от ее основной темы ипереводя постепенно на предметы сначала близкие, а затем, по мере того как яовладевал вниманием моей собеседницы, и на более отдаленные, я незаметноотвлек в сторону грустные мысли моей дамы, и она взяла себя в руки иоставалась спокойной, пока я был возле нее. Те, кто после меня приняли насебя те же заботы, не смогли обнаружить в ее состоянии никаких улучшений, ипричина этого в том, что топор не добрался до корней ее скорби.
Я уже касался, пожалуй, одного вида отвлечений в общественной жизни.Что до использования отвлечений в борьбе с врагами, применявшихся Периклом вПелопоннесской войне [5], а многими другими в иное время и при иныхобстоятельствах, то в истории различных народов это вещь слишком частая.
Поистине хитроумной была уловка, с помощью которой сьер д’ Эмберкурспас себя и других в Льеже, куда его послал державший льежцев в осаде герцогБургундский, чтобы он принял город на уже заключенных условиях капитуляции [6]. А льежцы, собравшись ночью для обсуждения этих условий, принялисьроптать, недовольные достигнутым соглашением, и многие задумали расправитьсяс парламентерами, находившимися в их власти. Сьер д’ Эмберкур, почуяв угрозупо первой волне людского потока, подступившей к дверям его дома и готовойобрушиться на него, тотчас же выслал к народу двух местных жителей (ибо принем их было несколько), поручив им огласить в народном собрании новые иболее мягкие предложения, придуманные им тут же на месте ввиду грозившейопасности. Эти двое остановили первый шквал бури и повели за собойвозбужденную толпу в ратушу, где бы их могли выслушать и обсудитьпринесенные ими вести. Обсуждение было кратким, и вот разражается второйшквал, столь же бешеный, как первый, и сьер д’ Эмберкур опять шлет навстречуему четырех новых столь же мнимых посредников, утверждавших, что на этот разим поручено сообщить о более выгодных для льежцев условиях, которые имнесомненно придутся по вкусу и которыми они будут довольны; благодаря этимпосулам народ снова был завлечен на собрание. Короче говоря, теша горожантакими забавами, отвлекая их гнев и понуждая их расточать его в бесплодныхспорах и обсуждениях, он, в конце концов, усыпил его и благополучно дождалсянаступления дня, что и было его главной задачей.
Нижеследующий вымысел повествует примерно о том же. Аталанта, девавыдающейся красоты и редких дарований, желая отделаться от множествапоклонников, домогавшихся вступить с нею в брак, объявила, что возьмет вмужья только того, кто сравняется с нею в скорости бега, причем потерпевшиенеудачу заплатят жизнью. Несмотря на рискованность столь жестокого договора,нашлось немало таких, которые сочли подобную цену соразмерной с обещанноюнаградой. Иппомен, которому предстояло испытать свои силы последним,обратился к богине — покровительнице любовной страсти — и воззвал к еепомощи, и она, вняв его просьбе, дала ему три золотых яблока и научила, каких использовать. Состязание началось, и Иппомен, почувствовав, что владычицаего сердца, следующая за ним по пятам, вот-вот нагонит его, как бы нечаяннороняет одно из упомянутых яблок. Девушка, восхищенная красотой яблока, неможет превозмочь искушение и задерживается, чтобы поднять его,
- Obstupuit virgo nitidique cupidine pomi
- Declinat cursus, aurumque volubile tollit. [7]
То же самое сделал он в нужный момент и во второй раз и в третий, покане добился, при помощи этого обмана и отвлечения, преимущества в беге.
Когда врачи не могут справиться с воспалением, они отвлекают его иотводят в какую-нибудь другую, менее опасную область нашего тела. Я заметил,что этот прием чаще всего применяется и при болезнях души.
Abducendus etiam nonnumquam animus est ad alia studia, solicitudines,curas, negotia; loci denique mutatione, tanquam aegroti non convalescentes,saepe curandus est [8]. По ее недугам мало кто бьет сплеча; приступы их не поддерживают ине пресекают, их стараются отвести и сгладить.
Противоположный способ — слишком возвышенный и трудный. Только людивысшей породы способны постигать вещь во всей ее наготе, отчетливо видеть ееи исчерпывающе судить о ней. Лишь Сократу дано лицезреть смерть, не меняясьв лице, одному ему — приручить ее, шутить с нею. Он не ищет утешения внесамой смерти; она для него естественное и обычное явление; он останавливаетсвой взгляд прямо на ней и решается на нее, не озираясь по сторонам. УченикиГегесия, вдохновляясь красивыми речами своего учителя, побуждали себяумирать голодною смертью, и они делали это так часто, что царь Птолемейзапретил ему услаждать свою школу этими человекоубийственными речами [9], —так вот, эти ученики Гегесия жаждали смерти не самой по себе и нисколько незадумывались над ее сущностью; не на ней останавливали они свою мысль; ониторопились, они стремились к иному, новому существованию. А бедняги, которыхмы иногда видим на эшафоте! Эти полны пылкой набожности; они отдают ей, помере возможности, все свои чувства; превратившись в слух, они жадно ловятобращенные к ним напутствия, и, воздев к небу глаза и руки, возвысив голос вгромких молитвах, охваченные суровым и неослабным волнением, они, конечно,являют пример отменно похвальный и подобающий их горькой участи. Их следуетхвалить за религиозное рвение, но отнюдь не за твердость духа. Они бегут отборьбы; они не хотят думать о смерти и во многом напоминают детей, которыхвсячески забавляют, чтобы тем временем вскрыть им нарыв. Я наблюдалосужденных на казнь и видел, как их взгляд, опускавшийся порою нарасставленные рядом ужасные орудия смерти, тотчас же отвращался от них, иони в исступлении заставляли себя перенестись мыслью на любые другиепредметы. Переправляющимся через грозную пропасть велят зажмуриваться илиотводить от нее глаза.
Субрий Флав был осужден Нероном на смерть, и умертвить его должен былсвоей рукою Нигер — и тот и другой были римскими военачальниками. КогдаФлава привели к месту казни, то, увидев безобразную яму с кривыми краями,вырытую для него по приказанию Нигера, он, повернувшись к присутствующим тутвоинам, произнес: «Даже это сделано не по уставу», а — Нигеру, обратившемусяк нему с увещанием держать голову твердо, сказал: «Обо мне не заботься. Лишьбы ты поразил меня с такой же твердостью!» И он предугадал правильно, потомучто у Нигера тряслись руки, и он отрубил Флаву голову лишь после несколькихповторных ударов [10]. Вот человек, который, как видно, и впрямьсосредоточенно думал о своей смерти и ни о чем больше.
Кто умирает в схватке, не выпуская из рук оружия, тот неприсматривается заранее к смерти, не ощущает ее и не помышляет о ней: егоувлекает боевой пыл. Один из моих знакомых, человек порядочный и правдивый,упав однажды во время поединка, зная, что его противник, пока он лежал наземле, нанес ему девять или десять ударов кинжалом, и слыша, как он самвпоследствии мне рассказывал, голоса окружающих, наперебой умолявших егопозаботиться о своей душе, не придавал этим крикам никакого значения и думалтолько о том, как бы вскочить на ноги и отомстить за себя. И он убил своегопротивника в этом же поединке.
Большую услугу оказал Луцию Силану [11] тот, через кого ему былаобъявлена весть о его осуждении: услышав ответ Силана, что он готов умереть,но только не от преступной руки, этот глашатай императорской воли вместе сосвоими воинами устремился к Силану, чтобы схватить его, и так как тот упорносопротивлялся, пустив в ход кулаки и ноги, убил его в этой борьбе; вызвав внем внезапно вспыхнувший бурный гнев, он избавил его, таким образом, оттягостной мысли об уготовленной ему медленной и мучительной смерти.
В таких обстоятельствах мы всегда думаем о чем угодно, но не о ней: настешат и поддерживают надежды на иную, лучшую жизнь, или надежды, возлагаемыенами на наших детей, или предвкушение будущей славы нашего имени, или мысльо том, что мир, который мы покидаем, — не более как юдоль скорби, или мечтыо возмездии, угрожающем тем, кто причиняет нам смерть,
- Spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,
- Supplicia hausurum scopulis, et nomine Dido
- Saepe vocaturum…
- Audiam, et haec manes veniet mihi fama sub imos. [12]
Когда Ксенофонту сообщили о гибели в битве при Мантинее [13] его сынаГрилла, он, с венком на голове, приносил жертвы богам. Ошеломленный этимизвестием, он швырнул венок наземь, но затем, слушая повествование опроисшедшем и постигнув, что эта смерть была поистине героической, поднялего и снова надел на голову.
Даже Эпикур — и он также — утешал себя перед своей кончиною мыслями овечности и полезности написанных им сочинений [14]. Omnes clari etnobilitati labores fiunt tolerabiles [15]. И Ксенофонт говорит, что точнотакая же рана и такие же трудности и лишения тяготят полководца не в примерменьше, чем воина [16]. Узнав, что победа осталась за ним, Эпаминондвоспрянул духом и принял смерть с поразительной твердостью [17]. Haec suntsolatia, haec fomenta summorum dolorum [18]. И бесчисленные схожие с этимиобстоятельства уводят, отвлекают и избавляют нас от размышлений о смерти кактаковой.
Даже доводы философии лишь слегка прикасаются к ней, не добираясь до еесущности и едва скользя по ее оболочке. Первейший мыслитель первейшей извсех философских школ, главенствующей над всеми другими, великий Зенон,понося смерть, сказал следующее: «Ни одно зло не заслуживает уважения;смерть заслуживает его; стало быть, она вовсе не зло»; а понося пьянство —следующее: «Никто не вздумает доверять свою тайну пьянице; всякий доверяетее лишь разумному человеку; стало быть, разумный человек не может бытьпьяницей» [19]. Бьют ли подобные доводы в цель? Мне приятно видеть, что этиобразцовые души не могут отделаться от иных свойств, роднящих их с нами.
Сколь бы совершенными людьми они ни были, это, однако ж, всего-навсеголюди и ничего больше.
Жажда мщения — страсть в высшей степени сладостная; ей свойственнонекоторое величие, и она вполне естественна; я очень хорошо это вижу, хотяличного знакомства мы с нею и не свели. Чтобы отвлечь от нее одного юногогосударя, — это случилось совсем недавно, — я не стал распространяться отом, что ударившему вас по одной щеке следует смирения ради подставитьдругую; не стал я ему пересказывать и всевозможные трагические события,изображаемые поэтами, как следствия этой страсти. Обо всем этом я необмолвился ни словечком и стремился только к тому, чтобы научить егочувствовать красоту совершенно иной картины, рисуя ему почет, любовь иблагожелательность, которых он может достигнуть, проявляя снисходительностьи доброту; и я отвратил его от тщеславия [20]. Вот как делаются такие дела.
Если вас охватывает чрезмерно пламенная влюбленность, вам советуютрассеять ее; и советуют вполне правильно, в чем я не раз и с пользою длясебя убеждался на опыте; распределите ее между несколькими желаньями, одноиз которых, если вы того захотите, может быть главным и основным, но изопасения, как бы оно не заслонило все остальные и безраздельно невластвовало над вами, ослабляйте и сдерживайте это желание, деля и отвлекаяего все снова и снова:
- Cum morosa vago singultiet inguine vena,
- Coniicito humorem collectum in corpora quaeque. [21]
И подумайте об этом заранее, чтобы не оказаться в беде, если оно ещераз нахлынет на вас,
- Si non prima novis conturbes vulnera plagis,
- Volgivagaque vagus venere ante recentia cures. [22]
Однажды в дни молодости мне пришлось пережить сильное, чрезмерное длямоей души огорчение, и оно было не только сильным, но — что важнее всего — иглубоко обоснованным; положись я тогда попросту на свои силы, я бы, пожалуй,не выдержал. Нуждаясь, чтобы рассеяться, в каком-нибудь способном захватитьменя отвлечении, я заставил себя, призвав на помощь рассудок и волю,влюбиться, чему немало помог мой возраст. Любовь облегчила меня и развеяласкорбь, причиненную дружбой. И повсюду мы наблюдаем все то же: меняодолевает какое-нибудь неприятное представление; я нахожу, что заменить егоновым много проще, чем его побороть; и если я не могу заместить егопредставлением противоположного свойства, я все же замещаю его каким-либодругим. Разнообразие всегда облегчает, раскрепощает и отвлекает.
Если я не могу одолеть засевшее во мне неприятное представление, ястараюсь улизнуть от него и, убегая, петляю из стороны в сторону, пускаюсьна всевозможные хитрости; переезжая с места на место, меняя занятия,общество, я спасаюсь в сумятице иных развлечений и мыслей, и так несносноепредставление теряет мой след, и я окончательно ухожу от него.
Корни этого — во вложенном в нас самою природой благодетельномнепостоянстве, ибо время, приставленное к нам ею в качестве врача-исцелителянаших страстей, достигает успеха в их лечении главным образом тем, что,давая нашему воображению все новую и новую пищу, расчленяет и нарушает нашепервоначальное восприятие, сколь бы острым оно в свое время ни было. Мудрецпо прошествии двадцати пяти лет столь же явственно видит своего друга вмомент его смерти, как и в течение первого года после его кончины; и,согласно объяснению Эпикура [23], он видит его не менее явственно именнопотому, что нисколько не смягчал горестности этой утраты ни тогда, когдапредвидел ее, ни по прошествии многих лет после нее. Но столько прочихраздумий наслоилось на это воспоминание, что оно потускнело и, в концеконцов, отошло вдаль.
Стремясь отвести от себя сплетни и пересуды, Алкивиад отсек своейвеликолепной собаке уши и хвост [24] и в таком виде выпустил ее на городскойрынок, с тем чтобы народ, получив отличную тему для болтовни, оставил впокое прочие его действия и поступки. И я также видел, как некоторыеженщины, с той же целью — отвести от себя всевозможные домыслы и догадки исбить с толку судачащих на их счет, прикрывали свои истинные любовныечувства чувствами поддельными и наигранными. Но я знал среди них и такую,которая в притворстве своем зашла так далеко, что искренне увлекласьвымышленною страстью и забыла о своей истинной и изначальной любви радипритворной; и пример этой дамы воочию убедил меня, что когда те, комуповезло в любовных делах, соглашаются на подобную маскировку, они ведут себяне лучше отъявленных простаков. Неужели вы думаете, что после того, каквстречи и разговоры на людях становятся исключительным правом такого мнимоговоздыхателя, он окажется настолько неловким, что не займет, в конце концов,вашего места и не оттеснит вас на свое? Это не что иное, как кроить и тачатьбашмаки, чтобы их обул кто-то другой.
Любая безделица отвлекает и уводит в сторону наши мысли, ибозадерживает их на себе тоже безделица. Мы никогда не видим предметаполностью и в отдельности; наше внимание останавливают на себе окружающаяего обстановка или его несущественные, приметные с первого взглядаособенности и та тончайшая оболочка, в которую он заключен и которуюсбрасывает с себя точно так же,
- Folliculos ut nunc teretes aestate cicadae
- Linquunt. [25]
Даже Плутарх, — и он, — оплакивая умершую дочь, распространяется о еедетских проказах [26]. Нас печалят воспоминания о прощании, о каком-нибудьпоступке умершего, поразительной его примиренности перед кончиной, опоследнем его поручении. Тога Цезаря взволновала весь Рим, чего не сделалаего смерть [27]. То же самое можно сказать и о горестных восклицаниях,которыми прожужжали нам уши: «О мой бедный учитель!», или «О бесценный другмой!», или «Увы! мой любимый отец!», или «Моя милая дочь!», и когда моегослуха касаются все эти извечные повторения и я приглядываюсь к ним ближе, яприхожу к выводу, что это — стенания, можно сказать, грамматические и чистословесные. Меня задевает слово и тон, которым оно произносится. И все это —совсем как те выкрики, которыми проповедники часто пронимают свою паствугораздо сильнее, нежели увещаниями и доводами, или как жалобный вой и визгубиваемого нам в пищу животного; во всех этих случаях я не оцениваюпо-настоящему и не постигаю истинной сущности предмета или явления:
- His se stimulis dolor ipse lacessit [28].
Таковы основания наших горестей и печалей.
Упорство моих камней, особенно при их прохождении по детородному члену,не раз причиняло мне длительную задержку мочи на три, на четыре дня, и ябывал так близок к смерти, что надеяться улизнуть от нее или даже попростужелать этого было чистым безумием — настолько невыносимы боли, вызываемыеэтим недугом. До чего же великим докой в искусстве мучительства и истязанийбыл добрый тот император, который приказывал туго-натуго перевязыватьдетородный член осужденным на смерть, дабы они умирали от невозможностипомочиться [29]. Пребывая в таком состоянии, я имел случай отметить, скольлегковесными доводами и какой чепухой пичкало меня мое воображение, побуждаясожалеть о расставании с жизнью; из каких мельчайших крупиц складывалось вмоей душе представление о значительности и трудности этого переселения;сколькими вздорными мыслями занимаем мы наше внимание, готовясь к стольважному делу: собака, лошадь, книга, кубок — и чего, чего тут только небыло! — включались мною в список моих потерь. Другие вносят в него своичестолюбивые чаянья, свой кошелек, свои знания, что, на мой взгляд, не менееглупо. Пока я рассматривал смерть отвлеченно, как конец жизни, я смотрел нанее довольно беспечно; в целом я не даю ей спуску, но в мелочах — онаположительно подавляет меня. Слезы слуги, распределение остающихся послеменя носильных вещей, прикосновение знакомой руки, всеобщие утешениярасслабляют меня и приводят в отчаяние.
Вот почему волнуют нам душу и жалобы вымышленных героев, а стенанияДидоны и Ариадны трогают даже тех, кто, читая о них у Вергилия и Катулла, неверит тому, что они и вправду существовали на свете. Если мы вспомним даже оПолемоне, о котором рассказывают как о своего рода чуде и которого называютв качестве примера полнейшей бесчувственности и душевной неуязвимости, то непобледнел ли также и Полемон, когда его всего-навсего укусила злая собака,вырвавшая у него на ноге кусок мяса [30]. И никакая мудрость не простираетсятак далеко, чтобы постигнуть рассудком причину столь живой и глубокойскорби, возрастающей в еще большей мере при непосредственном наблюдении тогоили иного горестного события: ведь наблюдают наши глаза и уши — органы,способные отзываться лишь на внешнее и, стало быть, наименее существенное вявлении.
Справедливо ли, что даже искусства используют вложенные в нас самоюприродою легковерие и слабоумие и извлекают из них свои выгоды? Оратор, какутверждает риторика, лицедействуя в фарсе, именуемом его судебною речью,будет тронут звучанием своего голоса и своим притворным волнением и, в концеконцов, даст обмануть себя страсти, которую старается изобразить. Онпроникнется подлинной и нешуточною печалью, порожденною в нем фиглярством,нужным ему, чтобы заразить ею и судей, которым до нее еще меньше дела, чемему самому. Подобное творится и с теми, кого нанимают для участия впохоронах с целью усугубить горестность этой торжественной церемонии и ктопродает свои слезы и скорбь мерой и весом; ведь несмотря на то, что ввыражении своего горя эти люди ограничиваются простым подражаниемустановленным образцам, все же, как достоверно известно, приноравливаясь ипонуждая себя к определенному поведению, они нередко с таким усердиемпредаются этому занятию, что впадают в неподдельную скорбь.
Мне пришлось в числе нескольких друзей господина де Граммона [31],убитого при осаде Ла-Фер, сопровождать его тело из лагеря осаждающих вСуассон. Во время этой поездки я заметил, что, где бы ни проходила нашапроцессия, народ повсюду встречал ее с причитаниями и плачем и что ихвызывало лишь впечатление, производимое нашим печальным шествием, ибо втолпе не знали покойного даже по имени.
Квинтилиан говорит, что ему доводилось видеть актеров, настолькосживавшихся со своей ролью людей, охваченных безысходною скорбью, что онипродолжали рыдать и возвратившись к себе домой; и о себе самом онрассказывает, что, задавшись целью заразить кого-нибудь сильным чувством, онне только заливался слезами, но и лицо его покрывала бледность, и весь егооблик становился обликом человека, отягощенного настоящим страданием [32].
В одной местности у подножия наших гор деревенские женщины уподобляютсятем священникам, которые одновременно исполняют свои обязанности и сами себеотвечают за певчего, ибо, бередя в себе тоску об умершем муже перечислениемвсех его добрых и приятных им качеств, они, вместе с тем, вспоминают иоглашают во всеуслышание и его пороки и недостатки, делая это как бы радитого, чтобы уравновесить вторыми первые и отвлечь себя от скорби кпрезрению; и они поступают не в пример лучше нас, когда мы стараемся изовсех сил в случае смерти едва известного нам человека воздать ему впервыепришедшие нам на ум и притом фальшивые похвалы: не видя его больше средиживых, мы превращаем его в совершенно иное существо по сравнению с тем,каким он нам представлялся, когда мы его видели среди нас, как если бысожаление открыло нам в нем нечто такое, чего мы прежде не знали, и слезы,омыв наш рассудок, просветили его. Я наперед отказываюсь от любых похвал,которыми пожелают осыпать меня не потому, что я их заслужил, но потому, чтоя буду мертв.
Если спросить кого-либо из осаждающих крепость: «Что вам в этой осаде?» — он, конечно, ответит: «Решительно ничего, но я должен подавать примеростальным и повиноваться, как все, моему государю. Я не ищу никакой личнойвыгоды; что же до славы, то я очень хорошо понимаю, сколь ничтожная крупицаее может выпасть на долю столь ничтожной особы, как я; и я не ощущаю в себени страсти, ни озлобления». Но взгляните на него следующим утром, и выобнаружите, что перед вами совсем другой человек, что он весь кипит, бурлити багровеет от гнева, стоя в своем ряду и готовый идти на приступ; это блескповсюду сверкающей стали, и огонь, и грохот наших пушек и барабанов вселилив него такую непримиримость и ненависть. «Нелепейшая причина!» — скажете вына это. Какая уж там причина! Чтобы возбудить нашу душу, и не требуетсяникаких причин: бесплотные и беспредметные образы безраздельно владеют ею ивозбуждают ее. Едва я принимаюсь строить воздушные замки, как моевоображение преподносит мне радости и удовольствия, которые по-настоящемузадевают и веселят мою душу. До чего же часто заволакивается наш ум гневомили печалью, которые насылает на нас какая-нибудь тень, и мы предаемсявыдуманным страстям, действительно будоражащим нам и душу и тело! Какиетолько гримасы — удивления, смеха, смущения — не вызывают грезы на нашихлицах! Какие судорожные движения в наших членах и какое волнение в голосе!Не кажется ли вам, что этот пребывающий в одиночестве человек видит передсобою призрачную толпу людей и ведет с ними какие-то разговоры, или что онодержим внутренним демоном, не оставляющим его ни на мгновенье в покое?Задайте себе вопрос, где же, собственно, то, что вызвало в нем этиизменения, и есть ли в природе еще что-нибудь, кроме нас, что питалось быпустотой и над чем она была бы всесильна?
Камбиз велел умертвить своего брата лишь потому, что ему приснилось,будто тот должен стать персидским царем, — а это был брат, которого он любили которому всегда доверял! [33] Аристодем, царь мессенцев, наложил на себяруки из-за сущего вздора, который он считал роковым предзнаменованием, — онсовершил это лишь из-за того, что по какой-то невыясненной причине выли егопсы. А царь Мидас сделал то же, встревоженный и испуганный неким тягостнымсном, который ему привиделся [34]. Лишить себя жизни из-за сновидения —значит и вправду ценить ее ровно во столько, сколько она стоит вдействительности!
А теперь выслушайте, пожалуй, как издевается наша душа надбеспомощностью тела, над его немощностью, над тем, что оно подверженовсевозможным напастям и изменениям: она и впрямь имеет основание говоритьобо всем этом!
- О prima infelix fingenti terra Prometheo!
- Ille parum cauti pectoris egit opus.
- Corpora disponens, mentem non vidit in arte;
- Recta animi primum debuit esse via. [35]
Глава V
О стихах Вергилия
Чем отчетливее и обоснованней душеполезные размышления, тем онидокучнее и обременительней. Порок, смерть, нищета, болезни — темы серьезныеи нагоняющие уныние. Нужно приучить душу не поддаваться несчастьям и братьверх над ними, преподать ей правила добропорядочной жизни и добропорядочнойверы, нужно как можно чаще тормошить ее и натаскивать в этой прекраснойнауке; но душе заурядной необходимо, чтобы все это делалось с роздыхом иумеренностью, ибо от непрерывного и непосильного напряжения она теряется ишалеет.
В молодости, чтобы не распускаться, я нуждался в предостережениях иувещаниях; жизнерадостность и здоровье, как говорят, не слишком охочи доэтих мудрых и глубокомысленных рассуждений. В настоящее время я, однако,совсем не таков. Старость со всеми своими неизбежными следствиями только иделает, что на каждом шагу предостерегает, умудряет и вразумляет меня. Изодной крайности я впал в другую: вместо избытка веселости во мне теперьизбыток суровости, а это гораздо прискорбнее. Вот почему я теперь намереннопозволяю себе малую толику чувственных удовольствий и занимаю порой душушаловливыми и юными мыслями, на которых она отдыхает. Ныне я чересчуррассудителен, чересчур тяжел на подъем, чересчур зрел. Мои годы всякий деньучат меня холодности и воздержности. Мое тело избегает чувственных утех ибоится их. Пришла его очередь побуждать разум исправиться. И тело, в своюочередь, одергивает его, и притом так грубо и властно, как он никогда неодергивал тело. Оно ни на час не оставляет меня в покое — ни во сне, нинаяву, — непрерывно напоминая о смерти и призывая к терпению и покаянию. И яобороняюсь от воздержности, как когда-то от любострастия. Она тянет меняназад, и притом так далеко, что доводит до отупения. Но я хочу быть сам себегосподином, в полном и неограниченном смысле слова. Благоразумию такжесвойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие. Ивот, опасаясь, как бы вконец не засохнуть, не иссякнуть и не закоснеть отрассудительности и благонравия, в перерывы между приступами болей,
- Mens intenta suis ne siet usque malis, [1]
я чуть-чуть отворачиваюсь и отвожу взгляд от грозового и покрытоготучами неба, которое я вижу перед собой и на которое смотрю, благодарениебогу, без страха, хоть и не без самоуглубленной задумчивости, и забавляюсебя воспоминаниями о минувших днях моей молодости,
- animus quod perdidit optat;
- Atque in praeterita se totus imagine versat. [2]
Пусть детство смотрит вперед, старость — назад: не это ли обозначалидва лица Януса? Пусть годы тащат меня за собой, если им этого хочется, ноотступать я наметил не иначе, как пятясь. И пока мои глаза в состоянииразличать картины этой чудесной, безвозвратно ушедшей поры, я то и делоустремляю их в ее сторону. И если молодость покинула мою кровь и мои жилы,все же, на худой конец, я не хочу вытравлять ее образ из моей памяти,
- hoc est
- Vivere bis, vita posse priore frui. [3]
Платон велит старикам присутствовать при телесных упражнениях, пляскахи играх юношества, с тем чтобы они могли радоваться гибкости и красоте теладругих, утраченных ими самими, и оживлять в памяти благодать и прелестьэтого цветущего возраста; хочет он также, чтобы честь победы в этих забавахони присуждали тому из юношей, который больше всего возвеселит и обрадует ихсердца и наберет среди них большинство голосов [4].
Некогда я отмечал дни мрачности и уныния как необычные, теперь они уменя, пожалуй, вошли в обычай, а необычны хорошие и безоблачные. И еслиничто не печалит меня, я готов ликовать всей душой, видя в этом вновьниспосланную мне милость. Сколько бы ни щекотал я себя, мне не извлечь изэтого жалкого тела даже подобия смеха. Я тешу себя лишь в выдумках и мечтах,чтобы с помощью этой уловки увильнуть от горестей старости. Но, разумеется,тут требуются другие лекарства, а не призрачные мечты: ведь они — бессильноеухищрение в борьбе с самою природой.
Большое недомыслие — продлевать и упреждать человеческие невзгоды, какпоступает каждый; уж лучше я буду менее продолжительное время стариком, чемстану им до того, как меня в действительности постигнет старость [5]. Яхватаюсь за всякие, самые ничтожные возможности удовольствия, какие толькомне представляются. Понаслышке я очень хорошо знаю, что существуют различныенаслаждения — разумные, захватывающие и приносящие славу; нообщераспространенные взгляды не имеют надо мной такой силы, чтобы явозжаждал вкусить наслаждения этого рода. Я ищу в них не столько величия,возвышенности и пышности, сколько приятности, доступности и бесхитростности.А natura discedimus; populo nos damus, nullius rei bono auctori [6].
Моя философия в действии, в естественном и безотлагательном пользованииблагами жизни и гораздо меньше — в фантазии. Я и сейчас с увлечением игралбы орешками и волчком!
- Non ponebat enim rumores ante salutem. [7]
Наслаждению не знакомо тщеславие; оно ценит себя слишком высоко, чтобысчитаться с молвой, и охотнее всего пребывает в тени. Розог бы тому юноше,который вздумал бы искать наслаждение во вкусе вина или подливок. Нетничего, что в дни моей юности было бы мне столь же мало известно и чему япридавал бы столь же малую цену. А теперь я постигаю эту науку. Мне оченьстыдно от этого, но ничего не поделаешь. Еще постыднее и досаднееобстоятельства, толкающие меня на подобные вещи. Это нам пристало грезить илоботрясничать, а молодежи подобает думать о своей доброй славе и о том,чтобы завоевать себе положение; она идет в мир, к тому, чтобы вершить деламиего, тогда как мы уходим от всего этого. Sibi arma, sibi equos, sibi hastas,sibi clavam, sibi pilam, sibi natationes et cursus habeant; nobis senibus,ex lusionibus multis, talos relinquant et tesseras [8]. Законы — и те отсылают нас по домам. Ипринимая в расчет жалкое состояние, в которое ввергают меня мои годы, мнетолько и остается, что доставлять им игрушки и всяческие забавы, как вдетстве; ведь в него-то мы и впадаем. И благоразумие и легкомыслие — и то идругое извлекут для себя немалую выгоду, попеременно подпирая и поддерживаяменя в этом бедственном возрасте своими услугами:
- Misce stultitiam consiliis brevem. [9]
Я избегаю даже наилегчайших уколов, и те, что когда-то не оставили бына мне и царапины, теперь пронзают меня насквозь; и я привыкаю безропотносживаться с несчастьями. In fragili corpore odiosa omnis offensio est [10].
- Mensque pati durum sustinet aegra nihil. [11]
Я всегда был необычайно восприимчив и очень чувствителен к напастямлюбого рода; теперь я стал еще менее стоек, и я уязвим отовсюду,
- Et minimae vires frangere quassa valent. [12]
Мой разум не дозволяет мне огрызаться и рычать на неприятности,насылаемые на нас самою природой, но чувствовать их — воспрепятствоватьэтому он не может. Я бы обегал весь свет — с одного конца до другого, —чтобы найти для себя хоть один сладостный год приятного и заполненногорадостями покоя, ибо нет у меня иной цели, как жить и радоваться. Унылого итупого покоя вокруг меня сверхдостаточно, но он усыпляет и одурманивает меняи довольствоваться им не по мне. Найдись какой-нибудь человек иликакое-нибудь приятное общество в деревенской глуши, в городе, во Франции илив иных краях, живущие оседло или кочующие с места на место, которые мне быпришлись по вкусу и которым я сам был бы по нраву, — им стоило бы лишьсвистнуть, и я полетел бы к ним, и перед ними предстали бы эти самые «Опыты»во плоти и крови.
Так как нашему духу дарована привилегия обретать на старости лет новуюсилу, я всячески поощряю его к этому возрождению; пусть он зеленеет, пустьцветет, если может, в эти последние дни — омела на стволе мертвого дерева.Опасаюсь, однако, что он ненадежен и способен предать; он до того побраталсяс телом, что не колеблясь покинет меня, дабы устремиться за ним, едва онопопадет в какую-нибудь беду. Я всячески подольщаюсь к моему духу, но моистарания тщетны. Я напрасно пытаюсь отвратить его от этого сообщества исодружества, напрасно занимаю его Сенекой и Катуллом, дамами и придворнымитанцами; если у его сотоварища рези, то ему кажется, что они также и у него.И он тогда не справляется даже с той деятельностью, которая для него — делопривычное, и более того, свойственна лишь ему одному. В таких случаях отнего веет ледяным холодом. В его творениях не остается и следажизнерадостности, если она покинула тело.
Наши учителя допускают ошибку, когда, исследуя причины поразительныхвзлетов нашего духа и приписывая их божественному наитию, любви, военнымневзгодам, поэзии или вину, забывают о телесном здоровье и не воздают емудолжного, — здоровье пышущем, неодолимом, безупречном, беззаботном, таком,каким некогда наделяли меня по временам мои весенние дни и ничем ненарушаемая беспечность. Этот огонь веселья воспламеняет дух, и он вспыхиваетпорой с ослепительной яркостью, намного превосходящей обычную меру еговозможностей и порождающей в нем безудержный, если не безграничный восторг.Вот и выходит, что нет ни малейшего чуда, если противоположное состояние,угнетая мой дух, заставляет его поникнуть, сковывает, словом оказывает нанего противоположное действие.
- Ad nullum consurgit opus, cum corpore languet. [13]
А между тем он требует от меня, чтобы я был ему благодарен за то, чтоон якобы уделяет гораздо меньше внимания своему сотоварищу — телу, чем этопринято у людей. Но пока между нами установлено перемирие, давайте устранимиз нашего общения всяческие раздоры и несогласия:
Я люблю мудрость веселую и любезную и бегу от грубости и суровостинравов; всякая отталкивающая черта в лице вызывает во мне подозрение:
И я всем сердцем верю Платону, который считает, что простота илинадменность в обхождении — вернейший признак душевной простоты или злобности [18].
У Сократа было всегда одно и то же лицо — как бы застывшее, но ясное иулыбающееся, а не такое, как у старшего Красса, которого никто не видел сулыбкой на устах [19].
Добродетель — вещь приятная и веселая.
Я очень хорошо знаю, что среди тех, кого возмутят иные непристойности вэтих моих писаниях, найдутся лишь очень немногие, которым не подобало бывозмущаться непристойностью своих мыслей.
Я потрафляю их вкусу, но оскорбляю их зрение.
Принято придираться к Платону за то или иное в его сочинениях иумалчивать о приписываемых ему предосудительных отношениях с Федоном,Дионом, Стеллой и Археанассой [20]. Non pudeat dicere quod non pudet sentire [21].
Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые, — они проходятмимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними; онипохожи на мух, которые не могут держаться на гладких и скользких телах исадятся отдыхать в местах шероховатых и испещренных неровностями, и ещепохожи они на кровососные банки, отсасывающие и вбирающие в себя толькодурную кровь.
Впрочем, я поставил себе за правило безбоязненно говорить обо всем,чего не боюсь делать; и не подлежащие оглашению мысли мне глубоко неприятны.Наихудший из моих поступков и наихудшее из моих качеств кажутся мне не стольмерзкими, как мерзко, по-моему, и трусливо не сметь в них признаться. Всякийскромен в признаниях; так пусть же он будет скромен в поступках; готовностьвпасть в прегрешения некоторым образом сдерживается и возмещаетсяготовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить все без утайки, тотобяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать. Да будет господубогу угодно, чтобы избыток моей откровенности позволил мне повести моихсоотечественников к свободе, поставить их выше трусливых и мелочныхдобродетелей, порожденных нашими несовершенствами; и пусть ценой моейнеумеренности мне будет дано повести их к разуму! Нужно увидеть и постигнутьсвои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто таит их от другого, тоттаит их и от себя.
А если он видит их, то они представляются ему недостаточно скрытыми, ион старается убрать и упрятать их от собственной совести. Quare vitia suanemo confitetur? Quia etiam nunc in illis est; somnium narrare vigilantisest [22]. Усиливаясь, телесные недуги становятся явными. Имы убеждаемся, что почитавшееся нами прострелом или ушибом — на самом делеподагра. Недуги души, набираясь сил, напротив, делаются все более темными инепонятными. И больной, охваченный тягчайшим из них, менее всего чувствуетэто. Вот почему следует почаще вытаскивать их на свет божий и ворошитьбеспощадной рукой, выискивать их и извлекать из глубин нашего сердца.Удовлетворение как в добрых, так и в дурных делах — это порою толькопризнание в них.
Существует ли прегрешение до такой степени мерзкое, чтобы этоосвобождало нас от нашего долга признаться в нем?
Притворство для меня мучительно, и, не имея расположения отрицать то,что в действительности мне достоверно известно, я избегаю брать на себясохранение чужих тайн. Я могу молчать о них, но отпираться и изворачиватьсябез насилия над собой и крайне неприятного чувства я не могу. Чтобы бытьпо-настоящему скрытным, необходимо обладать соответствующей природнойспособностью, но сделаться скрытным по обязанности нельзя. Служа государям,мало быть скрытным, нужно быть, ко всему, еще и лжецом. Если бы спросившийФалеса Милетского, должен ли он торжественно отрицать, что предавалсяраспутству, обратился с тем же ко мне, я бы ответил ему, что он не долженэтого делать, ибо ложь, на мой взгляд, хуже распутства. Фалес посоветовалему совершенно иное, а именно, чтобы он подтвердил свои слова клятвой, дабыскрыть больший порок при помощи меньшего [23]. Этот совет, однако, был нестолько выбором того или иного порока, сколько умножением первого на второй.
По этому поводу заметим себе, что человеку с чуткою совестьюпредоставляется приемлемый выход только в том случае, если в противовеспорочному ему предлагается нечто для него трудное; но когда порочно и то идругое, он оказывается перед жестокой необходимостью, как это произошло сОригеном, выбирать из того, что в одинаковой мере гадко: а Оригену былосказано: либо пусть переходит в язычество, либо допустит, чтобы от неговкусил плотское наслаждение огромный и отвратительный эфиоп, которого емупоказали. Он принял первое из этих условий и, как утверждают, поступил дурно [24]. Таким образом получается, что были бы правы те решительные дамы нашеговремени, которые, будучи верны своим заблуждениям, заявляют, что онипредпочли бы обременить свою совесть целым десятком насладившихся имимужчин, чем одной-единственной мессой [25].
Если оповещать таким способом о своих прегрешениях и проступках —нескромность, то нет все же большой опасности, что она найдет многочисленныхподражателей, — ведь еще Аристон говорил, что люди больше всего боятся техветров, которые их выдают и разоблачают [26]. Нужно отбросить прочь нелепыетряпки, под которыми прячутся наши нравы. Люди отправляют свою совесть вдома терпимости, но блюдут внешнюю добропорядочность. Все до последнегочеловека — вплоть до предателей и убийц — свято придерживаются приличий ипочитают своею обязанностью неуклонно следовать им; так что ни неправедностьне имеет оснований жаловаться на нелюбезность, ни злоба — на назойливость инескромность. До чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к томуже глупцом и когда напускная благопристойность прикрывает собой таящийся поднею порок. Подобная штукатурка впору лишь добротной и крепкой стене, которуюстоит либо сохранить в прежнем виде, либо побелить заново.
На удовольствие гугенотам, осуждающим нашу исповедь с глазу на глаз ина ухо, я исповедуюсь во всеуслышание, до конца искренне и с чистой душой.Св. Августин, Ориген и Гиппократ [27] открыто сообщали о своих заблуждениях;что до меня, то я делаю то же применительно к моим нравам. Я жажду, чтобылюди знали меня; мне безразлично, каким образом это будет мною достигнуто,лишь бы все было чистою правдой; или, говоря точнее, я решительно ничего нежажду, но я смертельно боюсь быть в глазах тех, кому довелось знать мое имя,не таким, каков я в действительности, но чем-то иным, на меня не похожим.
На какие выгоды для себя надеется тот, кто помышляет лишь о почестях ио славе, если он появляется перед всем светом в личине, скрывает своенастоящее «я» и не дает познакомиться с ним честному народу. Попробуйтепохвалить горбатого за его стан, и он вынужден будет счесть ваши словаоскорблением. Если вы трусливы, а вас превозносят за храбрость, то о вас лив таком случае говорят? Нисколько, вас принимают за кого-то другого. Стольже забавным было бы для меня, если б кто-нибудь вздумал гордиться поклонами,расточаемыми ему по ошибке, как тому, о ком думают, что он начальник отряда,тогда как на самом деле он — последний из рядовых. Однажды, когда Архелай,царь македонский, проходил по улице, кто-то вылил на него воду; спутникицаря сказали ему, что виновного надлежит наказать, на что он ответил имследующим образом: «Но ведь он лил воду не на меня, а на того, кого онпризнал во мне» [28]. И Сократ заметил тому, кто предупредил его окривотолках, ходивших на его счет: «Тут нет никакой клеветы, ибо я не вижу всебе и крупицы того, о чем они говорят» [29]. Что до меня, то, если быкто-нибудь стал восхвалять меня как искусного кормчего, или за то, что яякобы крайне скромен, или за мое мнимое целомудрие, то я никоим образом непроникся бы к нему благодарностью. Равным образом я не счел бы себяоскорбленным, если бы кто-нибудь окрестил меня предателем, вором илипьянчужкой. Кто не знает себя, те могут кичиться незаслуженным одобрением,но со мной такого случиться не может, ибо я вижу себя насквозь, проникаю всебя, можно сказать, до самого нутра и очень хорошо знаю, что мнесвойственно, а что нет. Я был бы более рад, если бы люди расточали мнеменьше похвал, но знали меня лучше и основательнее. Ведь я мог бы бытьпризнан мудрым в таком роде мудрости, который я сам считаю не чем иным, какотъявленной глупостью.
Меня злит, что мои «Опыты» служат дамам своего рода предметомобстановки, и притом для гостиной. Эта глава сделает мой труд предметом,подходящим для их личной комнаты. Я предпочитаю общение с дамами наедине. Наглазах у всего света оно менее радостно и менее сладостно. При расставании стеми или иными вещами наши чувства к ним становятся более пылкими, чемобычно. Мне предстоит расстаться с утехами мирской жизни, и я посылаю им моипоследние поцелуи. Но вернемся к моему предмету.
В чем повинен перед людьми половой акт — столь естественный, стольнасущный и столь оправданный, — что все как один не решаются говорить о нембез краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему всерьезной и благопристойной беседе? Мы не боимся произносить: убить,ограбить, предать, — но это запретное слово застревает у нас на языке…Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы упоминаем его в наших речах, тембольше останавливаем на нем наши мысли. И очень, по-моему, хорошо, что слованаименее употребительные, реже всего встречающиеся в написанном виде и лучшевсего сохраняемые нами под спудом, вместе с тем и лучше всего известнырешительно всем. Любой возраст, любые нравы знают их нисколько не хуже, чемназвание хлеба. Не звучащие и лишенные начертаний, они запечатлеваются вкаждом, хотя их не печатают и не произносят во всеуслышание. Хорошо также ито, что этот акт скрыт нами под покровом молчания и извлечь его оттуда дажезатем, чтобы учинить над ним суд и расправу, — наитягчайшее преступление.Даже поносить его мы решаемся не иначе, как с помощью всевозможныхописательных оборотов и словесных прикрас. Быть до того мерзким иотвратительным, что само правосудие считает предосудительным касаться ивидеть его, — величайшее благодеяние для преступника; и он продолжаетпребывать на свободе и наслаждаться безнаказанностью из-за того, что дажевынести ему приговор — противно.
Не обстоит ли тут дело положительно так же, как с запрещенными книгами,которые идут нарасхват и получают широчайшее распространение именно потому,что они под запретом? Что до меня, то я полностью разделяю мнениеАристотеля, который сказал, что стыдливость украшает юношу и пятнает старца [30].
Нижеследующими стихами древние наставляли свою молодежь, а их школа,по-моему, не в пример лучше нашей (ее достоинства мне представляютсябольшими, ее недостатки — меньшими):
- И от Венеры кто бежит стремглав
- И кто за ней бежит — равно неправ [31].
- Tu, dea, tu rerum naturam sola gubernas,
- Nec sine te quicquam dias in luminis oras
- Exoritur, neque fit laetum nec amabile quicquam. [32]
Не знаю, задавался ли кто-нибудь целью разлучить Палладу [33] и муз сВенерою и отдалить их от бога любви; что до меня, то я не вижу другихбожеств, которые были бы настолько под стать друг другу и столь многим другдругу обязаны. Кто отнимет у муз любовные вымыслы, тот похитит у нихдрагоценнейшее из их сокровищ; а кто заставит любовь отказаться от общения споэзией и от ее помощи и услуг, тот лишит ее наиболее действенного оружия; исделавший это обвинил бы тем самым бога близости и влечения и богинь,покровительниц человечности и справедливости, в черной неблагодарности и вотсутствии чувства признательности.
Я не настолько давно уволен в отставку из штата и свиты этого бога,чтобы не помнить о его мощи и доблести,
- agnosco veteris vestigia flammae. [34]
После лихорадки всегда остается немного жара и возбуждения.
- Nec mihi deficit calor hic, hiemantibus annis. [35]
Сколь бы я ни увял и ни высох, я все еще ощущаю кое-какое тепло —остатки былого пыла:
- Qual l’alto Aegeo, per che Aquilone о Noto
- Cessi, che tutto prima il vuolse e scosse,
- Non s’accheta ei pero: ma’l sono e’l moto,
- Ritien de l’onde anco agitate e grosse. [36]
Но, насколько я в таких вещах разбираюсь, мощь и доблесть этого бога впоэтическом изображении живее и деятельнее, нежели в своей сущности,
- Et versus digitos habet. [37]
Поэзии как-то удается рисовать образы более страстные, чем самастрасть. И живая Венера — нагая и жаждущая объятий — не так хороша, какВенера здесь, у Вергилия:
- Dixerat, et niveis hinc atque hinc diva lacertis
- Cunctantem amplexu molli fovet. Ille repente
- Accepit solitam flammam, notusque medullas
- Intravit calor, et labefacta per ossa cucurrit.
- Non secus atque olim tonitru cum rupta corusco
- Ignea rima micans percurrit lumine nimbos.
- Ea verba locutus,
- Optatos dedit amplexus, placidumque petivit
- Coniugis infusus gremio per membra soporem. [38]
Но особо отмечено должно быть, по-моему, то, что он рисует ее, пожалуй,чрезмерно пылкой для Венеры в замужестве. В этой благоразумной сделкежелания не бывают столь неистовы; они пасмурны и намного слабее. Любовь нетерпит, чтобы руководствовались чем-либо, кроме нее, и она с большойнеохотой примешивается к союзам, которые установлены и поддерживаются вдругих видах и под другим наименованием; именно таков брак: при егозаключении родственные связи и богатство оказывают влияние — и вполнеправильно — нисколько не меньшее, если не большее, чем привлекательность икрасота. Что бы ни говорили, женятся не для себя; женятся нисколько неменьше, если не больше, ради потомства, ради семьи. От полезности ивыгодности нашего брака будет зависеть благоденствие наших потомков долгоевремя после того, как нас больше не станет. Потому-то мне нравится, чтобраки устраиваются скорее чужими руками, чем собственными, и скорееразумением третьих лиц, чем своим. До чего же все это далеко от любовногосговора! Вот и выходит, что допускать, состоя в этом почтенном и священномродстве, безумства и крайности ненасытных любовных восторгов — своего родакровосмешение, о чем я, кажется, уже где-то говорил. Нужно, учит Аристотель,сближаться с женой осторожно и сдержанно и постоянно помнить о том, что,если мы станем чрезмерно распалять в ней желания, наслаждение можетзаставить ее потерять голову и забыть о границах дозволенного. И то, что онговорит, имея в виду нравственные устои, подтверждается и врачами,толкующими о телесном здоровье, а они говорят следующее: слишком бурноенаслаждение, жгучее и постоянно возобновляемое, портит мужское семя и темсамым затрудняет зачатие; с другой стороны, они указывают также на то, чтопри сближении, полном ласки и нежности, — а только такое и отвечает природеженщины, — чтобы вызвать в ней подлинную и плодоносную пылкость, нужнопосещать ее редко и с изрядными перерывами,
- Quo rapiat sitiens venerem interiusque recondat. [39]
Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или былибы сопряжены с большими трудностями, нежели заключенные из-за увлечениякрасотой или по причине влюбленности. В этом деле требуются более устойчивыеи прочные основания, и действовать тут нужно с неизменною осторожностью;горячность и поспешность здесь ни к чему.
Считающие, что вкладывать в брак любовь значит оказывать ему честь,поступают, по-моему, не иначе, чем те, кто, желая похвалить добродетель,твердят, будто благородное происхождение не что иное, как добродетель. Это —вещи и в самом деле некоторым образом соприкасающиеся, но они, вместе с тем,и значительно отличаются друг от друга; дело, однако, не ограничиваетсясмешением их названий и сущностей; валя их в одну кучу, наносят ущерб имобеим. Благородное происхождение — великолепное качество, и отличие по этомупризнаку было установлено вполне правильно; но поскольку оно представляетсобой качество, зависящее от воли другого и которое может достаться человекупорочному и ничтожному, его надлежит ценить много ниже, чем добродетель.Если знатность и впрямь добродетель, то это — добродетель искусственная ичисто внешняя, зависящая от века и от удачи, принимающая в разных странахразличные формы, живая и смертная, без истоков, так же как река Нил [40],родовая и общая для всех принадлежащих к данному роду, покоящаяся напреемственности и уподоблении, выводимая в качестве следствия, и следствияявно необоснованного. Образованность, телесная сила, доброта, красота,богатство, все прочие качества общаются между собой и вступают друг с другомв сношения; что же касается знатности, то она печется лишь о себе, неоказывая ни малейших услуг чему-либо другому. Одному из наших королейпредложили на выбор двух притязавших на некую должность, из которых один былдворянином, а другой им не был. Король приказал оставить без внимания этокачество и назначить на должность того, кто больше подходит к ней, но еслидостоинства обоих окажутся в точности равными, то в этом случае подобалоотдать предпочтение знатности; и это было справедливым воздаянием должногоей уважения. Антигон ответил одному неизвестному юноше, просившему опредоставлении ему должности, занятой прежде его недавно умершим отцом,мужем великой доблести: «Друг мой, в раздаче подобных милостей яруководствуюсь не столько знатностью моих воинов, сколько их личной отвагой» [41].
И в самом деле, негоже поступать по примеру спартанцев, у которыхдолжности царских служителей — трубачей, флейтистов, кухарей — наследовалиих дети, сколь бы несведущими они в этих ремеслах ни были и сколь бы ниуступали в умелости более опытным [42].
В Калькутте к людям знатным относятся как к своего рода неземнымсуществам; вступать в брак им воспрещается, и из всех поприщ для них открытотолько военное. Наложниц они могут иметь сколько пожелают, а женщины их —сколько угодно любовников, причем дело обходится без ревности со стороны техи других; однако вступать в связь с женщинами другого сословия, кроме ихсобственного, — преступление непростительное, и оно карается смертью. Онипочитают себя оскверненными, если кто-нибудь, проходя мимо, случайнопритронется к ним, и так как их знатность подвергается в таких случаяхтягчайшему оскорблению, — а они ее свято блюдут, — они убивают всякого, ктоподойдет к ним слишком близко, так что незнатные вынуждены, идя по улице,предупреждать о себе криком, совсем как гондольеры в Венеции на перекресткахканалов, дабы не столкнуться друг с другом; и знатные по своему усмотрениювелят им держаться определенных кварталов. Первые благодаря этому избегаютупомянутого бесчестия, которое считается у них несмываемым, вторые же —верной смерти. Ни время, сколь бы продолжительным оно ни было, ниблаговоление государя, ни заслуги, ни добродетели, ни богатство не могутпревратить простолюдина в знатного человека. Этому способствует также ипринятый здесь обычай, решительно воспрещающий браки между представителямиродов, занимающихся неодинаковым ремеслом; никто из семьи сапожника не можетсочетаться браком с кем-либо из семьи плотника, и родители обязаны обучатьдетей ремеслу, которым занимаются сами, и только ему и никакому другому, чтоприводит к сохранению между ними различий и к поддержанию на одном уровне ихдостатка [43].
Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и все ейсопутствующее; он старается возместить ее дружбой. Это — не что иное, какприятное совместное проживание в течение всей жизни, полное устойчивости,доверия и бесконечного множества весьма осязательных взаимных услуг иобязанностей. Ни одна женщина, которой брак пришелся по вкусу,
- optato quam iunxit lumine taeda, [44]
не пожелала бы поменяться местами с любовницей или подругою своегомужа. Если он привязан к ней как к жене, то чувство это и гораздо почетнее игораздо прочнее. Когда ему случится пылать и настойчиво увиваться возлекакой-нибудь другой женщины, пусть тогда его спросят, предпочел бы он, чтобыпозор пал на его жену или же на любовницу, чье несчастье опечалило бы егосильнее, кому он больше желает высокого положения; ответы, если его бракпокоится на здоровой основе, не вызывают ни малейших сомнений. А то, что мывидим так мало удачных браков, как раз и свидетельствует о ценности иважности брака. Если вступать в него обдуманно и соответственно относиться кнему, то в нашем обществе не найдется, пожалуй, лучшего установления. Мы неможем обойтись без него и вместе с тем мы его принижаем. Здесь происходит тоже, что наблюдается возле клеток: птицы, находящиеся на воле, отчаянностремятся проникнуть в них; те же, которые сидят взаперти, так же отчаянностремятся выйти наружу. Сократ на вопрос, что, по его мнению, лучше — взятьли жену или вовсе не брать ее, — ответил следующим образом: «Что бы ты ниизбрал, все равно придется раскаиваться» [45]. Это — сговор, к которомуточка в точку подходит известное изречение: homo homini или deus или lupus [46]. Для прочного браканеобходимо сочетание многих качеств. В наши дни он приносит больше отрадылюдям простым и обыкновенным, которых меньше, чем нас, волнуют удовольствия,любопытство и праздность. Вольнолюбивые души, вроде моей, ненавидящиевсякого рода путы и обязательства, мало пригодны для жизни в браке,
- Et mihi dulce magis resoluto vivere collo. [47]
Руководствуйся я своей волей, я бы отказался жениться даже на самоймудрости, если бы она меня пожелала. Но мы можем сколько угодно твердитьсвое, а обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой.Большинство совершаемых мною поступков вызвано примером со стороны и невытекает из моего выбора. Я никоим образом не жаждал этого шага; меня взялии повели, и я был подхвачен случайными и посторонними обстоятельствами. Ибоне только вещи сами по себе стеснительные, но и любая вещь, какой быотвратительной, мерзкой и отнюдь не неизбежной для нас она ни была, не можетне стать в конце концов приемлемой в силу известных случайностей и условий, — вот до чего шатки человеческие устои! И, разумеется, я был подготовлен кбраку гораздо хуже и менее пригоден к нему, чем теперь, когда испытал его насебе. И сколь бы развращенным меня ни считали, я в действительности соблюдалзаконы супружества много строже, чем обещал или надеялся в свое время.Поздно брыкаться, раз дал стреножить себя. Свою свободу следует ревнивооберегать, но, связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга,общим для всех, или, во всяком случае, прилагать усилия к этому. Ктозаключает подобную сделку с тем, чтобы привнести в нее ненависть ипрезрение, тот поступает несправедливо и недостойно. И пресловутое правило,которое, как я вижу, переходит из рук в руки от одних женщин к другим,словно некий священный девиз:
- О муже как рабыня пекись
- И как врага его берегись,
что означает: оказывай ему, вопреки своей воле, почтение, однаковраждебное и полное недоверия, — правило, похожее на боевой клич и вызов напоединок, — равным образом и оскорбительно и прискорбно.
Я слишком ленив, чтобы вынашивать в себе столь злостные умыслы. Поправде говоря, я все еще не достиг той поистине совершенной ловкости иизворотливости ума, которая позволяет наводить тень на правое и неправое инасмехаться над любыми порядками и правилами, если они мне не по нраву.Какую бы ненависть ни возбуждали во мне суеверия, я не впадаю из-за этогототчас в безверие. Если не всегда выполняешь свой долг, то нужно, по крайнеймере, всегда помнить о нем и стремиться блюсти его. Жениться, ничем несвязывая себя, — предательство. Однако продолжим.
Наш поэт изображает супружество, полное согласия и взаимнойпривязанности, в котором, впрочем, не очень-то много обоюдного уважения.Хотел ли он этим сказать, что вполне возможно предаваться неистовым утехамлюбви и, несмотря на это, сохранять должное почтение к браку и что можнонаносить ему некоторый ущерб и все же не разрушить его? Иной слугаобкрадывает своего господина, хоть и не питает к нему ни малейшей ненависти.Красота, стечение обстоятельств, судьба (ибо и судьба прикладывает здесьруку),
- fatum est in partibus illis
- Quas sinus abscondit: nam, si tibi sidera cessent,
- Nil faciet longi mensura incognita nervi, [48]
сблизили женщину с посторонним мужчиной, быть может, и не так прочно,чтобы в ней не оставалось кое-какой привязанности к законному мужу, котораяи удерживает ее подле него. Это два совершенно различных чувства, путикоторых расходятся и нигде не совпадают. Женщина может отдаться мужчине, закоторого она не пожелала бы выйти замуж, и притом не в силу соображений,связанных с имущественной стороной дела, а просто потому, что он не вполнепришелся ей по душе. Лишь немногие из женившихся на своих прежних подругахне раскаивались в содеянном ими. И то же можно сказать об обитателяхнадзвездного мира. До чего же скверная пара вышла из Юпитера и его жены [49], которую он соблазнил до брака и которой досыта насладился, забавляясьс нею любовными шалостями!
Это, согласно пословице, не что иное, как сперва нагадить в корзину, авслед за тем водрузить ее себе на голову.
В свое время я видел, — и, надо сказать, среди высокопоставленных лиц, — как бесстыднейшим и бесчестнейшим образом прибегали к браку ради исцеленияот любви; однако сущность их слишком разная. Мы можем любить, не испытываяот этого никаких неудобств, две различные и друг другу противоположные вещи.Исократ говорил, что город Афины нравился посещавшим его подобно тому, какнравятся женщины, с готовностью расточающие свою любовь; всякий приезжалсюда, чтобы прогуляться по этому городу и проводить здесь с приятностьювремя, но никто не любил его настолько, чтобы сочетаться с ним браком, тоесть обосноваться в нем и избрать его местом своего жительства [50]. Я счувством досады смотрел на мужей, которые ненавидят жен только лишь потому,что сами грешны перед ними; а их, по-моему, не следует меньше любить из-занашей вины; хотя бы вследствие нашего раскаяния и сострадания они должнысделаться нам дороже, чем были.
Цели, преследуемые любовью и браком, различны, и все же, как говоритИсократ, они некоторым образом совместимы друг с другом. За браком остаютсяего полезность, оправданность, почтенность и устойчивость; наслаждение вбраке вялое, но более всеохватывающее. Что до любви, то она зиждетсяисключительно на одном наслаждении, и в ее лоне оно и впрямь болеевозбуждающее, более пылкое и более острое, — наслаждение, распаляемоестоящими перед ним преградами. А в наслаждении и нужна пряность и жгучесть.И в чем нет ранящих стрел и огня, то совсем не любовь. Щедрость женщин взамужестве чересчур расточительна, и она притупляет жало влечения и желаний.Поглядите, какие старания приложили в своих законах Ликург [51] и Платон,чтобы избежать этой помехи.
Женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчинятьсяправилам поведения, установленным для них обществом, — ведь эти правиласочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин. Вот почему у них снами естественны и неминуемы раздоры и распри, и даже самое совершенноесогласие между ними и нами — в сущности говоря, чисто внешнее, тогда каквнутри все бурлит и клокочет. По мнению нашего автора [52], мы ведем себя поотношению к женщинам до последней степени неразумно. Ведь мы хорошо знаем поличному опыту, до чего они ненасытней и пламенней нас в любовных утехах, —тут и сравнивать нечего! — Ведь мы располагаем свидетельством того жрецадревности, который бывал поочередно то мужчиной, то женщиной,
- Venus huic erat utraque nota. [53]
Ведь мы слышали, кроме того, из их собственных уст одобрительные отзывыоб императоре, а также императрице римских, живших в разное время, но равнопрославленных своими великими достижениями в этом деле (он в течение ночилишил девственности десяток сарматских пленниц, а она за одну ночь двадцатьпять раз насладилась любовью, меняя мужчин соответственно своим нуждам исвоему вкусу) [54],
- adhuc ardens rigidae tentigine vulvae,
- Et lassata viris, nondum satiata, recessit. [55]
Ведь в связи с процессом, начатым в Каталонии одной женщиной, — онажаловалась на чрезмерное супружеское усердие своего мужа, к чему еепобудило, по моему разумению, не столько то, что оно было и вправду ей втягость (я верую лишь в те чудеса, которые признает наша религия), сколькожажда свергнуть и обуздать под этим предлогом власть мужей над их женамидаже в том, что есть первейшее и важнейшее в браке, и показать, что женскойзлобности и сварливости нипочем даже брачное ложе и они попирают все, чтоугодно, вплоть до радостей и услад Венеры; на каковую жалобу муж этойженщины (человек и впрямь распутный и похотливый) ответил, что даже впостные дни он не может обойтись самое малое без десятка сближений со своейженой, — ведь в связи с этим процессом последовал знаменательный приговор,вынесенный королевой Арагонской и гласивший, что после обстоятельногообсуждения этого вопроса Советом славная королева, дабы преподать четкиеправила и показать впредь и навеки образец сдержанности и скромности,требующихся во всяком честном брачном союзе, повелела, имея в видуустановить законный и необходимый предел, чтобы число ежедневных сближениймежду супругами ограничивалось шестью, ибо, значительно преуменьшая иурезывая истинные потребности и желания своего пола, она, по ее словам, темне менее решилась навести в этом деле порядок и ясность, а стало быть, идостигнуть в нем устойчивости и неизменности [56]. Ведь о том же толкуют всвоих сочинениях и ученые, обсуждая, каким должно быть влечение илюбострастие женщин, поскольку их разум, нравственное самоусовершенствованиеи добродетели кроятся по той же мерке, и приводя разнообразнейшие суждениякасательно их и нашего любострастия. И, наконец, нам также отлично известно,что глава законоведов Солон допускал самое большее три сближения в месяц, даи то, чтобы не последовало окончательного разрыва между супругами [57].
Лично удостоверившись в этом и прочитав все эти и подобные имнаставления, мы все же назначили в удел женщинам какое-то особо строгоевоздержание и к тому же под страхом наитягчайшего и беспощадного наказания.
Нет страсти более неистовой и неотвязной, чем эта; а мы хотим, чтобыони одни сопротивлялись ей не попросту как пороку, для которого существуетсвоя определенная мера, но видели в ней предельную гнусность и святотатство,нечто еще более отвратительное, чем безверие или смертоубийство, тогда какмы сами предаемся ей, не впадая в грех и не заслуживая даже упрека. Иные изнашего брата пытались справиться с нею, и из их признаний достаточно ясно,насколько трудно или, правильнее сказать, невозможно, даже прибегая кразличным вспомогательным средствам, смирить, ослабить и охладить плоть. Мыже, напротив, хотим, чтобы наши женщины были здоровыми, крепкими, всегданаготове нам услужить, упитанными и вместе с тем целомудренными, то есть,чтобы они были одновременно и горячими и холодными; а между тем, хотя мыутверждаем, что назначение брака — препятствовать женщинам пылать, он,вследствие принятых у нас нравов, дает им не очень-то много возможностейохладиться. Если они выходят замуж за человека, в котором еще кипят силымолодости, он пустится добывать себе славу, растрачивая их в другом месте:
- Sit tandem pudor, aut eamus in ius:
- Multis mentula millibus redempta,
- Non est haec tua, Basse; vendidisti. [58]
Жена философа Полемона справедливо подала на него в суд за то, что онпринялся засевать бесплодную ниву тем семенем, которым ему надлежалозасевать плодоносную. Если же супруг — человек пожилой и расслабленный, тожена, пребывая в замужестве, оказывается в положении не в пример худшем, чемдевица или вдова. Мы считаем ее полностью обеспеченной всем, что ей нужно,раз возле нее — законный супруг, подобно тому как римляне сочли весталкуКлодию Лету оскверненной и обесчещенной только лишь потому, что к нейприблизился Калигула, хотя и было доказано, что он к ней даже не прикасался [59]; между тем в действительности это лишь распаляет желания женщины, ибоприкосновение и постоянное присутствие рядом с нею мужчины, кем бы он нибыл, возбуждает в ней чувственность, которая была бы спокойнее, оставайсяона в одиночестве. Весьма возможно, что, стремясь возвысить посредствомэтого обстоятельства и всего сопряженного с ним заслугу жить в воздержании,польский король Болеслав и его жена Кинга и дали на брачном ложе в деньсвоей свадьбы по обоюдному согласию обет целомудрия и ни разу его ненарушили вплоть до того времени, пока в них не угасло супружеское влечение [60].
Мы воспитываем наших девиц, можно сказать, с младенчества исключительнодля любви: их привлекательность, наряды, знания, речь, все, чему их учат,преследует только эту цель и ничего больше. Их наставницы не запечатлевают вих душах ничего, кроме лика любви, хотя бы уже потому, что без усталитвердят поучения, рассчитанные на то, чтобы внушить им отвращение к ней. Моядочь (она у меня единственная) в таком возрасте, в каком законы допускаютзамужество для наиболее пылких из них; но она, что называется, развитиязапоздалого, тоненькая и хрупкая, и к тому же взращена матерью в полномуединении и под неослабным надзором, так что только-только начинаетосвобождаться от детской бесхитростности и непосредственности. Так вот,как-то при мне она читала вслух французскую книгу. В ней встретилось некоеслово, которым называют широко известное дерево. Так как это слово похоже наодно непристойное, женщина, приставленная наблюдать за поведением моейдочери, внезапно и чересчур резко оборвала ее и заставила пропустить этоопасное место. Я предоставил ей действовать по своему усмотрению, чтобы ненарушать принятых у них правил, — я никогда не вмешиваюсь в дела по ихведомству: женскому царству присущи свои таинственные особенности, которыхнам лучше не касаться. Но, если не ошибаюсь, общение с двадцатью слугами втечение полугода не могло бы с такой четкостью запечатлеть в ее воображениии самое слово и понимание, что именно обозначают эти преступные слоги икакие следствия оно влечет за собой, как это сделала славная старая женщинасвоим окриком и запрещением.
- Motus doceri gaudet Ionicos
- Matura virgo, et frangitur artubus
- Iam nunc, et incestos amores,
- De tenero meditatur ungui. [61]
Пусть они отбросят стеснение и развяжут свои язычки, и сразу же намстанет ясно, что в познаниях этого рода мы по сравнению с ними сущие дети.Послушайте, как они судачат о наших ухаживаниях и о разговорах, которые мы сними ведем, и вы поймете, что мы не открываем им ничего такого, чего бы онине знали и не переварили в себе без нас. Уж не потому ли, что они были впрежнем существовании, как объясняет Платон, развращенными юношами? [62]Моим ушам случилось однажды оказаться в таком укромном местечке, в которомони могли не пропустить ни одного слова из того, что говорили между собоюнаши девицы, не подозревал, что их кто-то подслушивает; но разве я могу этопересказать? Матерь божья! — подумал я, — если мы теперь начнем изучатьпохвальбу Амадиса и иные описания Боккаччо и Аретино [63], чтобы казатьсялюдьми понаторевшими в подобных делах, это будет просто потеря времени! Неттаких слов, примеров, уловок, которых они не знали бы лучше, чем все нашикниги: это — наука, рождающаяся у них прямо в крови,
- Et mentem Venus ipsa dedit, [64]
и ее непрерывно нашептывают им и вкладывают в их душу такие искусныеучителя, как природа, молодость и здоровье; им не приходится даже изучать,они сами ее творят.
- Nec tantum niveo gavisa est ulla columbo
- Compar, vel si quid dicitur improbius,
- Oscula mordenti semper decerpere rostro.
- Quantum praecipue multivola est mulier. [65]
Если бы это вложенное в них природой неистовство страсти несдерживалось страхом и сознанием своей чести, которые им постаралисьвнушить, то мы были бы опозорены ими. Всякое побуждение в нашем миренаправлено только к спариванию и только в нем находит себе оправдание: этимвлечением пронизано решительно все, это средоточие, вокруг которого всевращается. И посейчас еще мы можем ознакомиться с распоряжениями древнегомудрого Рима, составленными на потребу любви, а также с предписаниямиСократа касательно обучения куртизанок:
- Nec non libelli Stoici inter sericos
- Iacere pulvillos amant. [66]
Зенон в составленных им законах поместил правила о положении ног инеобходимых телодвижениях при лишении девственности. А что содержала в себекнига философа Стратона «О плотском соединении»? А о чем толковал Теофраст всвоих сочинениях, озаглавленных им: одно — «Влюбленный», второе — «О любви»?А о чем Аристипп в своем «О наслаждениях древности»? А на что иное притязаетПлатон в своих пространных и столь живых описаниях самых изощренных любовныхутех его времени? А книга «О влюбленном» Деметрия Фалерского? А «Клиний, илиПоневоле влюбленный» Гераклида Понтийского? А сочинение Антисфена «О том,как зачинать детей, или О свадьбе» или еще «О повелителе или любовнике»? ААристона «О любовных усилиях»? А Клеанфа: одно — «О любви» и другое — «Обискусстве любить»? А «Диалоги влюбленных» Сфера и «Сказка о Юпитере и Юноне»Хрисиппа, бесстыдная до невозможности, равно как и его «Пятьдесят писем»,сплошь заполненных непристойностями? Не стану называть сочиненияфилософов-эпикурейцев, о которых и говорить нечего. В былые временанасчитывалось до полусотни божеств, покровительствовавших этому делу иобязанных всячески его пестовать; а был и такой народ, который, чтобысмирять похоть тех, кто приходил помолиться, содержал при своих храмах девоки мальчиков, дабы ими мог насладиться всякий и всем вменялось в обязанностьсначала сблизиться с ними и лишь после этого можно было присутствовать приобряде богослужения [67].Nimirum propter continentiam incontinentia necessaria est; incendiumignibus extinguitur [68]. В большинстве странмира эта часть тела обожествлялась. В одной и той же области одни изрезывалиее, чтобы предложить богам в качестве посвятительной жертвы кусочек от ееплоти, другие в качестве такой же посвятительной жертвы предлагали им своесемя. А в другом краю молодые мужчины на глазах у всех протыкали ее и,проделав в разных местах отверстие между кожей и мясом, продевали в этиотверстия такие длинные и толстые прутья, какие только были в состояниивытерпеть; позднее они складывали из этих прутьев костер, посвящая его своимбожествам, и те юноши, которых подавляла эта невероятно жестокая боль,почитались малосильными и недостаточно целомудренными. В других местахверховного жреца чтили и узнавали по этим частям и при совершении многихрелигиозных обрядов с превеликой торжественностью несли в честь различныхбожеств изображение детородного члена.
Египтянки на празднике вакханалий также носили на шее его деревянноеизображение, сделанное весьма искусно, большое и тяжелое, каждая по своимсилам, и, кроме того, на статуе их главного бога он был настолько большим,что превосходил своими размерами его тело.
В нашей округе замужние женщины сооружают из своей головной повязкинечто весьма похожее на него, и эта вещь свисает у них на лбы; делают ониэто затем, чтобы прославить его за наслаждения, которые он им доставляет;овдовев, они помещают эту вещицу сзади и прячут ее под прической.
Честь подносить богу Приапу цветы и венки предоставлялась тем изримских матрон, которые отличались чистотой нравов и безупречным образомжизни, а на его срамные части сажали обыкновенно девственниц при ихвступлении в брак. Не знаю, не довелось ли и мне в свое время наблюдатьнечто похожее на этот благочестивый обряд. А каково назначение тойпрезабавной шишки на штанах наших отцов, которую мы еще и теперь видим унаших швейцарцев? И к чему нам штаны — а такие мы носим ныне, — под которымиотчетливо выделяются наши срамные части, частенько, что еще хуже, при помощилжи и обмана превышающие свою истинную величину?
Мне хочется верить, что этот покрой одежды был придуман в лучшие иболее совестливые века, с тем, чтобы не вводить в заблуждение людей и чтобыкаждый у всех на глазах честно показывал, чем именно он владеет. Болеебесхитростные народы и посейчас еще в этом случае точно воспроизводятдействительность. Тогда это было попросту меркою для портных, подобно томукак теперь им нужны размеры руки и ноги.
Тот простак [69], который в дни моей юности оскопил в своем великом иславном городе множество великолепнейших древних статуй, чтобы они невводили в соблазн наши глаза, разделяй он полностью мнение другого простака,на этот раз древнего, —
- Flagitii principium est nudare inter cives corpora [70] —
должен был сообразить, — ведь на таинствах Доброй богини [71] все, дажеотдаленно напоминавшее мужское начало, решительно устранялось, — что незачембыло и браться за это дело, раз он не повелел оскопить также и жеребцов, иослов, и, наконец, самое природу:
- Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque,
- Et genus aequoreum, pecudes, pictaeque volucres,
- In furias ignemque ruunt. [72]
Боги, как говорит Платон, снабдили нас членом непокорным исамовластным, который, подобно дикому зверю, норовит, побуждаемый ненасытноюжадностью, подмять под себя все и вся. Точно так же одарили они и женщинживотным прожорливым и вечно голодным, которое, если ему не дать вположенный срок потребной для него пищи, приходит в ярость и, сгорая отнетерпения, а также заражая своим бешенством их тела, препятствуетправильному движению соков, приостанавливает дыхание и вызывает тысячивсевозможных недугов, пока не проглотит плод, являющийся предметом общего имвсем вожделения, и он, обильно оросив дно их матки, не оставит в ней семени.
Моему законодателю подобало бы догадаться, что было бы, пожалуй, болеецеломудренным и полезным знакомить женщин с тем, что у нас есть на деле, чемдопускать их строить на этот счет всяческие догадки в меру смелости иживости их воображения. Не имея точного представления об этих вещах, они,подстрекаемые желанием и мечтами, рисуют себе нечто чудовищное, втроебольшее против действительности. Один мой знакомый погубил себя тем, чтопозволил рассмотреть некую часть своего тела при таких обстоятельствах,которые не допускали ни малейшей возможности использовать ее настоящим иболее существенным образом.
А мало ли зла приносят изображения, оставляемые мальчишками, снующими впроходах и на лестницах общественных зданий? Они-то и порождают тоубийственное презрение, которое питают наши девицы к этой мужскойпринадлежности, если она обычной величины. Кто знает, не имел ли в видуПлатон именно это, когда предписал, по примеру других благоустроенныхгосударств, чтобы мужчины и женщины, старые и молодые, присутствовали в егогимнасиях на виду друг у друга совершенно нагими [73]. Индианок, которыевсегда видят мужчин, что называется, в чем мать родила, это зрелищенисколько не распаляет и оставляет спокойными. Женщины великого царства Пегуспереди прикрываются лишь ниспадающим с пояса крошечным лоскутком, к тому женастолько узким, что, как ни стараются они ходить возможно пристойнее, их накаждом шагу видят такими, как если бы на них ничего не было. Они утверждают,что это придумано с тем, чтобы привлекать мужчин к женскому полу и отвлекатьот их собственного, к чему этот народ чрезвычайно привержен. Но, по-моему,можно решительно утверждать, что женщины от этого остаются скорее впроигрыше, нежели в выигрыше, поскольку вовсе не утоленный голод ощущаетсяострее, чем утоленный наполовину, хотя бы одними глазами [74]. Говорила жеЛивия [75], что нагой мужчина для порядочной женщины не что иное, какстатуя. Спартанские женщины, более целомудренные, чем наши девицы,каждодневно видели молодых людей своего города обнаженными, когда тепроделывали телесные упражнения, да и сами не очень-то следили за тем, чтобыих бедра при ходьбе были надежно прикрыты, находя, как говорит Платон [76],что они достаточно прикрыты своей добродетелью и поэтому ни в чем другом ненуждаются. Но те, о которых говорит св. Августин [77], те и впрямь считалиискушение, исходящее от наготы, наделенным поистине колдовской силой ивыражали в связи с этим сомнение, воскреснут ли женщины, чтобы предстать наСтрашном суде, сохраняя свой собственный пол, или же сменят его на наш, дабыне искушать нас в этом царстве блаженных.
Короче говоря, женщин соблазняют, их распаляют всеми возможнымисредствами: мы без конца горячим и будоражим их воображение, а потомжалуемся на их ненасытность. Так давайте признаемся в истине: каждый из насбез исключения сильней страшится позора, который навлекают на него порокиего жены, чем того, что ложится на него из-за его собственных; в большеймере заботится (поразительная самоотверженность!) о совести своейдрагоценной супруги, чем о своей собственной; предпочитает стать вором исвятотатцем, видеть свою жену убийцей и еретичкой, чем допустить, чтобы онане была скромней и чище своего мужа.
Да и они сами охотнее пошли бы в суд, чтобы заработать на жизнь, и навойну — за славою, чем, живя в праздности и посреди наслаждений, спревеликим трудом оберегать самих себя от соблазнов. Разве им невдомек, чтонет такого купца, прокурора, солдата, который не бросил бы своего дела,чтобы погнаться за тем, другим, и что так же поступает и крючник, ичеботарь, как бы они ни были изнурены и истощены работой и голодом?
- Num tu, quae tenuit dives Achoemenes,
- Aut pinguis Phrygiae Mygdonias opes,
- Permutare velis crine Licinniae
- Plenas aut Arabum domos,
- Dum flagrantia detorquet ad oscula
- Cervicem, aut facili saevitia negat,
- Quae poscente magis gaudeat eripi,
- Interdum rapere occupet? [78]
До чего же несправедлива оценка пороков! И мы сами и женщины способнына тысячи проступков, которые куда гаже и гнуснее, чем любострастие; но мырассматриваем и оцениваем пороки не соответственно их природе, аруководствуясь собственной выгодой, от чего и проистекает такая предвзятостьв нашем отношении к ним. Суровость наших понятий приводит к тому, чтоприверженность женщин к названному пороку становится в наших глазахотвратительнее и гаже, чем того заслуживает его сущность, и ведет кпоследствиям еще худшим, чем причина, его породившая. Не знаю, превосходятли подвиги Цезаря и Александра по части проявленной ими стойкости ирешительности незаметный подвиг прелестной молодой женщины, воспитанной нанаш лад, живущей посреди блеска и суеты света, подавляемой столькимипримерами противоположного свойства и все же не поддающейся натиску тысячинепрерывно и неотступно преследующих ее молодцов. Нет дела более трудного ихлопотливого, чем это ничегонеделанье. Я считаю, что легче носить, неснимая, всю жизнь доспехи, чем тяжкое бремя девственности, а обет безбрачия,на мой взгляд, — самый благородный из всех, ибо он самый тягостный: diabolivirtus in lumbis est [79], говорит св.Иероним.
Итак, наиболее мучительный и суровый долг, какой только можно придуматьдля человека, мы возложили на дам и честь выполнять его предоставили имодним. Это может служить им дополнительным побуждением упорно держаться егои достаточно веским основанием для пренебрежительного отношения к нам и длясведения на нет того преимущества в доблести и добродетели, которое мы, понашему мнению, над ними имеем. Если они хорошенько поразмыслят над этим, тобез труда обнаружат, что из-за этого мы не только их почитаем, но и гораздосильнее любим. Порядочный человек, встретив отказ, не прекратит своихдомогательств, если причина отказа — целомудрие, а не иной выбор. Мы можемсколько угодно клясться, и угрожать, и жаловаться — все ложь; мы любим ихиз-за этого пуще прежнего: нет приманки неотразимее, чем женская скромность,когда она не резка и не мрачна. Упорствовать, столкнувшись с ненавистью илипрезрением, — тупость и подлость; но упорствовать, столкнувшись срешительностью, исполненной добродетели и постоянства, к которымприсоединяется немного благосклонности и признательности, — дело вполнеподходящее для души открытой и благородной. Женщины могут допускать нашиухаживания лишь до определенных пределов и вместе с тем, нисколько не унижаясвоего достоинства, дать нам почувствовать, что отнюдь не гнушаются нами.
Ведь закон, требующий от них, чтобы они питали к нам отвращение за то,что мы поклоняемся им, и ненавидели нас за то, что мы любим их, разумеется,чрезмерно жесток, хотя бы уже потому, что его трудно придерживаться. Почемубы им не выслушивать наши предложения и мольбы, раз они не повинны внарушении долга скромности? Зачем обязательно выискивать в наших словахякобы скрытый в них злонамеренный умысел? Одна королева, наша современница,заметила, что пресекать эти искательства — не что иное, как свидетельствослабости и признание собственной неустойчивости, и что дама, не испытавшаяискушений, не вправе похваляться своим целомудрием.
Границы чести не так уж тесны: ей есть куда отступить, она можеткое-чем поступиться, нисколько не умаляя себя. На окраине ее царствасуществует кое-какое пространство, на деле от нее независимое, для неемаловажное и предоставленное себе самому. Кто смог ее потеснить и принудитьукрыться в ее убежище и твердыне и не удовлетворен своею удачей, тотпоистине не блещет умом. Величие победы измеряется степенью ее трудности. Выхотите знать, какое впечатление оставили в сердце женщины ваши ухаживания иваши достоинства? Соразмеряйте свой успех с ее нравственностью. Иная, даваяочень немного, дает очень много. Значительность благодеяний определяетсятолько усилиями, которые требуются от воли того, кто их оказывает. Остальныесопутствующие благодеянию обстоятельства немы, мертвы и случайны. Дать этонемногое стоит ей больше, чем ее подруге отдать все. Если редкость вообщеспособствует ценности чего бы то ни было, то больше всего в данном случае;думайте не о том, как это немного, а о том, сколь немногие это имеют.Стоимость монеты меняется сообразно чекану и доверию или недоверию к месту,в котором она отчеканена.
Хотя досада и нескромное легкомыслие могут побуждать некоторых крайненеуважительно отзываться о той или иной женщине, все же добродетель и истинавсегда берут верх над подобными толками. И я знаю таких, чье доброе имя втечение долгого времени подвергалось несправедливым нападкам, но в концеконцов они без всяких стараний и хитростей восстановили его и снискаливсеобщее одобрение мужчин исключительно за свое постоянство; ныне всякийубеждается в том, что поверил лжи, и сожалеет об этом; в девичествеповедения несколько подозрительного, они стоят теперь в первом ряду нашихнаиболее почтенных и порядочных женщин. Некто сказал Платону: «Все поносяттебя». — «Пусть себе, — ответил Платон, — я буду жить таким образом, чтозаставлю их изменить свои речи» [80]. Кроме страха господня и награды,обретаемой в доброй славе, которые должны побуждать женщин блюсти себя вчистоте, их приневоливает к тому же и испорченность нашего века, и будь я наих месте, я скорее предпочел бы все, что угодно, чем отдавать свое доброеимя в столь опасные руки. В мое время удовольствие поверять свои любовныетайны (удовольствие, нимало не уступающее отрадам самой любви) мог позволитьсебе только тот, кто располагал верным и единственным другом; ныне жеобычные разговоры в больших собраниях и за столом — это похвальба милостями,вырванными у дам, и тайными их щедротами. Поистине, эти неблагодарные,нескромные и до крайности ветреные люди проявляют величайшую гнусность инизость, позволяя себе так беспощадно терзать, топтать и разбрасывать стольнежные дары женской благосклонности.
Наша чрезмерная и несправедливая нетерпимость к разбираемому порокувызывается самой глупой и беспокойной болезнью, какие только поражаютлюдские души, а именно ревностью.
- Quis vetat apposito lumen de lumine sumi?
- Dent licet assidue, nil tamen inde perit [81]
Она, равно как и зависть, ее сестра, кажутся мне самыми нелепыми извсех пороков. О последней мне сказать нечего: эта страсть, которуюизображают такой неотвязной и мощной, не соблаговолила коснуться меня. Чтоже касается первой, то она мне знакома, хотя бы с виду. Ощущают ее иживотные: пастух Крастис воспылал любовью к одной из коз своего стада, и чтоже! ее козел, когда Крастис спал, боднул его в голову и размозжил ее [82].Подобно некоторым диким народам, мы достигли крайних степеней этой горячки;более просвященные затронуты ею, — что правда, то правда, — но она их незахватывает и не подчиняет:
- Ense maritali nemo confossus adulter
- Purpureo Stygias sanguine tinxit aquas. [83]
Лукулл, Цезарь, Помпеи, Антоний, Катон и другие доблестные мужи былирогаты и, зная об этом, не поднимали особого шума. В те времена нашелся лишьодин дурень — Лепид, — умерший от огорчения, которое ему причинила этанапасть [84].
- Ahi tum te miserum malique fati,
- Quem attractis pedibus, patente porta,
- Percurrent mugilesque raphanique. [85]
И бог в рассказе нашего поэта, застав со своею супругой одного из еедружков, ограничился тем, что пристыдил их обоих,
- atque aliquis de diis non tristibus optat
- Sic fieri turpis; [86]
и он не преминул воспылать от предложенных ею сладостных ласк, сетуятолько на то, что она, видимо, перестала доверять горячности его чувства:
- Quid causas petis ex alto, fiducie cessit
- Quo tibi, diva, mei? [87]
Больше того, она обращается с просьбой, касающейся ее внебрачного сына,
- Arma rogo genitrix nato, [88]
и он охотно выполняет ее; и об Энее Вулкан говорит с уважением:
- Arma acri facienda viro. [89]
Все это полно человечности, превышающей человеческую. Впрочем, этосверхъизобилие доброты я согласен оставить богам:
- nec divis homines componier aequum est. [90]
Хотя вопрос о брачном или внебрачном зачатии прижитых совместно детей ине затрагивает, в сущности, женщин, — не говорю уж о том, что самые суровыезаконодатели, умалчивая о нем в своих сводах, тем самым решают его, — все жеони, неведомо почему, подвержены ревности больше мужчин, и она обитает вних, как у себя дома:
- Saepe etiam Juno, maxima caelicolum,
- Coniugis in culpa flagravit quotidiana. [91]
И когда эти бедные души, слабые и неспособные сопротивляться, попадаютв ее цепкие лапы, просто жалость смотреть, до чего беспощадно она завлекаетих в свои сети и как помыкает ими; сначала она пробирается в них тихой сапойпод личиною дружбы, но едва они окажутся в ее власти, те же причины, которыеслужили основанием для благосклонности, становятся основанием и для лютойненависти. Для этой болезни души большинство вещей служит пищею и лишь оченьнемногие — целебным лекарством. Добродетель, здоровье, заслуги и добраяслава мужа — фитили, разжигающие их гнев и бешенство:
- Nullae sunt inimicitiae, nisi amoris, acerbae. [92]
Кроме того, эта горячка уродует и искажает все, что в них естькрасивого и хорошего, и все поведение ревнивой женщины, будь она хотьвоплощением целомудрия и домовитости, неизменно бывает раздражающенесносным. Неукротимое возбуждение увлекает ревнивцев к крайностям, прямопротивоположным тому, что их породило. Прелюбопытная вещь произошла с однимримлянином — Октавием: предаваясь любовным утехам с Понтией Постумией, он дотого распалился страстью от обладания ею, что стал настойчиво домогаться еесогласия сочетаться с ним браком, и так как она не поддалась на его уговоры,возросшая в нем до последних пределов любовь толкнула его на действия,свойственные жесточайшей и смертельной вражде, — он убил ее [93]. И вообщеобычные признаки этой разновидности любовной болезни, — укоренившаяся всердце ненависть, жажда безраздельно владеть, мольбы и заклинания,
- notumque furens quid femina possit, [94]
и непрерывное бешенство, тем более мучительное, что считается, будтоединственное возможное для него оправдание — это любовное чувство.
Итак, долг целомудрия весьма многогранен и многолик. Хотим ли мы, чтобыженщины держали в узде свою волю? Она — вещь очень гибкая и подвижная ислишком стремительная, чтобы ее можно было остановить. Да и как это сделать,если грезы уносят женщин порою так далеко, что они не в силах от нихотступиться? Как в них, так, пожалуй, и в целомудренной чистоте, — и в нейтоже, — поскольку она женского рода, — нет ничего, что могло бы их защититьот вожделений и желаний. Если мы посягаем лишь на их волю, то многого ли мыэтим достигнем? Представьте себе сонмы таких желаний, наделенныхспособностью лететь, как оперенные стрелы, не глядя перед собой и ни о чемне спрашивая, и готовых вонзиться во всякую, кого только настигнут.
Скифские женщины выкалывали глаза своим рабам и военнопленным, чтобысвободнее и бесстыднее предаваться с ними наслаждениям [95].
Просто ужас, какое великое преимущество — действовать в подходящеевремя! Всякому, кто спросит меня, что всего важнее в любви, я отвечу: уметьвыбрать мгновение; второе по степени важности — то же, и то же самое —третье. Ибо в этом случае все возможно. Мне часто недоставало удачи, нопорою и предприимчивости; сохрани боже от беды тех, кто вздумает посмеятьсянад этим. В наш век нужно побольше напористости, которую молодые люди нашеговремени извиняют свойственной им горячностью чувств, но если женщины ближеприсмотрятся к ней, они обнаружат, что она проистекает скорей из презрения.Я суеверно боялся нанести им оскорбление, и я всей душой уважаю то, чтолюблю. Не говорю уж о том, что это такой товар, который теряет свой блеск итускнеет, если не относиться к нему с должным почтением. Я люблю, чтобы сюдавносилось кое-что от юношеской застенчивости, от робкой и преданнойвлюбленности. Впрочем, не только в этом, я и в другом знаю за собойкое-какие проявления нелепой застенчивости, о которой вспоминает Плутарх [96] и которая омрачала и портила мне жизнь на всем ее протяжении. В общемсвойство это не очень подходит к моему душевному складу, но разве внутри насне сплошные мятежи и раздоры? [97]
Итак, величайшая глупость пытаться обуздать в женщинах то желание,которое в них так могущественно и так естественно. И когда мне доводитсяслышать, как они похваляются тем, что их сердце исполнено девственнойчистоты и холодности, я только посмеиваюсь над ними; они заходят, пожалуй,чересчур далеко. Если это беззубая и одряхлевшая женщина или молодая, новысохшая и чахоточного вида девица, то хотя им не очень-то веришь, их словавсе же до некоторой степени правдоподобны. Но кто из них продолжает дышать идвигаться, те таким отпирательством немало вредят себе, ибо неразумныеоправдания на пользу лишь обвинению. Так, например, один дворянин, мойсосед, которого подозревали в мужском бессилии,
- Languidior tenera cui pendens sicula beta
- Nunquam se mediam sustulit ad tunicam. [98]
по истечении трех или четырех дней после своей свадьбы, желая снять ссебя давнее подозрение, пустился повсюду напропалую божиться, будто бы вминувшую ночь он двадцать раз насладился со своею супругой, что и послужилов дальнейшем к уличению его в полнейшем невежестве по мужской части и красторжению его брака. Я не говорю уж о том, что кичиться своим целомудрием,как упомянутые мной дамы, в сущности, нечего, ибо где же воздержанность идобродетель, если нет побуждений обратного свойства? В таких случаях нужносказать: «Да, мне этого очень хочется, но, тем не менее, я не собираюсьсдаваться». Даже святые, и те говорят не иначе. Само собой разумеется, яимею в виду лишь таких женщин, которые намеренно похваляются своейбесчувственностью и холодностью и, сообщая об этом с серьезным лицом, хотят,чтобы им безоговорочно верили. Ибо, когда на их лицах, вы без труда читаете,что они притворяются, когда произносимые ими слова опровергаются их глазами,когда они изъясняются на своем милом тарабарском наречии, где всешиворот-навыворот и шито белыми нитками, это мне и впрямь по душе. Я верныйпоклонник вольности в обращении и непосредственности; но тут не может бытьсерединки наполовинку: если в них нет настоящего простодушия и ребячливости,они просто нелепы, и дамам неуместно к ним прибегать: в такого рода общенииони немедля переходят в бесстыдство. Уловки и хитрости способны обманутьтолько глупцов. Лжи в этих делах принадлежит почетное место — это окольныйпуть, ведущий нас к истине через заднюю дверь. Но если мы не можем сдержатьженское воображение, чего же мы добиваемся? Внешне целомудренного поведения?Но бывают и такие поступки, которые совершаются без свидетелей, а между темнесут пагубу целомудрию,
- Illud saepe facit quod sine teste facit. [99]
И те, которых мы меньше всего опасаемся, больше всего, пожалуй, идолжны внушать нам опасение:
- Offendor moecha simpliciore minus. [100]
Бывают вещи, которые, не являясь порочными, могут погубитьбеспорочность женщины, и притом даже без ее ведома и соучастия: Obstetrix,virginis cuiusdam integritatem manu velut explorans, sive malevolentia, siveinscitia, sive casu, dum inspicit, perdidit [101]. Иная лишила себя девственностинечаянно, желая в ней убедиться, иная потеряла ее, резвясь.
Мы не сумели бы дать нашим женщинам точного списка поступков, которыедолжны быть для них запретными. Наш закон пришлось бы изложить в общих идостаточно неопределенных выражениях и словах. Созданное нами самимипредставление об их целомудрии просто смешно, ибо наиболее совершенные егообразцы, какими я только располагаю, это Фатуа, жена Фавна, которая, выйдязамуж, ни разу не дала взглянуть на себя ни одному мужчине [102], и женаГиерона, не ощущавшая зловония, исходившего от ее мужа, считая, что этообщее для всех мужчин свойство [103]. Чтобы удовлетворять нас и нравитьсянам, нужно, чтобы женщины не видели и не чувствовали.
Итак, давайте признаем, что основа понимания этого долга заложенаглавным образом в нашей воле. Были мужья, которые претерпели неверность женне только без единого обращенного к ним упрека и оскорбления, но с чувствомглубочайшей признательности и глубочайшего уважения к их добродетели. Иная,дорожа своей честью больше, чем жизнью, отдала ее на поругание бешенойпохоти смертельного врага ее мужа, дабы спасти ему жизнь, и сделала для негото, чего бы никогда не сделала для себя. Здесь не место умножать этипримеры: они слишком возвышенны и слишком прекрасны, чтобы попасть в этотперечень; сохраним их до рассуждений на более благородные темы.
Но что до примеров, подходящих для нашего перечня вещей болеенизменных, то не видим ли мы всякий день женщин, которые отдаются другимтолько ради выгоды, извлекаемой из этого их мужьями, по прямому ихприказанию и при их посредничестве? В древности аргосец Фавлий предложилцарю Филиппу свою жену из тщеславия; из любезности то же сделал и Гальба,пригласивший Мецената отужинать у него в доме; заметив, что гость и его женапринялись тайком переглядываться и объясняться знаками, он откинулся наподушки и сделал вид, будто его одолела дремота, дабы не мешать имстолковаться друг с другом. И сам себя невольно разоблачил, ибо, увидев вэто мгновение, что один из рабов осмелился запустить руку в стоявшее настоле блюдо, он крикнул ему: «Неужели ты не видишь, мошенник, что я сплютолько для Мецената?» [104]
У одной нрав распутный, а воля благонамереннее, чем у другой, внешнепридерживающейся правил приличия. И как мы встречаем таких, которыежалуются, что их обрекли на безбрачие прежде чем они вступили в сознательныйвозраст, точно так же я встречал и немало таких, кто жалуется, и вполнеискренне, что, еще не достигнув сознательного возраста, они уже былиобречены на разврат; причиною этого может быть порочность родителей, илинасилие, или нужда, а она — злая советчица. В Восточных Индиях, гдецеломудрие чтут, как нигде, обычай, однако же, допускает, чтобы замужняяженщина отдалась всякому, кто подарит ей за это слона, — и она делает этодаже не без некоторой гордости, что ее оценили так дорого [105].
Философ Федон, происходивший из хорошего рода, после захвата Элиды —его отечества — неприятелем, дабы прокормить себя, занялся тем, что стал заденьги продавать свою юность и красоту всякому, кто желал насладиться ими, иделал это, пока враги не ушли [106]. Солон, как говорят, был в Греции первымзаконодателем, предоставившим женщинам право открыто добывать для себясредства к существованию в ущерб своему целомудрию [107], — обыкновение, пословам Геродота [108], принятое и до Солона во многих других государствах.
Спрашивается к тому же, каковы плоды этой изнурительной заботы оцеломудрии женщин? Ибо, сколь бы справедливой ни была наша страсть уберечьего, нужно выяснить, приносит ли она нам хоть чуточку пользы? Найдется лисреди нас хоть один, кто рассчитывал бы, что при любых стараниях ему удастсясвязать женщин по рукам и ногам?
- Pone seram, cohibe; sed quis custodiet ipsos
- Custodes? Cauta est, et ab illis incipit uxor. [109]
Какими только возможностями не располагают они в наш просвещенный век!
Излишнее любопытство вредит повсюду, но тут оно просто пагубно. Небезумие ли жаждать узнать про беду, если против нее нет лекарства, котороене усугубляло бы и не усиливало ее; если связанный с нею позор увеличиваетсяи разглашается главным образом из-за ревности; если отмщение больше задеваетнаших детей, чем способствует нашему исцелению? Да вы иссохнете и умрете,пытаясь докопаться до столь темной истины! До чего же жалким был удел техмужей моего времени, которым удавалось распутать этот клубок до конца! Еслиосведомляющий об этом несчастье не предлагает одновременно лекарства и своейпомощи, то его сообщение оскорбительно и не столько разоблачает обман,сколько заслуживает удара кинжалом. Над домогающимся улик смеются не меньше,чем над пребывающим в полнейшем неведении. Быть рогоносцем — пятнонесмываемое: к кому оно пристало хоть раз, на том оно остается навеки;отмщение запечатлевает его прочнее, чем самый проступок. Забавно смотреть,как мы извлекаем из тьмы и области неопределенных догадок наши личныегорести, дабы с трагических подмостков трубить о них, и притом горести,которые удручают нас лишь потому, что о них повсюду судачат. Ибо хорошейженой и хорошим браком называют не ту жену и тот брак, которые и впрямьтаковы, но о которых молчат. Нужно как можно искуснее уклоняться от этойдокучной и бесполезной осведомленности. И римляне, возвращаясь изпутешествия, имели обыкновение посылать домой нарочного, чтобы предупредитьо своем прибытии жен и не застать их врасплох; а один народ завел у себяобычай, состоящий в том, что в день свадьбы жрец лишает новобрачнуюдевственности, и делает это затем, чтобы муж, познавая впервые жену, неиспытывал никаких сомнений и не доискивался, досталась ли она емудевственной или же оскверненной какой-либо прежней любовью [110].
Но все только и делают, что толкуют о вашей напасти! Я знаю добруюсотню весьма почтенных людей, которых украшают рога и которые, тем не менее,с достоинством и без особого позора носят их на себе. Порядочного человекажалеют за это, а не поносят и не лишают уважения. Добейтесь того, чтобы вашадобродетель затмевала постигшую вас беду, чтобы честные люди проклиналислучившееся, чтобы ваш оскорбитель содрогался при одной мысли о том, что оннаделал. И затем, — о ком только не говорят того же, начиная снаиничтожнейшего и кончая самым великим?
- Tot qui legionibus imperitavit
- Et melior quam tu multis fuit, improbe, rebus. [111]
Не видишь ли ты, на скольких честных людей выливают в твоем присутствииушаты помоев, не задевая тебя? Неужели ты думаешь, что где-нибудь в другомместе тебя щадят больше, чем их? Но дамы, уж те не пожалеют насмешек! А чтоони в наши дни охотнее подвергают насмешкам, чем мирное и хорошо налаженноетечение супружеской жизни? Каждый из нас сделал кого-нибудь рогоносцем, ноприрода только на том и держится, что уподобляет, уравновешивает и чередует.Широчайшее распространение случаев этого рода должно ослабить в дальнейшемих горечь — ведь они, можно сказать, стали почти обыденны.
Жалкая, однако же, страсть, носящая название ревности, и вдобавок ковсему остальному ею ни с кем не поделишься,
- Fors etiam nostris invidit questibus aures. [112]
Ибо какому другу решитесь вы доверить свои печали? Ведь если он непосмеется над ними, то воспользуется проторенною дорожкой и своеюосведомленностью, чтобы урвать дичины и на свою долю.
Как горести, так и услады супружества благоразумные люди таят про себя.
Среди прочих несносных докук, связанных с положением рогоносца, длялюдей говорливых, вроде меня, одна из главнейших состоит в том, что обычайсчитает мало пристойным и вредным рассказывать в таких случаях кому бы то нибыло обо всем, что знаешь и чувствуешь.
Советовать женщинам то же, чтобы отбить у них вкус к ревности, было бынапрасной потерей времени: их существо настолько пропитаноподозрительностью, тщеславием и любопытством, чтобы исцелить их обычнымисредствами — на это нечего и надеяться. Нередко они все же справляются сэтим недугом и обретают здоровье, но это здоровье такого рода, что егоследует бояться пуще самой болезни. Ибо подобно тому, как иные заговоры изаклинания не могут помочь беде иначе, как переложив ее на другого, так иони, освободившись от этой горячки, нередко заражают ею своих мужей. Как бытам ни было, по совести говоря, я не знаю, можно ли натерпеться от женщинчего-либо горшего, нежели ревность: это самое опасное из их качеств, подобнотому как в их естестве самое опасное — голова. Питтак говорил, что у всякогонайдется своя напасть, а у него — дурная голова его женушки; не будь этого,он почитал бы себя счастливым во всех отношениях [113]. Это очень тяжелоебремя, и если столь справедливый, мудрый и доблестный человек находил, чтооно ему портит жизнь, то что же тут делать нашему брату — мелким и жалкимлюдишкам?
Сенат Марселя был вполне прав, удовлетворив ходатайство того горемыки,который просил разрешить ему покончить с собой, чтобы избавиться от грома имолний, извергаемых на него женою [114]; с этим злом и впрямь неразделаться, пока не разделаешься с тем, в чем оно коренится, — и тут ненайти другого решения, кроме бегства или многострадального существования,хотя и первое и второе — вещи весьма тягостные.
Тот, кто сказал, что удачные браки заключаются только между слепоюженой и глухим мужем, поистине знал толк в этих делах [115].
Подумаем над тем, не порождают ли крайне стеснительные и суровыеобстоятельства, насильственно возлагаемые нами на женщин, последствиядвоякого рода, равно противоположные нашей цели, а именно: не распаляют лиони любителей прекрасного пола и не толкают ли женщин сдаваться с большеюлегкостью на их домогательства; ибо, что касается первого, то чем выше мыценим крепость, тем сильнее жаждем овладеть ею и тем выше оцениваем победу.И не сама ли Венера хитроумно набила цену на свой товар, столкнувшись сзаконами, чтобы они объявили его запретным, хорошо зная, до чего преснынаслаждения тех, кто не умеет сдабривать их фантазией и придавать импряность? В конце концов, лишь подливка разнообразит все ту же свинину, какговорил хозяин Фламиния [116]. Купидон — вероломный бог: он забавляется,совращая благочестие и справедливость; его слава на том и основывается, чтоего могущество сокрушает любое другое могущество и что никто не смеетпротивиться его законам.
- Materiam culpae prosequiturque suae. [117]
Что до второго, то не носили ли бы мы меньше рогов, если бы меньшестрашились их, раз уж женщины устроены таким образом, что запретное лишьразжигает и манит их?
Какое лучшее истолкование могли бы мы дать поведению Мессалины? [120]Вначале она наставляла своему супругу рога тишком и тайком, как это обычнопроделывается. Но, заводя свои связи, вследствие его тупости, с чрезмернойлегкостью и простотой, она вскоре прониклась презрением к своему образудействий. И вот она стала расточать свою любовь безо всякой опаски, нескрывать имена любовников, содержать их и оказывать им благосклонность наглазах всех и каждого. Ей хотелось расшевелить своего мужа. Но это животное,несмотря ни на что, не могло пробудиться от своей спячки, и когда еенаслаждения на стороне сделались вялыми и потускнели из-за той постыднойбеспечности, с какою, казалось, он им попустительствовал и узаконивал их,как же она поступила? Жена императора, при живом и здоровом муже, и притом вРиме, перед всем светом, во время торжеств по случаю народного празднества,она среди бела дня, в полуденный час, когда ее муж был вне города,сочеталась браком, и притом с Силием, с которым у нее давно была близость.Нельзя ли предположить, что из-за равнодушия мужа она в конце концов сталабы целомудренной или нашла бы другого мужа, который своей ревностью распалилбы в ней страсть к нему и, донимая ее, возбуждал? Но первое препятствие,которое она встретила, оказалось и последним. Это животное внезапнопроснулось. Шутки с такими тугоухими бывают нередко плохими. Мне самомудовелось видеть, как доведенное до столь крайних пределов терпение, когдаоно лопается, сменяется необузданной мстительностью, ибо, вспыхивая вмгновенье ока, гнев и бешенство, сплетаясь в один клубок, обрушиваются всемисвоими силами на первое, что попадается на их пути,
- irarumque omnes effundit habenas. [121]
Он приказал ее умертвить, а вместе с нею и всех тех, с кем она зналась,и среди них даже такого, который перестал быть мужчиной и которого оназагоняла к себе на ложе только хлыстом.
Рассказанное Вергилием о Венере и Вулкане рассказал в болееблагопристойных словах и Лукреций, повествующий о ее тайных любовных утехахс Марсом:
- belli fera moenera Mavors
- Armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se
- Reiicit, aeterno devinctus vulnere amoris:
- Pascit amore avidos inhians in te, dea, visus,
- Eque tuo pendet resupini spiritus ore.
- Hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto
- Circumfusa super, suaves ex ore loquelas
- Funde. [122]
Когда я перебираю в памяти эти reiicit, pascit, inhians, molli, fovet,medullas, labefacta, pendet, percurrit и это благородное circumfusa, матьпрелестнейшего infusus [123], я испытываю презрение к тем мелочнымвыкрутасам и словесным намекам, которые появились позднее. Этим славнымлюдям минувших времен не требовалось острых и изысканных выдумок; их языкполнится и переливается через край естественной и неиссякаемой мощью; все уних — эпиграмма; все, а не только хвост, — и голова, и желудок, и ноги.Ничто здесь не притянуто за волосы, ничто не волочится, — все выступаетразмеренным шагом. Contextus totus virilis est; non sunt circa flosculosoccupati [124]. Это не вялое красноречие, которое всего лишь терпимо, но могучее иубедительное, — оно не столько нас услаждает, сколько воодушевляет иувлекает, и больше всего увлекает умы наиболее сильные. Когда яприсматриваюсь к столь примечательным способам выражаться так живо иглубоко, я не называю это «хорошо говорить», но называю «хорошо мыслить».Неукротимость воображения — вот что возвышает и украшает речь. Pectus estquod disertum facit [125]. Нашилюди зовут голое суждение — речью и остроумием — плоские измышления. Нокартины древних обязаны своей силой не столько ловкой и искусной руке,сколько тому, что изображаемые ими предметы глубоко запечатлелись в ихдушах. Галл говорит просто, потому что и мыслит просто [126]. Гораций никоимобразом не довольствуется поверхностными, внешне красивыми выражениями; онипредали бы его. Его взгляд яснее и проникает вещи насквозь; его умобыскивает и перерывает весь запас слов и образов, чтобы облечься в них; иони ему нужны не обыденные, потому что не обыденны и творения его мысли.Плутарх говорил, что он видит латинский язык через вещи; здесь то же самое:разум освещает и порождает слова — не подбитые ветром, но облеченные плотью.Они обозначают больше того, что высказывают. Даже самые заурядные люди имеютоб этом кое-какое смутное представление: так, например, в Италии я говорилвсе, что мне вздумается, в обычных беседах по-итальянски; но что касаетсяпредметов глубокомысленных, тут я не решался довериться тому языку, которымя владел не настолько, чтобы выворачивать и сгибать его больше, чем нужно вобычном разговоре. Я хочу располагать возможностью вносить в свою речькое-что и от себя.
Использование и применение языка великими умами придает ему силу иценность; они не столько обновляют язык, сколько, вынуждая его нести болеетрудную и многообразную службу, раздвигают его пределы, сообщают емугибкость. Отнюдь не внося в него новых слов, они обогащают свои, придают имвесомость, закрепляют за ними значение и устанавливают, как и когда ихследует применять, приучают его к непривычным для него оборотам, но действуямудро и проницательно. Как редок подобный дар, можно убедиться на примеремногих французских писателей нашего века. Они достаточно спесивы и дерзки,чтобы идти общей со всеми дорогой, но недостаток изобретательности искромности безнадежно их губит. У них мы замечаем лишь жалкие потуги навычурность и напыщенность, холодную и нелепую, которые, вместо того чтобывозвысить их тему, только снижают ее. Гоняясь за новизной, они и непомышляют о выразительности и ради того, чтобы пустить в оборот новое слово,забрасывают обычное, порою более мужественное и хлесткое [127].
Я нахожу, что сырья у нашего языка вдосталь, хотя оно и не блещетотделкой; ведь чего только ни нахватали мы из обиходных выражений охоты ивойны — этого обширного поля, откуда было что позаимствовать; к тому же, припересадке на новую почву формы речи, подобно растениям, улучшаются инабираются сил. Итак, я нахожу наш язык достаточно обильным, но недостаточнопослушливым и могучим. Под бременем сильной мысли, он, как правило,спотыкается. Когда, оседлав его, вы несетесь во весь опор, то все времяощущаете, что он изнемогает и засекается, и тогда на помощь вам приходитлатынь, а иным — греческий. Среди слов, только что подобранных мной радиизложения этой мысли, найдутся такие, которые покажутся вялыми ибесцветными, так как привычка и частое обращение некоторым образом принизилии опошлили заложенную в них прелесть. Точно так же и в нашем обыденномпросторечии попадаются великолепные метафоры и обороты, красота которыхначинает блекнуть от старости, а краски тускнеть от слишком частогоупотребления. Но это не отбивает к ним вкуса у каждого, кто наделен острымчутьем, как не умаляет славу старинных писателей, которые, надо полагать, ипридали этим словам их былой блеск.
Науки рассматривают изучаемые ими предметы чересчур хитроумно, и подходу них к этим предметам чересчур искусственный и резко отличающийся отобщепринятого и естественного. Мой паж отлично знаком с любовью и кое-чторазумеет в ней. Но почитайте ему Леона Еврея или Фичино [128]; у нихговорится о нем, его мыслях, его поступках, но тут он решительно ничего неуразумеет. У Аристотеля я обычно не узнаю большинства свойственных мнедушевных движений — их скрыли, перерядив применительно к потребностям школы.Да поможет им в этом бог! Но, занимайся я их ремеслом, я бы оприродил науку,как они онаучивают природу. Так оставим же в покое Бембо и Эквиколу [129]! Когда я пишу, то стараюсь обойтись без книг и воспоминаний о них,опасаясь, что они могут нарушить мой стиль изложения. Признаюсь к тому же,что хорошие авторы, можно сказать, отвлекают меня и отнимают у менясмелость. Я бы охотно последовал примеру того живописца, который, нарисовавкак-то крайне неумело и беспомощно петухов, наказал затем своим подмастерьямне впускать в мастерскую ни одного живого представителя петушиного племени.И чтобы придать себе немного блеску, мне надлежало бы прибегнуть к уловкемузыканта Антинонида, который, когда ему доводилось исполнять свою музыку,устраивал так, чтобы до него или после него собравшихся вдосталь потчевалипением скверных певцов [130].
Но отделаться от Плутарха мне гораздо труднее. Он до того всеобъемлющ итак необъятен, что в любом случае, за какой бы невероятный предмет вы нивзялись, вам не обойтись без него, и он всегда тут как тут и протягивает вамсвою неоскудевающую и щедрую руку, полную сокровищ и украшений. Меня злит,что всякий обращаюшийся к нему бесстыдно его обворовывает, да и я сам, когдабы его ни навестил, не могу удержаться, чтобы не стянуть хотя бы крылышкаили ножки.
Исходя из этих моих намерений, мне легче всего писать у себя, в моемдиком краю, где ни одна душа не оказывает мне помощи и не поддерживает меня,где я обычно не вижусь ни с кем, кто понимал бы латынь своего молитвенника,а тем более по-французски. В другом месте я мог бы написать лучше, но мойтруд был бы меньше моим, а его главнейшая цель и его совершенство в томименно и состоят, чтобы быть моим, и только моим. Я с готовностью исправляюслучайно вкравшуюся ошибку, которых у меня великое множество, так как янесусь вперед, не раздумывая; но что касается несовершенств, для меняобычных и постоянных, то отказываться от них было бы просто предательством.Допустим, что мне сказали бы или я сам себе сказал: «Ты слишком насыщенобразами. Вот словечко, от которого так и разит Гасконью. Вот опасноевыражение (я никоим образом не избегаю тех выражений, которые в ходу нафранцузских улицах: силящиеся побороть с помощью грамматики принятое обычаемзанимаются пустым и бесплодным делом). Вот невежественное суждение. А вотсуждение, противоречащее себе самому. А вот слишком шалое (ты частенькодурачишься; сочтут, что ты говоришь в прямом смысле, тогда как ты шутишь)».На это я бы ответил: «Все это верно, но я исправляю лишь те ошибки, вкоторых повинна небрежность, но не те, что свойственны мне, так сказать, отприроды. Разве я говорю тут иначе, чем всюду? Разве я изображаю себянедостаточно живо? Я сделал то, чего добивался: все узнали меня в моей книгеи мою книгу — во мне».
Но у меня есть склонность обезьянничать и подражать: когда я силилсяписать стихи (а я никогда не писал других, кроме латинских), от них ясноотдавало последним поэтом, которого я читал, и кое-какие из моих первыхопытов изрядно попахивают чужим. В Париже я говорю на несколько ином языке,чем в Монтене. Кого бы я пристально ни рассматривал, я неизбежнозапечатлеваю в себе кое-что от него. Все, что я наблюдаю, то и усваиваю:нелепую осанку, уродливую гримасу, смешные способы выражаться. Так жепороки: и поскольку они, приставая ко мне, цепляются за меня, я бываювынужден стряхивать их. И клятвенные выражения я употребляю чаще изподражания, чем по склонности.
Итак, мне свойственна эта пагубная черта, такая же, как у тех страшныхсвоею величиной и силою обезьян, с которыми царь Александр столкнулся водной из областей Индии. Избавиться от них было бы крайне трудно, если бысвоей страстью перенимать все, что делалось перед ними, они сами недоставили удобного средства к этому. Открыв его, охотники принялись надеватьу них на виду свою обувь, стягивая ее изо всей силы и завязывая ремешкиглухими узлами, закреплять свои головные уборы множеством скользящих завязоки притворно мазать себе глаза клеем, который употребляют для ловли птиц. Ивот обезьяньи повадки обрекли этих неразумных и несчастных тварей на гибель.Они сами себя заклеили, сами себя взнуздали и сами себя удушили [131]. Чтодо способности намеренно воспроизводить чужие движения и чужой голос, — аэто нередко доставляет удовольствие окружающим и вызывает их восхищение, —то ее во мне не больше, чем в любом полене.
Когда я клянусь на свой собственный лад, то не употребляю ничего, кроме«ей-богу», что, по-моему, самая сильная клятва изо всех существующих.Говорят, что Сократ клялся псом, а Зенон прибегал к тому самому выражению,которое и посейчас принято у итальянцев, — я имею в виду «Cappari!»; Пифагорклялся водою и воздухом [132].