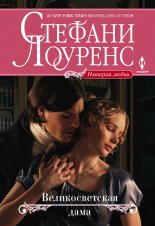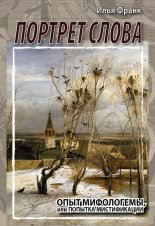Опыты Монтень Мишель

Чтобы добавить еще словечко к сказанному вначале — я не советуюженщинам именовать своей честью то, что в действительности является ихпрямым долгом: ut enim consuetudo loquitur, id solum dicitur honestum quodest populari fama gloriosum [54]; их долг — это, так сказать, сердцевина, их честь — лишьвнешний покров. И я также не советую им оправдывать свой отказ пойти намнавстречу ссылкою на нее, ибо я наперед допускаю, что их склонности, ихжелания и их воля, к которым, пока они не обнаружат себя, честь не имеет нималейшего отношения, еще более скромны, нежели их поступки:
- Quae, quia non liceat, non facit, illa facit. [55]
Желать этого — не меньшее оскорбление бога и собственной совести, чемсовершить самый поступок. И поскольку дела такого рода прячутся ото всех итворятся тайно, то, не чти женщины своего долга и не уважай они целомудрия,для них не составило бы большого труда начисто скрыть какое-нибудь из них отпостороннего взора и сохранить, таким образом, свою честь незапятнанной.Честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистойсовестью.
Глава XVII
О самомнении
Существует и другой вид стремления к славе, состоящий в том, что мысоздаем себе преувеличенное мнение о наших достоинствах. Основа его —безотчетная любовь, которую мы питаем к себе и которая изображает нас внаших глазах иными, чем мы есть в действительности. Тут происходит то же,что бывает с влюбленным, страсть которого наделяет предмет его обожаниякрасотой и прелестью, приводя к тому, что, охваченный ею, он подвоздействием обманчивого и смутного чувства видит того, кого любит, другим иболее совершенным, чем тот является на самом деле.
Я вовсе не требую, чтобы из страха перед самовозвеличением людипринижали себя и видели в себе нечто меньшее, чем они есть; приговор во всехслучаях должен быть равно справедливым. Подобает, чтобы каждый находил всебе только то, что соответствует истине; если это Цезарь, то пусть он смелосчитает себя величайшим полководцем в мире. Наша жизнь — это сплошная заботао приличиях; они опутали нас и заслонили собой самую сущность вещей.Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней. Мы научилиженщин краснеть при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые имни в какой мере не зазорно; мы не смеем называть своим именем некоторые изнаших органов, но не постыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видамраспутства. Приличия запрещают нам обозначать соответствующими словами вещидозволенные и совершенно естественные — и мы беспрекословно подчиняемсяэтому; разум запрещает нам творить недозволенное и то, что дурно, — и никтоэтому запрету не подчиняется. Я очень явственно ощущаю, насколькостеснительны для меня в данном случае законы, налагаемые приличиями, ибо онине дозволяют нам говорить о себе ни что-либо хорошее, ни что-либо дурное. Нодовольно об этом.
Те, кому их судьба (назовем ее доброю или злою, как вам будет угодно)предоставила прожить жизнь, возвышающуюся над общим уровнем, те имеютвозможность показать своими поступками, которые у всех на виду, что же онипредставляют собой. Те, однако, кому она назначила толкаться в безликойтолпе и о ком ни одна душа не обмолвится ни словечком, если они сами несделают этого, — тем извинительно набраться смелости и рассказать о себе,обращаясь ко всякому, кому будет интересно послушать, и следуя в этомпримеру Луцилия [1]:
- Ille velut fidis arcana sodalibus olim
- Credebat libris, neque, si male cesserat, usquam
- Decurrens alio, neque si bene: quo fit, ut omnis
- Votiva pateat veluti descripta tabella
- Vita senis. [2]
Как видим, он отмечал в своих записях и дела, и мысли свои, рисуя себяв них таким, каким представлялся себе самому: Nec id Rutilio et Scauro citrafidem aut obtrectationi fuit [3].
Вот и я припоминаю, что еще в дни моего раннего детства во мне отмечаликакие-то особые, сам не знаю какие, повадки и замашки, говорившие о пустой инелепой надменности. По этому поводу я прежде всего хотел бы сказатьследующее: нет ничего удивительного, что нам присущи известные свойства инаклонности, вложенные в нас при рождении и настолько укоренившиеся, что мыне можем уже ни ощущать, ни распознавать их в себе; под влиянием такихестественных склонностей мы, сами того не замечая, непроизвольно усваиваемкакую-нибудь привычку. Сознание своей красоты и связанное с этим некотороежеманство явились причиной того, что Александр стал склонять головунесколько набок; они же придали речи Алкивиада картавость и шепелявость;Юлий Цезарь почесывал голову пальцем, а это, как правило, жест человека,одолеваемого тяжкими думами и заботами; Цицерон, кажется, имел обыкновениеморщить нос, что является признаком врожденной насмешливости. Все этидвижения могут совершаться неприметно для нас самих. Но наряду с ними естьдругие, которые мы производим совершенно сознательно и о которых излишнераспространяться; таковы, например, приветствия и поклоны, с помощью которыхнередко добиваются чести, обычно незаслуженной, почитаться человеком учтивыми скромным, причем многих побуждает к этому честолюбие. Я очень охотно,особенно летом, снимаю в знак приветствия шляпу и всякому, кроме находящихсяу меня в услужении, кто подобным образом поздоровается со мной, неизменно,независимо от его звания, отвечаю тем же. И все же я хотел бы высказатьпожелание, обращенное к некоторым известным мне принцам, чтобы они были вэтом отношении более бережливыми и расточали свои поклоны с большимразбором, ибо, снимая шляпу перед каждым, они не достигают того, чего моглибы достигнуть. Если это приветствие не выражает особого благоволения, оно непроизводит должного действия. Говоря о манере держаться, сознательноусваиваемой иными людьми, вспомним о величавой осанке, которой отличалсяимператор Констанций [4]. Появляясь перед народом, он держал голову всевремя в одном положении: закинув ее немного назад, он не разрешал себе ниповернуть ее, ни наклонить, чтобы посмотреть на людей, стоявших на его путии приветствовавших его с обеих сторон; тело его при этом также сохранялополнейшую неподвижность, несмотря на толчки от движения колесницы; он нерешался ни плюнуть, ни высморкаться, ни отереть пот с лица. Не знаю, были лите замашки, которые когда-то отмечали во мне, вложены в меня самой природойи была ли мне действительно свойственна некая тайная склонность к указанномувыше пороку, что, конечно, возможно, так как за движения своего тела яотвечать не могу. Но что касается движений души, то я хочу рассказать здесьс полной откровенностью обо всем, что на этот счет думаю.
Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчурнизкого о других. Что до первого из этих слагаемых, то, поскольку речь идетобо мне, необходимо, по-моему, прежде всего принять во внимание следующее: япостоянно чувствую на себе гнет некоего душевного заблуждения, котороенемало огорчает меня отчасти потому, что оно совершенно необоснованно, а ещебольше потому, что бесконечно навязчиво. Я пытаюсь смягчить его, нополностью избавиться от него я не могу. Ведь я неизменно преуменьшаюистинную ценность всего принадлежащего мне и, напротив, преувеличиваюценность всего чужого, отсутствующего и не моего, поскольку оно мненедоступно. Это чувство уводит меня весьма далеко. Подобно тому как сознаниесобственной власти порождает в мужьях, а порой и в отцах достойное порицанияпренебрежительное отношение к женам и детям, так и я, если передо мной дваприблизительно равноценных творения, всегда более строг к своему. И этопроисходит не столько от стремления к совершенству и желания создать нечтолучшее, не позволяющих мне судить беспристрастно, сколько в силу того, чтообладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему,чем владеешь и что находится в твоей власти. Меня прельщают игосударственное устройство, и нравы дальних народов, и их языки. И язаметил, что латынь, при всех ее несомненных достоинствах, внушает мнепочтение большее, чем заслуживает, в чем я уподобляюсь детям ипростолюдинам. Поместье, дом, лошадь моего соседа, стоящие столько же,сколько мои, стоят в моих глазах дороже моих именно потому, что они не мои.Больше того, я совершенно не представляю себе, на что я способен, ивосхищаюсь самонадеянностью и самоуверенностью, присущими в той или иноймере каждому, кроме меня. Это приводит к тому, что мне кажется, будто япочти ничего толком не знаю и что нет ничего такого, за выполнение чего ямог бы осмелиться взяться. Я не отдаю себе отчета в моих возможностях низаранее, ни уже приступив к делу и познаю их только по результату. Моисобственные силы известны мне столь же мало, как силы первого встречного.Отсюда проистекает, что если мне случится справиться с каким-нибудь делом, яотношу это скорее за счет удачи, чем за счет собственного умения. И это темболее, что за все, за что бы я ни взялся, я берусь со страхом душевным и снадеждой, что мне повезет. Равным образом мне свойственно, вообще говоря,также и то, что из всех суждений, высказанных древними о человеке кактаковом, я охотнее всего принимаю те — и их-то я крепче всего и держусь, —которые наиболее непримиримы к нам и презирают, унижают и оскорбляют нас.Мне кажется, что философия никогда в такой мере не отвечает своемуназначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие,когда она искренне признается в своей нерешительности, своем бессилии исвоем невежестве. И мне кажется, что корень самых разительных заблуждений,как общественных, так и личных, это — чрезмерно высокое мнение людей о себе.Те, кто усаживается верхом на эпицикл [5] Меркурия, чтобы заглянуть вглубины неба, ненавистны мне не меньше, чем зубодеры. Ибо, занимаясьизучением человека и сталкиваясь с таким бесконечным разнообразием взглядовна этот предмет, с таким неодолимым лабиринтом встающих одна за другойтрудностей, с такой неуверенностью и противоречивостью в самой школемудрости, могу ли я верить — поскольку этим людям так и не удалосьпостигнуть самих себя и познать свое естество, неизменно пребывающее у нихна глазах и заключенное в них самих, раз они не знают даже, каким образомдвижется то, чему они сами сообщили движение, или описать и изъяснитьдействие тех пружин, которыми они располагают и пользуются, — могу ли яверить их мнениям о причинах приливов и отливов на реке Нил? Стремлениепознать сущность вещей дано человеку, согласно Писанию, как бич наказующий [6].
Но возвращаюсь к себе. С великим трудом, мне кажется, можно было бынайти кого-нибудь, кто ценил бы себя меньше — или, если угодно, кто ценил быменя меньше, — чем я сам ценю себя. Я считаю себя самым что ни на естьпосредственным человеком, и единственное мое отличие от других — это то, чтоя отдаю себе полный отчет в своих недостатках, еще более низменных, чемобщераспространенные, и нисколько не отрицаю их и не стараюсь придумать дляних оправдания. И я ценю себя только за то, что знаю истинную цену себе.Если во мне и можно обнаружить высокомерие, то лишь самое поверхностное, ипроисходит оно лишь от порывистости моего характера. Но этого высокомерия вомне такая безделица, что оно неприметно даже для моего разума. Оно, таксказать, слегка окропляет меня, но отнюдь не окрашивает [7].
И действительно, что касается порождений моего ума, то, в чем бы они нисостояли, от меня никогда не исходило чего-либо такого, что могло быдоставить мне истинное удовольствие; одобрение же других нисколько не радуетменя. Суждения мои робки и прихотливы, особенно когда касаются меня самого.Я без конца порицаю себя, и меня всегда преследует ощущение, будто япошатываюсь и сгибаюсь от слабости. Во мне нет ничего, способного доставитьудовлетворение моему разуму. Я обладаю достаточно острым и точным зрением,но, когда я сам принимаюсь за дело, оно начинает мне изменять в том, что яделаю. То же самое происходит со мной и тогда, когда я предпринимаюсамостоятельные попытки в поэзии. Я бесконечно люблю ее и достаточно хорошоразбираюсь в произведениях, созданных кем-либо другим, но я становлюсь сущимребенком, когда меня охватывает желание приложить к ней свою руку; в этихслучаях я бываю несносен себе самому. Простительно быть глупцом в чемугодно, но только не в поэзии,
- mediocribus esse poetis
- Non dii, non homines, non concessere columnae. [8]
Хорошо было бы прибить это мудрое изречение на дверях лавок нашихиздателей, дабы преградить в них доступ такой тьме стихоплетов!
- verum
- Nil securius est malo poeta. [9]
Почему нет больше народов, понимающих это так, как тот, о котором будетрассказано ниже? Дионисий-отец [10] ценил в себе больше всего поэта. Однаждыон отправил на Олимпийские игры вместе с колесницами, превосходившими своимвеликолепием все остальные, также певцов и поэтов, повелев им исполнять тамего поэтические произведения; отправляя их, он дал им с собой по-царскироскошные, раззолоченные и увешанные коврами шатры и палатки. Когда дошлаочередь до его стихов, изысканность и красота декламации поначалу привлеклик себе внимание слушателей, но, раскусив, насколько беспомощны и бездарныэти стихи, народ исполнился к ним презрения, а затем, проникаясь все большеи больше досадой, устремился в ярости на шатры и сорвал свою злость,разметав их и изодрав в клочья. И то, что его колесницы также не показали насостязаниях ничего стоящего, и то, что корабль, на котором возвращалисьдомой его люди, не достиг Сицилии и был выброшен на берег и разбит бурейблиз Тарента, тот же народ счел достовернейшим знаком гнева богов,разъяренных, так же как он, плохими стихами. И даже моряки, избежавшие прикораблекрушении гибели, и те держались того же мнения, которое, какказалось, подтверждалось также и оракулом, предсказавшим Дионисию близкуюсмерть в таких выражениях: «Дионисий приблизится к своему концу, победивтех, кто лучше его». Сам Дионисий эти слова истолковал таким образом, будтотут подразумеваются карфагеняне, которые превосходили его своей мощью, и,ведя с ними войны, он нередко умышленно упускал из рук победу иостанавливался на полпути, дабы не попасть в положение, на которое намекалоракул. Но он неправильно истолковал предсказанное, ибо бог имел в видуособые обстоятельства, а именно ту победу, которую он впоследствиинесправедливо и при помощи подкупа одержал над более одаренными, нежели он,трагическими поэтами, поставив свою трагедию «Ленейцы» на драматическомсостязании, происходившем в Афинах. Тотчас же после этой победы он умер, иэто произошло отчасти от охватившей его безмерной радости.
То, что я нахожу в себе извинительным, не является таковым само по себеи не заслуживает, говоря по справедливости, оправдания; оно извинительнолишь в сравнении с еще худшим, что я вижу перед собой и что принимаетсявсеми с одобрением. Я завидую счастью тех, кто умеет радоваться делам руксвоих и испытывать от этого приятное удовлетворение. Ведь это весьма легкийспособ доставлять себе удовольствие, ибо его извлекаешь из себя самого, вособенности если обладаешь известным упорством в своих оценках. Мне знакомнекий поэт, которому и стар и млад, все вместе и каждый в отдельности,словом, и небо и земля, в один голос кричат, что он ровно ничего не смыслитв поэзии. А он тем не менее продолжает мерить себя той же меркой, которуюсебе назначил. Он все снова и снова берется за старое, перекраивает иперерабатывает, и трудится, и упорствует, тем более неколебимый в своихсуждениях, тем более несгибаемый, что твердостью их он обязан лишь себесамому.
Мои произведения не только не улыбаются мне, но всякий раз, как яприкасаюсь к ним, вызывают у меня досаду:
- Cum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno,
- Me quoque, qui feci, iudice, digna lini. [11]
Пред моим мысленным взором постоянно витает идея, некий неотчетливый,как во сне, образ формы, неизмеримо превосходящий ту, которую я применяю. Яне могу, однако, уловить ее и использовать. Да и сама эта идея неподнимается, в сущности, над посредственностью. И это дает мне возможностьувидеть воочию, до чего же далеки от наиболее возвышенных взлетов моеговоображения и от моих чаяний творения, созданные столь великими и щедрымидушами древности. Их писания не только удовлетворяют и заполняют меня; онипоражают и пронизывают меня восхищением; я явственно ощущаю их красоту, явижу ее, если не полностью, не до конца, то во всяком случае в такой мере,что мне невозможно и думать о достижении чего-либо похожего. За что бы я нибрался, мне нужно предварительно принести жертвы грациям, как говоритПлутарх об одном человеке [12], дабы снискать их благосклонность:
- si quid enim placet,
- Si quid dulce hominum sensibus influit,
- Debentur lepidis omnia Gratiis. [13]
Они ни в чем не сопутствуют мне; все у меня топорно и грубо; всемунедостает изящества и красоты. Я не умею придавать вещам ценность свыше той,какой они обладают на деле: моя обработка не идет на пользу моему материалу.Вот почему он должен быть у меня лучшего качества; он должен производитьвпечатление и блестеть сам по себе. И если я берусь за сюжет попроще ипозанимательнее, то делаю это ради себя, ибо мне вовсе не по нутру чопорноеи унылое мудрствование, которому предается весь свет. Я делаю это, чтобыдоставить отраду себе самому, а не моему стилю, который предпочел бы сюжетыболее возвышенные и строгие, если только заслуживает названия стилябеспорядочная и бессвязная речь или, правильнее сказать, бесхитростноепросторечие и изложение, не признающее ни полагающейся дефиниции, ниправильного членения, ни заключения, путаное и нескладное, вроде речейАмафания и Рабирия [14]. Я не умею ни угождать, ни веселить, ни подстрекатьвоображение. Лучший в мире рассказ становится под моим пером сухим, выжатыми безнадежно тускнеет. Я умею говорить только о том, что продумано мноюзаранее, и начисто лишен той способности, которую замечаю у многих моихсобратьев по ремеслу и которая состоит в уменье заводить разговор с первымвстречным, держать в напряжении целую толпу людей или развлекать без усталислух государя, болтая о всякой всячине, и при этом не испытывать недостаткав темах для разглагольствования — поскольку люди этого сорта хватаются запервую подвернувшуюся им, — приспосабливая эти темы к настроениям и уровнютех, с кем приходится иметь дело. Принцы не любят серьезных бесед, а я нелюблю побасенок. Я не умею приводить первые пришедшие в голову и наиболеедоступные доводы, которые и бывают обычно самыми убедительными; о каком быпредмете я ни высказывался, я охотнее всего вспоминаю наиболее сложное извсего, что знаю о нем. Цицерон считает, что в философских трактатах наиболеетрудная часть — вступление [15]. Прав он или нет, для меня лично самоетрудное — заключение. И вообще говоря, нужно уметь отпускать струны долюбого потребного тона. Наиболее высокий — это как раз тот, который режевсего употребляется при игре. Чтобы поднять легковесный предмет, требуетсяпо меньшей мере столько же ловкости, сколько необходимо, чтобы не уронитьтяжелый. Иногда следует лишь поверхностно касаться вещей, а иной раз,наоборот, надлежит углубляться в них. Мне хорошо известно, что большинствусвойственно копошиться у самой земли, поскольку люди, как правило, познаютвещи по их внешнему облику, по коре, покрывающей их, но я знаю также и то,что величайшие мастера, и среди них Ксенофонт и Платон, снисходили нередко книзменной и простонародной манере говорить и обсуждать самые разнообразныевещи, украшая ее изяществом, которое свойственно им во всем.
Впрочем, язык мой не отличается ни простотой, ни плавностью; оншероховат и небрежен, у него есть свои прихоти, которые не в ладу справилами; но каков бы он ни был, он все же нравится мне, если и не поубеждению моего разума, то по душевной склонности. Однако я хорошо чувствую,что иной раз захожу, пожалуй, чересчур далеко и, желая избегнуть ходульностии искусственности, впадаю в другую крайность;
- brevis esse laboro,
- Obscurus fio. [16]
Платон говорит [17], что многословие или краткость не являютсясвойствами, повышающими или снижающими достоинства языка. Отмечу, что всякийраз, когда я пробовал держаться чуждого мне стиля, а именно ровного,единообразного и упорядоченного, я всегда терпел неудачу. И добавлю, чтохотя каденции и цезуры Саллюстия [18] мне более по душе, я все же считаюЦезаря и более великим и менее доступным для подражания. И если моисклонности влекут меня скорее к воспроизведению стиля Сенеки, то это непрепятствует мне гораздо выше ценить стиль Плутарха. Как в поступках, так ив речах я следую, не мудрствуя, своим естественным побуждениям, откуда ипроисходит, быть может, то, что я говорю лучше, чем пишу. Деятельность идвижение воодушевляют слова, в особенности у тех, кто подвержен внезапнымпорывам, что свойственно мне, и с легкостью воспламеняется; поза, лицо,голос, одежда и настроение духа могут придать значительность тем вещам,которые сами по себе лишены ее, — и даже пустой болтовне. Мессала у Тацита [19] жалуется на то, что узкие одеяния, принятые в его время, а такжеустройство помоста, с которого выступали ораторы, немало вредили егокрасноречию.
Мой французский язык сильно испорчен и в смысле произношения и во всехдругих отношениях варварством той области, где я вырос; я не знаю в нашихкраях ни одного человека, который не чувствовал бы сам своего косноязычия ине продолжал бы тем не менее оскорблять им чисто французские уши. И это неоттого, что я так уж силен в своем перигорском наречии, ибо я сведущ в немне более, чем в немецком языке, о чем нисколько не сожалею. Это наречие, каки другие, распространенные вокруг в той или иной области, — как, например,пуатвинское, сентонжское, ангулемское, лимузинское, овернское — тягучее,вялое, путаное; впрочем, повыше нас, ближе к горам, существует ещегасконская речь, на мой взгляд, выразительная, точная, краткая, поистинепрекрасная; это язык действительно мужественный и воинственный в большеймере, чем какой-либо другой из доступных моему пониманию, язык настолько жескладный, могучий и точный, насколько изящен, тонок и богат французскийязык.
Что до латыни, которая в детстве была для меня родным языком [20], то,отвыкнув употреблять ее в живой речи, я утратил беглость, с какою некогдаговорил на ней; больше того, я отвык и писать по-латыни, а ведь в былоевремя я владел ею с таким совершенством, что меня прозвали «учителем Жаном».Вот как мало стою я и в этом отношении.
Красота — великая сила в общении между людьми; это она прежде всегоостального привлекает людей друг к другу, и нет человека, сколь бы диким ихмурым он ни был, который не почувствовал бы себя в той или иной мерезадетым ее прелестью. Тело составляет значительную часть нашего существа, иему принадлежит в нем важное место [21]. Вот почему его сложение иособенности заслуживают самого пристального внимания. Кто хочет разъединитьглавнейшие составляющие нас части и отделить одну из них от другой, теглубоко неправы; напротив, их нужно связать тесными узами и объединить водно целое; необходимо повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в себесамом, не презирал и не оставлял в одиночестве нашу плоть (а он и не мог бысделать это иначе, как из смешного притворства), но сливался с нею в тесномобъятии, пекся о ней, помогал ей во всем, наблюдал за нею, направлял еесвоими советами, поддерживал, возвращал на правильный путь, когда она с негоуклоняется, короче говоря, вступил с нею в брак и был ей верным супругом,так чтобы в их действиях не было разнобоя, но напротив, чтобы они былинеизменно едиными и согласными.
Христиане имеют особое наставление относительно этой связи, ибо онизнают, что правосудие господне предполагает это единение и сплетение тела идуши настолько тесным, что и тело, вместе с душой, обрекает на вечные мукиили вечное блаженство; они знают также, что бог видит все дела каждогочеловека и хочет, чтобы он во всей своей цельности получал по заслугам своимлибо кару, либо награду.
Школа перипатетиков, из всех философских школ наиболее человечная,приписывала мудрости одну-единственную заботу, а именно — печься об общемблаге этих обеих живущих совместною жизнью частей нашего существа иобеспечивать им это благо. Перипатетики полагали, что прочие школы,недостаточно углубленно занимаясь рассмотрением вопроса об этом совместномсуществовании, в равной мере впадали в ошибку, уделяя все свое внимание,одни — телу, другие — душе, и упуская из виду свой предмет, человека, и ту,кого они, вообще говоря, признают своей наставницей, то есть природу. Весьмавозможно, что преимущество, даруемое нам природой в виде красоты, и повело кпервым отличиям между людьми и к тому неравенству среди них, из которого ивыросло преобладание одних над другими:
- agros divisere atque dedere
- Pro facie cuiusque, et viribus ingenioque:
- Nam facies multum valuit viresque virebant. [22]
Что до меня, то я немного ниже среднего роста. Этот недостаток нетолько вредит красоте человека, но и создает неудобство для всех тех, комусуждено быть военачальниками и вообще занимать высокие должности, ибоавторитетность, придаваемая красивой внешностью и телесной величавостью, —далеко не последняя вещь. Гай Марий [23] с большой неохотой принимал в армиюсолдат ростом менее шести футов. «Придворный» [24] имеет все основаниявысказывать пожелание, чтобы дворянин, которого он воспитывает, был скорееобычного роста, чем какого-либо иного; он прав также и в том, что не хочетвидеть в нем ничего из ряда вон выходящего, что подавало бы повод указыватьна него пальцем. Но если и нужна золотая середина, то в случае необходимостивыбора между отклонениями в ту или другую сторону я предпочел бы — если быречь шла о человеке военном, — чтобы он был скорее выше, чем ниже среднегороста. Люди низкого роста, говорит Аристотель [25], могут быть оченьмиловидными, но красивыми они никогда не бывают; в человеке большого ростамы видим большую душу, как в большом, рослом теле — настоящую красоту.Индийцы и эфиопы, говорит тот же автор [26], избирая своих царей иправителей, обращали внимание на красоту и высокий рост избираемых. И онибыли правы, ибо, если во главе войска находится вождь могучего и прекрасноготелосложения, его почитают те, кто идет за ним, и страшатся враги:
- Ipse inter primos praestanti corpore Turnus
- Vertitur, arma tenens, et toto vertice supra est. [27]
Наш великий, божественный и небесный царь, каждая мысль которого должнабыть тщательно, благочестиво и благоговейно принимаема нами, не пренебрегтелесной красотой: speciosus forma prae filiis hominum [28].
Также и Платон наряду с умеренностью и твердостью требует, чтобыправители его государства обладали красивой наружностью [29]. Чрезвычайнодосадно, если, видя вас среди ваших людей, к вам обращают вопрос: «А где жеваш господин?», и если на вашу долю приходятся лишь остатки поклонов,расточаемых вашему цирюльнику или секретарю, как это случилось с беднягойФилопеменом [30]. Однажды он прибыл раньше сопровождавших его в тот дом, гдеего ожидали, и хозяйка, не зная его в лицо и видя, до чего он невзраченсобой, велела ему помочь служанкам натаскать воду и разжечь огонь, чтобыуслужить Филопемену. Лица, состоявшие в его свите, прибыв туда и застав егоза этим приятным занятием, — ибо он счел необходимым повиноватьсяполученному им приказанию, — спросили его, что он делает. «Я расплачиваюсь, — сказал он в ответ, — за мое уродство». Красота всех частей тела нужнаженщине, но красота стана — единственная, необходимая мужчине. Там, гденалицо малый рост, там ни ширина и выпуклость лба, ни белизна глазного белкаи приветливость взгляда, ни изящная форма носа, ни небольшие размеры рта иушей, ни ровные и белые зубы, ни равномерная густота каштановой бороды, никрасота ее и усов, ни округлая голова, ни свежий цвет лица, ни благообразиечерт его, ни отсутствие дурного запаха, исходящего от тела, нипропорциональность частей его не в состоянии сделать мужчину красивым.
В остальном я сложения крепкого и, что называется, ладно скроен; лицо уменя не то чтобы жирное, но достаточно полное; темперамент — нечто среднеемежду жизнерадостным и меланхолическим, я наполовину сангвиник, наполовинухолерик:
- Unde rigent setis mihi crura, et pectora villis; [31]
здоровье у меня крепкое, и я неизменно чувствую себя бодрым и, хотя яуже в годах, меня редко мучили болезни. Таким, впрочем, я был до сих пор,ибо теперь, когда перейдя порог сорока лет, я ступил уже на тропу, ведущую кстарости, я больше не считаю себя таковым:
- minutatim vires et robur adultum
- Frangit, et in partem peiorem liquitur aetas. [32]
То, что ожидает меня в дальнейшем, будет не более чем существованиемнаполовину; это буду уже не я: что ни день, я все дальше и дальше ухожу отсебя и обкрадываю себя самого:
- Singula de nobis anni praedantur euntes. [33]
Что до ловкости и до живости, то их я никогда не знал за собой. Я — сынотца, поразительно живого и сохранявшего бодрость вплоть до глубокойстарости. И не было человека его круга и положения, который мог бысравняться с ним в телесных упражнениях разного рода, в чем бы они нисостояли; точно так же не было человека, который не превзошел бы меня в этомделе. Исключение составляет, пожалуй, лишь один бег: тут я был в числесредних. Что касается музыки, то ни пению, к которому я оказался совершеннонеспособен, ни игре на каком-либо инструменте меня так и не смогли обучить.В танцах, игре в мяч, борьбе я никогда не достигал ничего большего, чемсамой что ни на есть заурядной посредственности. Ну а в плаванье, искусствеверховой езды и прыжках я и вовсе ничего не достиг. Руки мои до тогонеловки, неуклюжи, что я не в состоянии сколько-нибудь прилично писать дажедля себя самого, и случается, что, нацарапав кое-как что-нибудь, япредпочитаю написать то же самое заново, чем разбирать и исправлять своюмазню. Да и читаю вслух я нисколько не лучше: я чувствую, что усыпляюслушателей. Словом, я великий грамотей! Я не умею правильно запечататьписьмо и никогда не умел чинить перья; не умел я также ни подобающим образомпользоваться ножом за едой, ни взнуздывать и седлать лошадь, ни носить наруке и спускать сокола, ни разговаривать с собаками, ловчими птицами илошадьми. Моим телесным свойствам соответствуют в общем и свойства моейдуши. Моим чувствам также неведома настоящая живость, они также отличаютсялишь силой и стойкостью. Я вынослив и легко переношу всякого рода тяготы, новынослив я только тогда, когда считаю это необходимым, и только до тех пор,пока меня побуждает к этому мое собственное желание,
- Molliter austerum studio fallente laborem. [34]
Иначе говоря, если меня не манит предвкушаемое мной удовольствие и еслимной руководит нечто другое, а не моя собственная свободная воля, я ничегоне стою, ибо я таков, что, кроме здоровья и жизни, нет ни одной вещи насвете, ради которой я стал бы грызть себе ногти и которую готов был быкупить ценою душевных мук и насилия над собой,
- tanti mihi non sit opaci
- Omnis arena Tagi, quodque in mare volvitur aurum. [35]
До крайности ленивый, до крайности любящий свободу и по своемухарактеру и по убеждению, я охотнее отдам свою кровь, чем лишний раз ударюпальцем о палец. Душа моя жаждет свободы и принадлежит лишь себе и никомубольше; она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению. Не знаянад собой до этого часа ни начальства, ни навязанного мне господина, ябеспрепятственно шел по избранному мной пути, и притом тем шагом, которыймне нравился. Это меня изнежило и сделало непригодным к службе другому.
У меня не было никакой нужды насиловать мой характер — моютяжеловесность, любовь к праздности и безделью, — ибо, оказавшись со днярождения на такой ступени благополучия, что я счел возможным остановиться наней, и на такой ступени здравомыслия, что это оказалось возможным, я ничегоне искал и ничего не обрел:
- Non agimur tumidis velis Aquilone secundo,
- Non tamen adversis aetatem ducimus Austris:
- Viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re,
- Extremi primorum extremis usque priores. [36]
Я нуждался для этого лишь в одном — в способности довольствоватьсясвоей судьбой, то есть в таком душевном состоянии, которое, говоря поправде, вещь одинаково редкая среди людей всякого состояния и положения, нона практике чаще встречающаяся среди бедняков, чем среди людейсостоятельных. И причина этого, надо полагать, заключается в том, что жаждаобогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становитсяболее жгучей, когда человек уже испробовал, что такое богатство, чем тогда,когда он вовсе не знал его; а, кроме того, добродетель умеренностивстречается много реже, чем добродетель терпения. Я не нуждаюсь ни в чем,кроме того, чтобы мирно наслаждаться благами, дарованными мне господом богомот неисповедимых щедрот его. Мне никогда не случалось нести какого-нибудьтягостного труда. Мне почти всегда приходилось заниматься лишь собственнымиделами; а если порою и доводилось брать на себя чужие дела, то соглашался яна это только с тем условием, что буду вести их в удобное для меня время ипо-своему. Так оно и бывало в действительности, поскольку дела эти поручалимне люди, исполненные ко мне доверия, знавшие, что я представляю собой, и нетолкавшие меня в спину. Ведь люди умелые извлекают кое-какую пользу даже изстроптивой и норовистой лошади.
Мое детство протекало в условиях весьма благоприятных инестеснительных; мне было совершенно неведомо строгое подчинение чужой воле.Все это, вместе взятое, воспитало во мне мягкость характера и сделало менянеустойчивым пред лицом неприятностей, и я неизменно бываю рад, когда отменя скрывают мои убытки и неполадки в хозяйстве, способные задеть меня заживое. В графу моих расходов я вношу также и то, что, по моей нерадивости,было истрачено лишнего на прокорм и содержание моих слуг:
- haec nempe supersunt,
- Quae dominum fallant, quae prosint furibus. [37]
Я предпочитаю не вести счет тому, что имею, лишь бы не быть в точностиосведомленным о понесенных мною убытках; и прошу тех, кто живет вместе сомной, чтобы в тех случаях, когда они не испытывают ко мне чувствапризнательности и обманывают меня, они делали это, хороня концы в воду. Нерасполагая достаточной твердостью, чтобы выносить докучливую возню сразличными, обступающими нас со всех сторон заботами, не умея постояннонапрягать свою волю, чтобы устраивать и улаживать мои дела так, как мне быхотелось, я, полагаясь во всем на судьбу, следую, насколько это для менядостижимо, такому правилу: «Ожидать всего самого худшего и, в случае еслиэто худшее грянет, мужественно переносить его с кротостью и терпением».Только к этому я и стремлюсь, именно к этому клонятся все мои рассуждения.
Когда мне угрожает опасность, я думаю не столько о том, как избегнутьее, сколько о том, до чего, в сущности, не важно, удастся ли мне ееизбежать. Ну а если она настигнет меня, что из этого? Не имея возможностивоздействовать на события, я воздействую на себя самого и покорно следую заними, раз не могу заставить их идти за собой. Я никогда не был искусен втом, чтобы отводить от себя удары судьбы, уклоняться от них или заставлятьее силой делать угодное мне, как никогда не умел также устраивать свои делаподобающим образом, руководствуясь голосом благоразумия. Еще в меньшей мерея обладаю выносливостью, чтобы смиряться с мучительными и тягостнымизаботами, которые необходимы для этого. И наиболее мучительное для менясостояние — это пребывать в обстоятельствах, которые нависают надо мной итеснят меня, а также метаться между надеждой и страхом.
Долго раздумывать над каким-либо делом, хотя бы самым пустячным, —занятие, для меня совершенно несносное, и я ощущаю, что мой ум подавленнеизмеримо сильнее, когда ему приходится претерпевать шатания и толчки,порождаемые неуверенностью и сомнениями, чем когда, свободный от колебаний,он принимает, полагаясь на счастье, то или иное окончательное решение, в чембы оно ни состояло. Лишь немногие страсти нарушали мой сон, но что дораздумий, то даже самое легкое безнадежно расстраивает его. Точно так же яне люблю покатых и скользких обочин дороги, а охотнее всего пользуюсь еесамой наезженной частью, хотя она в наиболее грязная и наиболее вязкая, ибо,стремясь к безопасности, я могу быть уверен, что отсюда я уже никуда несвалюсь. Равным образом я предпочитаю явные бедствия, ибо тут по крайнеймере меня не томит неизвестность — пройдут ли они стороной или нет; лучше ужпусть судьба одним ударом ввергнет меня в страдание:
- dubia plus torquent mala. [38]
Когда приходит беда, я встречаю ее, как подобает мужчине, но во всехиных обстоятельствах веду себя как сущий младенец. Страх перед возможнымпадением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую можетпричинить самый ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляетмучения, которых не знает бедняк, а ревнивцу его страсть — муки, неизвестныерогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-занего в суде.
Самая низкая ступенька — самая прочная: она — основа устойчивости всейлестницы. Стоя на ней, можно ни о чем не тревожиться; будучи вделананакрепко, она служит опорой всему остальному. Не содержит ли в себе нечтофилософское следующий пример, явленный нам одним дворянином, пользовавшимсяв свое время широкой известностью. Он женился уже в летах, проведя молодостьизрядным повесой. Это был мастак поболтать и большой насмешник. Вспоминая,сколь удобной мишенью были для него рогоносцы и как часто он потешался надними, этот дворянин, дабы оградить себя от того, же, взял в жены женщину,которую подцепил в таком месте, где каждый мог иметь ее за деньги, и ониначали совместную жизнь, обменявшись такими приветствиями: «Добрый день,потаскушка», «Добрый день, рогоносец» . И ни о чем он чаще и откровеннее небеседовал со своими гостями, как о причинах, побудивших его жениться на этойособе. Благодаря этому он обуздывал шедшие за его спиной пересуды и отводилот себя острие попреков этого рода.
Что касается честолюбия, которое — ближайший сосед самомнению или,скорее, дитя его, то для того, чтобы распалить во мне эту страсть, пришлосьбы, пожалуй, самому счастью схватить меня за руку. Ибо навязать ради зыбкойнадежды заботу на шею и подвергать себя бесчисленным тяготам, неизбежнымвначале для всякого, кто жаждет возвыситься над другими, — нет, это отнюдьне по мне: spem pretio non emo [39].
Я держусь того, что ясно вижу и чем обладаю, и никогда не удаляюсь отмоей гавани,
- Alter remus aquas, alter tibi radat arenas. [40]
И к тому же, мало кому удается достигнуть чего-нибудь, не рискуяпредварительно своим кровным добром; и я считаю, что если его достаточно,чтобы поддерживать свое существование в тех же условиях, в каких ты родилсяи вырос, то совершеннейшее безумие терять то, что имеешь, в шатком расчетена возможность приобрести большее. Тому, кому судьба отказала в местечке,где он мог бы обосноваться и обеспечить себе спокойную и беззаботную жизнь,тому простительно рисковать тем, чем он владеет, поскольку так ли, иначе ли,а нужда все равно заставит его пуститься в погоню за счастьем. Capiendarebus in malis praeceps via est [41].
И я скорее готов оправдать младшего сына, бросающего на ветер своюзаконную долю [42], чем старшего, который, являясь блюстителем чести своегорода, сам доводит себя до разорения.
Руководствуясь советами моих добрых друзей минувших времен, я нашелсамый прямой и легкий путь, чтобы избавиться от подобных желаний иоставаться невозмутимо спокойным, —
- Cui sit conditio dulcis sine pulvere palmae, [43] —
имея достаточно трезвое представление о своих силах, понимая, что набольшие дела их не хватит, и храня в памяти слова покойного канцлера Оливье,говорившего, «что французы похожи на обезьян, которые взбираются подеревьям, перескакивая с ветки на ветку, и успокаиваются только тогда,когда, добравшись до самой верхушки, показывают оттуда свои зады».
- Turpe est, quod nequeas, capiti commitere pondus,
- Et pressum infiexo mox dare terga genu. [44]
Далее те черты моего характера, которые, вообще говоря, нельзя назватьплохими, в наш век, по-моему, ни к чему. Свойственные мне уступчивость ипокладистость назовут, разумеется, слабостью и малодушием; честность исовестливость найдут нелепой щепетильностью и предрассудком; искренность исвободолюбие будут сочтены несносными, неразумными, дерзкими. Но нет худабез добра! Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими выбез больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончилотца и не грабил церквей, тот уже человек порядочный и отменной честности [45]:
- Nunc si depositum non infitiatur amicus,
- Si reddat veterem cum tota aerugine follem,
- Prodigiosa fides et Tuscis digna libellis,
- Quaeque coronata lustrari debeat agna. [46]
Не было еще такой страны и такого века, когда бы властители моглирассчитывать на столь несомненную и столь глубокую признательность в оплатуза их милости и их справедливость. Первый из них, кто догадается искатьнародной любви и славы на этом пути, тот — или я сильно ошибаюсь — намногоопередит своих державных товарищей. Сила и непринуждение кое-что значат,однако не всегда и отнюдь не во всем.
Купцы, сельские судьи, ремесленники, как мы легко можем убедиться,нисколько не уступают дворянам ни в доблести, ни в знании военного дела [47]: они славно бьются как на полях сражений, так и на поединках; ониотстаивают города в наших нынешних гражданских войнах. Среди этой сумятицыгосударь лишается своего ореола славы.
Так пусть же он возблистает своей человечностью, правдивостью,прямотой, умеренностью и прежде всего справедливостью — достоинствами, внаши дни редкими, неведомыми, гонимыми. Лишь добрые чувства народов могутдоставить ему возможность свершать значительные деяния, и никакие другиекачества не в состоянии снискать ему эти добрые чувства, ибо именно этикачества наиболее полезны для подданных.
- Nihil est tam populare, quam bonitas. [48]
Сопоставляя себя с людьми моего времени, я готов находить в себе нечтозначительное и редкостное, подобно тому как я кажусь себе пигмеем и самойобыденной личностью, сопоставляя себя с людьми неких минувших веков, когдабыло вещью самою что ни на есть обычною — если к этому не присоединялисьдругие более похвальные качества — видеть людей умеренных в жажде мести,снисходительных по отношению к тем, кто нанес им оскорбление,неукоснительных в соблюдении данного ими слова, не двуличных, не податливых,не приспособляющих своих взглядов к воле другого и к изменчивымобстоятельствам. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чемпоступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетельпритворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всехвозможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал быв подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса —скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед намитаким, каков ты в действительности. Этим путем наши современники приучаютсебя к вероломству. Когда их вынуждают к лживым посулам и обещаниям, они неиспытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением.Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы еговидели до самых глубин; в нем все хорошо или, по меньшей мере, всечеловечно.
Аристотель считает [49], что душевное величие заключается в том, чтобыодинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говоритьо чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего,не обращать внимания на одобрение и порицание, исходящие от других.Аполлоний сказал [50], что ложь — это удел раба, свободным же людям подобаетговорить чистую правду.
Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой.Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причинвынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боитсялгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком правдивым.Моя душа, по своему складу, чуждается лжи и испытывает отвращение при одноймысли о ней; я сгораю от внутреннего стыда, и меня точит совесть, если поройу меня вырывается ложь, а это иногда все же бывает, когда меня неожиданнопринуждают к этому обстоятельства, не дающие мне опомниться и осмотреться.
Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь, — этобыло бы глупостью, но все, что бы ты ни сказал, должно отвечать твоиммыслям; в противном случае это — злостный обман. Я не знаю, какой выгодыждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд,единственное, что их ожидает, так это то, что, если даже им случится сказатьправду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обманутьлюдей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похвалятьсяим, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что «швырнули бсвою рубаху в огонь, если б она была осведомлена об их истинных помыслах инамерениях» [51] (что было сказано одним древним, а именно МетелломМакедонским [52]), или утверждать во всеуслышание, что «кто не умеет какследует притворяться, тот не умеет и царствовать» [53], — это значит заранеепредупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово,слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман. Quoquis versutior et callidior est, hoc invisior et suspectior, detractaopinione probitatis. [54] Человек, который, подобно Тиберию [55], взял себе за правилодумать одно, а говорить другое, может одурачить своей болтовней и притворнойминой разве что настоящего болвана; и я не знаю, на что, собственно, могутрассчитывать такие люди в отношениях с другими людьми, раз все, что бы ниисходило от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношенииправды, тот таков же и в отношении лжи.
Те, кто уже в наше время в своих рассуждениях об обязанностях монархатолкуют лишь о способах извлечения выгоды при ведении им своих дел ипренебрегают при этом заботой о сохранении им добропорядочности инезапятнанной совести [56], быть может, и говорят кое-что дельное, но ихсоветы пригодны лишь тому из монархов, дела которого устроены таким образом,что он может одним махом, раз и навсегда уладить их путем коварногонарушения своего слова. Но в действительности этого не бывает, ибо к уловкамтакого рода государи прибегают постоянно: ведь не раз приходится заключатьмир или какой-нибудь договор. Выгода — вот что толкает их на первуюнечестность, — та выгода, которая манит людей на всякого рода злодейства,как, например, святотатство, убийства, мятежи и предательства, всегдапредпринимаемые в каких-либо коварных целях. Но эта первая выгода влечет засобой бесчисленные невыгоды, поскольку, показав образец своего вероломства,такой монарх сразу нарушает добрые отношения с другими монархами и теряетвозможность вступать с ними в какие бы то ни было соглашения. Сулейман [57],государь оттоманской династии, не очень-то щепетильный в соблюдении обещанийи договоров, вступив в дни моего детства [58] со своим войском в Отранто иузнав, что Меркурии де Гратинаро и обитатели Кастро, сдав эту крепость,задерживаются, вопреки условиям сдачи, заключенным с ними его людьми, вкачестве пленных, повелел возвратить им свободу, ибо, задумав предпринять вэтой стране другие значительные дела, он полагал, что эта бесчестность, хотяна первый взгляд она и казалась полезной, может навлечь на него дурную славуи недоверие, чреватые неисчислимыми бедами [59].
Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чемльстецом и притворщиком. Готов признать, что, когда держишься с такоюискренностью и прямотой, не взирая на лица, как это свойственно мне, то тут,быть может, примешивается также немножко гордости и упрямства, и мнекажется, что я веду себя с большей непринужденностью именно там, где этоменьше всего подобает, и что путы, налагаемые на меня необходимостью бытьпочтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я по своейпростоте следую в этих случаях за своею природой. Позволяя себе в общении свласть имущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел делос моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже нанескромность и неучтивость. Но, кроме того, что я создан таким, я не обладаюдостаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе иуклоняться от него с помощью какого-нибудь ловкого хода или искажать истину,как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в головеискаженную мною истину, или уверенностью, чтобы упорно стоять на своем:короче говоря, я храбр от слабости. Вот почему я решаюсь уж лучше бытьнепосредственным и почитаю необходимым неизменно говорить то, что думаю, ипоступаю таким образом как в силу моего душевного склада, так и на основанииздравого размышления, предоставляя судьбе делать со мной все, что ей будетугодно. Аристипп говорил, что главная польза, извлеченная им из философии,это то, что благодаря ей он научился говорить свободно и откровенно совсяким [60].
Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память, и без нее наш умпочти бессилен. Я, однако, лишен ее начисто. Если мне хотят что-нибудьрассказать, необходимо, чтобы это делали по частям, ибо ответить на речь, вкоторой содержится много различных разделов, — это мне не по силам, и я несумел бы выполнить ни одного поручения, не располагая записной дощечкой [61]. И если мне требуется произнести сколько-нибудь значительную и длиннуюречь, я вынужден прибегать к убогой и жалкой необходимости выучиватьнаизусть, слово за словом, все, что я должен сказать; в противном случае яне смогу держаться подобающим образом и не буду обладать должнойуверенностью в себе, испытывая все время страх, как бы моя слабая память неподвела меня. Но этот способ для меня нисколько не легче; три стиха я учутри часа, и затем, когда имеешь дело с собственным сочинением, тосвойственная автору свобода, с какой можешь делать перестановки, заменять теили иные слова, вносить новое в содержание, приводят к тому, что вещи этогорода укладываются в памяти хуже. И чем большим недоверием я к нейпроникаюсь, тем больше она мне изменяет; она служит мне гораздо лучше, когдая о ней вовсе не думаю. Нужно, чтобы я увещевал ее без нажима, ибо, когда яна нее наседаю, она начинает сдавать, а если уж она начала спотыкаться, точем больше я понукаю ее, тем больше она хромает и путается; она служит мне всвой час, а не в тот, когда нужна мне.
Все, что я замечаю в себе по части памяти, я замечаю и относительномногого другого: я не выношу подчинения, обязательств и насилия над собой.То, что я делаю легко и естественно, того мне больше не сделать, начни япобуждать себя к этому настойчивыми и властными понуканиями. То же самоемогу я сказать и о моем теле, члены которого, если они обладают хотьмалейшей свободой и возможностью распоряжаться собой, отказывают мне порою вповиновении, когда я заранее предписываю им послужить мне в определенныхобстоятельствах и в определенный час. Это наперед отданное им приказание,твердое и властное, внушает им отвращение: они сжимаются от страха илинеудовольствия и цепенеют.
Однажды, находясь в таком месте, где считалось варварской неучтивостьюне отвечать согласием всякому приглашающему вас выпить, я попытался — хотямне и была предоставлена свобода поступать по своему усмотрению — вести себяв угоду дамам согласно тамошним обычаям, присутствовавшим при этом, какподобает доброму собутыльнику, но тут со мной случилось нечто весьмазабавное: эта угроза и приготовления к тому, чтобы пить сверх моей обычной иестественной меры, сжали мне горло, да так туго, что я так и не смогпроглотить ни капли, лишив себя даже того, что привык выпивать за обедом: ячувствовал себя пьяным и пресыщенным той выпивкой, которой было полно моевоображение. Это явление отчетливее всего наблюдается у людей, наделенныхмогучим и необузданным воображением, но оно все же естественно, и нет ниодного человека, который не был бы в той или иной мере подвержен ему. Одинпревосходный лучник был приговорен к смерти; ему предложили помилование сусловием, что он должен сделать какой-то особенно ловкий выстрел и тем самымдать доказательство своего замечательного искусства. Он не пожелал, однако,подвергнуться этому испытанию, опасаясь, что от чрезмерного напряжения волирука его дрогнет и, вместо того чтобы спасти себя, он утратит славу,завоеванную им меткой стрельбой. Человек, который часто прогуливается водном и том же месте, углубившись в свои мысли, обязательно покроетодинаковое расстояние в точности одним и тем же количеством шагов всякий разтого же размера; но если бы он стал отсчитывать и отмеривать свои шаги,оказалось бы, что он, прилагая все свои старания, никогда не проделает того,что ему удавалось проделывать естественно и без всяких усилий.
Моя библиотека, которая среди деревенских библиотек может считатьсяодной из лучших, расположена в дальнем конце моего дома. Когда мне приходитв голову навести в ней какую-нибудь справку или сделать выписку, то,опасаясь, как бы, пересекая двор, я не забыл того, за чем отправился, ябываю вынужден сообщить о своих намерениях кому-нибудь из домашних. Если яотважусь, выступая с речью, отклониться хоть на самую малость от моейпутеводной нити, я непременно утрачу ее; вот почему в своих речах я крайнесух, сдержан и краток. И даже людей, находящихся у меня в услужении, мнеприходится называть либо по занимаемой ими должности, либо по месту, откудаони родом, ибо мне чрезвычайно трудно запомнить их имена; я скорее скажу,что в таком-то имени три слога, что оно неблагозвучно, что оно начинаетсяили заканчивается такой-то буквой. И если мне суждено еще пожить на свете,то я отнюдь не уверен, что не забуду своего имени, как это случалось сдругими. Мессала Корвин на целых два года полностью утратил память; то жесамое рассказывают и о Георгии Трапезундском [62]. И я нередко прикидываю,какова же была жизнь этих людей, а также располагал ли бы я хоть чем-нибудьдля поддержания мало-мальски сносного существования, если бы также потерялпамять; и задумываясь над этим, начинаю побаиваться, что этот изъян, дойдядо крайних своих пределов, может сгубить все проявления духовной жизни:Memoria certe non modo philosophiam, sed omnis vitae usum omnesque artes unamaxime continet [63].
- Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo. [64]
Мне случалось не раз и не два забывать пароль, за три часа до тогоданный мною самим или полученный от кого-либо другого; случалось забывать ио том, куда я спрятал свой кошелек, что бы ни говорил на этот счет Цицерон [65]. Я помогаю себе терять то, за что держусь особенно цепко. Память естьсклад и вместилище знаний, и, поскольку она у меня крайне слаба, я не имеюникакого права сетовать на то, что решительно ничего, можно сказать, незнаю. Вообще говоря, я знаю названия всех наук и чем они занимаются, нодальше этого ничего не знаю. Я листаю книги, но вовсе не изучаю их; если чтои остается в моей голове, то я больше уже не помню, что это чужое; иединственная польза, извлекаемая моим умом из таких занятий, это мысли ирассуждения, которые он при этом впитывает. Что же касается автора, места,слов и всего прочего, то все это я сразу же забываю.
Я достиг такого совершенства в искусстве забывать все на свете, чтодаже собственные писания и сочинения забываю не хуже, чем все остальное; мнепостоянно цитируют меня самого, а я этого не замечаю. Кто пожелал бы узнать,откуда взяты стихи и примеры, которые я нагромоздил здесь целыми ворохами,тот привел бы меня в немалое замешательство, так как я не смог бы ответитьему. А между тем я собирал подаяние лишь у дверей хорошо известных изнаменитых, не довольствуясь тем, чтобы оно было щедрым, но стремясь к тому,чтобы оно исходило от руки неоскудевающей и почтенной, ибо мудрость тутсочетается с авторитетностью. И нет ничего удивительного, что моя книгаразделяет судьбу всех других прочитанных мною книг и что в моей памяти содинаковой легкостью изглаживается как то, что написано мной, так и то, чтомною прочитано, как то, что мной дано, так и то, что получено мной.
Кроме того, что у меня никуда негодная память, мне свойствен еще ряддругих недостатков, усугубляющих мое невежество. Мой ум неповоротлив и вял;малейшее облачко снижает его проницательность, так что, к примеру сказать,не было случая, чтобы я предложил ему какую-нибудь загадку, сколь бынесложной она ни была, и он разгадал бы ее; какая-нибудь замысловатаяпустяковина ставит его в тупик. В играх, требующих сообразительности, как,например, шахматы, карты, шашки и тому подобное, я способен усвоить лишьсамое основное. Я воспринимаю медленно и неотчетливо, но если мне все жеудалось что-нибудь уловить, я удерживаю воспринятое во всей его полноте,постигнув его всесторонне, точно и глубоко, пока оно удерживается во мне.Зрение у меня острое, отчетливое и без недостатков, но при работе оно легкоутомляется и начинает сдавать. По этой причине я не могу поддерживатьдлительное общение с книгами и вынужден прибегать к посторонней помощи.Плиний Младший мог бы поведать тем, кто не знаком с этим на опыте, наскольковелика эта помеха для всякого, предающегося подобным занятиям [66].
Не существует на свете души, сколь бы убогой и низменной она ни была, вкоторой не сквозил бы проблеск какой-нибудь особой способности; и нет стольглубоко погребенной способности, чтобы она так или иначе не проявила себя.Каким образом получается, что душа, слепая и сонная во всем остальном,становится живой, прозорливой и возвышенной в каком-то частном своемпроявлении, — за разъяснением этого надлежит обратиться к нашим учителям. Ноистинно прекрасные души всеобъемлющи, открыты и готовы к познанию всего, чтобы то ни было, и если они порой недостаточно просвещенны, то для них вовсяком случае не закрыта возможность стать просвещенными. Все это я говорю вукор моей собственной душе, ибо — то ли по своей немощности, то ли понерадивости (а нерадивое отношение к тому, что у нас под ногами, что в нашихруках, что непосредственно касается нашего повседневного обихода, — это то,что я всегда осуждал в себе), — но она такова, что не найти другой столь жебездарной и столь же невежественной в вещах самых обыденных и привычных, незнать которые просто стыд. Я хочу привести несколько примеров вподтверждение сказанного.
Я родился и вырос в деревне, среди земледельческих работ разного рода.У меня на руках дела и хозяйство, которые я веду с того дня, когда те, ктовладел до меня всем тем, что теперь — моя собственность, уступили мне своеместо. И все же я не умею считать ни в уме, ни на бумаге, не знаюбольшинства наших монет, и мне не под силу отличить один злак от другого нив поле, ни в закроме, если различия между ними не так уж разительны; то же ядолжен сказать о капусте и салате в моем огороде. Я не разбираюсь вназваниях наиболее необходимых в сельском хозяйстве орудий, и мне неведомыосновы основ земледелия, известные даже детям. Еще меньше смыслю я вискусстве механики, в торговле, в различных товарах, в свойствах и сортахразнообразных плодов, вин, мяса, в натаскивании ловчих птиц, в лечениилошадей и собак. И чтобы окончательно посрамить себя, признаюсь, что недалее как месяц назад я был уличен в незнании, зачем нужны дрожжи прихлебопечении, и что означает, когда говорят, что вину нужно перебродить. Вдревних Афинах считали, что кто ловко укладывает и связывает вязанкивалежника, тому свойственны математические способности [67]; обо мне,конечно, вынесли бы суждение прямо противоположное этому. Будь у меня полнаякухня припасов, я все равно голодал бы. По тем недостаткам, в которых япризнался, нетрудно представить себе и другие, столь же нелестные для меня.Но каким бы я ни был в собственном изображении, если это изображениеотвечает действительности, я могу считать мою цель достигнутой. И если я неприношу извинений, осмелившись изложить письменно вещи столь ничтожные илегковесные, то единственная причина, удерживающая меня от этого шага, —ничтожность предмета, которым я занимаюсь. Пусть меня порицают, если угодно,за этот мой замысел, но не за то, как он выполнен. Как бы то ни было, я ибез указаний со стороны отчетливо вижу незначительность и малоценность всегосказанного мною по этому поводу, равно как и нелепость моих намерений, и этодоказывает, что мой ум, опыты которого — эти писания, еще не окончательнообессилен:
- Nasutus sis usque licet, sis denique nasus,
- Quantum noluerit ferre rogatus Atlas,
- Et possis ipsum tu deridere Latinum,
- Non potes in nugas dicere plura meas,
- Ipse ego quam dixi: quid dentem dente iuvabit
- Rodere? carne opus est, si satur esse velis.
- Ne perdas operam: qui se mirantur, in illos
- Virus habe; nos haec novimus esse nihil. [68]
Мне отнюдь не запрещено говорить глупости, лишь бы я не обманывалсянасчет их настоящей цены; и впадать в ошибки сознательно — вещь для менястоль обычная, что я только так и впадаю в них; но я никогда не впадаю в нихпо вине случая. Сваливать вину за поступки нелепые, но маловажные, набезрассудство моего нрава — это сущие пустяки, раз я не могу, как правило,запретить себе сваливать на него вину и за поступки явно порочные.
Как-то в Бар-ле-Дюке в моем присутствии королю Франциску II поднеслипортрет, присланный ему на память Рене, королем сицилийским, и исполненныйим самим [69]. Почему же нельзя позволить и каждому рисовать себя самогопером и чернилами, подобно тому как этот король нарисовал себя карандашом?Не хочу умолчать здесь и о гадком пятне, которое безобразит меня и в которомнеловко признаваться во всеуслышание, а именно о нерешительности,представляющей собой недостаток, крайне обременительный в наших мирскихделах. Мне трудно принять решение относительно той или иной вещи, если она,на мой взгляд, сомнительна:
- Ne si, ne no, nel cor mi suona intero [70].
Я умею отстаивать определенные взгляды, но выбирать их — к этому я непригоден. Ведь в делах человеческих, к чему бы мы ни склонялись, мы найдеммножество доводов в пользу всякого мнения. Да и философ Хрисипп говорил [71], что он не хотел ничего перенимать у Зенона и Клеанфа, своих учителей,кроме самых общих положений; что же касается оснований и доказательств, тоон и сам мог бы их найти в нужном количестве. Поэтому, в какую бы сторону яни обратил свой взор, я всегда нахожу достаточно причин и весьмаубедительных оснований, чтобы туда и устремиться. Таким образом, я пребываюв сомнении и сохраняю за собой свободу выбора, пока необходимость решитьсяне начинает теснить меня; тогда, должен признаться, я чаще всего отдаюсь,как говорят, на волю течения и поручаю себя произволу судьбы; малейшаясклонность и обстоятельства подхватывают и увлекают меня:
- Dum in dubio est animus, paulo momento huc atque illuc impellitur. [72]
Колебания моего разума в большинстве случаев настолько уравновешиваютдруг друга, что я был бы не прочь представлять решение жребию или костям, ия отмечаю себе, в оправдание нашей человеческой слабости, оставленные намсамой Священной историей примеры того же обычая отдавать на волю судьбы ислучайности определение нашего выбора в том, что сомнительно: sors ceciditsuper Matthiam [73]. Разум человеческий — меч обоюдоострый и опасный. Взгляните-ка сами, о скольких концах эта палкадаже в руках Сократа, ее наиболее близкого и верного друга! Итак, я пригодентолько к тому, чтобы следовать за другими, и легко даю толпе увлечь меня засобой. Мое доверие к своим силам вовсе не таково, чтобы я мог решиться братьна себя командование и руководство, и мне больше по сердцу, чтобы тропа длямоих шагов была проложена другими. Если нужно идти на риск, производягадательный выбор, я предпочитаю следовать тому, кто более уверен в своихсуждениях, нежели я, и чьим суждениям я верю больше, нежели своимсобственным, основания и корни которых я нахожу весьма шаткими.
И все же я не очень люблю менять раз принятые мнения, поскольку впротивных мнениях я обнаруживаю подобные же слабые места. Ipsa consuetudoassentiendi periculosa esse videtur et lubrica [74]. Особенно делаполитические предоставляют широкий простор для всяких столкновений ираздоров:
- Iusta pari premitur veluti cum pondere libra
- Prona, nec hac plus parte sedet, nec surgit ab illa. [75]
Рассуждения Маккиавелли [76], к примеру, были весьма обоснованны вотношении их предмета, и все же опровергнуть их не составляет большоготруда; а рассуждения тех, кто сделали это, могут быть в свою очередьопровергнуты с не меньшей легкостью [77]. На тот или иной довод всегданайдется где почерпнуть ответный довод, на возражение — новое возражение, наответ — новый ответ, и так далее и так далее, до бесконечности; и отсюда —нескончаемые словопрения, затягиваемые нашими кляузниками и крючкотворами допределов возможного,
- Caedimur, et totidem plagis consumimus hostem. [78]
ибо всякое доказательство не имеет других оснований, кроме опыта, амногообразие дел человеческих снабжает нас бесчисленными примерами всякогорода. Один очень ученый человек нашего времени утверждает, что в нашихкалендарях, можно было бы свободно заменить все предсказанияпротивоположными, вместо «зной» поставить «морозы», а вместо «великая сушь» — «дожди», и что любители биться об заклад могут с одинаковым успехом, неутруждая свой ум, делать ставку как на то, так и на другое, остерегаясьтолько утверждать вещи, заведомо невозможные, например, что будет зной наРождество или что будут морозы в Иванову ночь. То же самое думаю я и о нашихполитических спорах; чью бы сторону вы ни взяли, ваша игра, если вы ненарушите первейших и очевидных основ, не хуже игры ваших противников; и всеже, по моему разумению, в делах общественных нет ни одного столь дурногообыкновения, которое не было бы лучше, нежели перемены и новшества. Нашинравы до крайности испорчены, и они поразительным образом клонятся кдальнейшему ухудшению; среди наших обычаев и законов много варварских ипросто чудовищных; и тем не менее, учитывая трудности, сопряженные сприведением нас в лучшее состояние, и опасности, связанные с подобнымипотрясениями, — если бы только я мог задержать колесо нашей жизни иостановить его на той точке, где мы сейчас находимся, я бы сделал это оченьохотно:
- numquam adeo foedis adeoque pudendis
- Utimur exemplis, ut non peiora supersint. [79]
Худшее, на мой взгляд, в нашем нынешнем положении — это неустойчивость,это то, что наши законы, так же как наше платье, не могут закрепиться начем-либо определенном. Чрезвычайно легко порицать пороки любогогосударственного устройства, ибо все, что бревно, кишмя кишит ими;чрезвычайно легко зародить в народе презрение к старым нравам и правилам, ивсякий, кто поставит перед собой эту цель, неизменно будет иметь успех; ноустановить вместо старого, уничтоженного государственного устройства новое ипритом лучшее — на этом многие из числа предпринимавших такие попытки не разобламывали зубы. В своем поведении я не руководствуюсь соображениямиблагоразумия; я просто с готовностью подчиняюсь установленному в нашем миреобщественному порядку. Счастлив народ, который, не тревожа себяразмышлениями о причинах получаемых им приказаний, выполняет их лучше, чемте, кто приказывают ему, и который кротко отдается на волю небесногокруговращения. Кто мудрствует и спорит, тот никогда не оказываетбезусловного и неукоснительного повиновения.
Короче говоря, если уж снова вернуться ко мне, единственное, за что яхоть сколько-нибудь ценю себя, так это только за то, в недостатке чегоникогда не признался бы ни один человек: мое суждение о себе обыденно,свойственно решительно всем и старо, как мир, ибо кто же когда-нибудь думал,что ему не хватает ума? Такая мысль заключала бы в себе непримиримоепротиворечие. Глупость — болезнь, которой никогда не страдает тот, кто еевидит в себе: она очень упорна и, как правило, неизлечима, но достаточноодного проницательного взгляда больного, обращенного им на себя самого,чтобы пробить ее толщу и избавиться от нее, как достаточно одного лучасолнца, чтобы рассеять густой туман. Обвинять себя в этом случае значитотводить от себя всякое обвинение, осуждать себя значит выносить себеоправдательный приговор. Не бывало еще на свете такого крючника или девки,которые не считали бы, что их ума для них достаточно. Мы готовы признать задругими превосходство в отваге, телесной силе, опытности, ловкости, красоте,но превосходства в уме мы никому не уступим. Что же касается доводов,исходящих у любого другого человека от простого здравого смысла, то намкажется, что, взгляни мы на вещь с того же самого боку, и мы также непреминули б наткнуться на них. Знания, стиль и прочие качества,обнаруживаемые нами в чужих сочинениях, мы легко замечаем, если онипревосходят наши. Другое дело — проявление самой человеческой мысли: туткаждый думает, будто и он способен на то же, и ему нелегко понять ихзначительность и каких трудов они стоят, если между ними и им нет огромного,скажем прямо — гигантского расстояния. Но и в последнем случае он постигаетэто с большой неохотой. Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и самподнимается до того же уровня и возносит свою мысль на ту же самую высоту.Итак, это такого рода занятие, от которого нельзя ждать много чести и славы,и такой вид сочинительства, который не приносит громкого имени.
И наконец, для кого вы пишете? Ученые, которым подсудна всякая книга,не ценят ничего, кроме учености, и не признают никаких иных проявлений нашейумственной деятельности, кроме тех, которые свидетельствуют о начитанности иобширности всякого рода познаний. Если вы смешаете одного Сципиона с другим,то что стоящее внимания можете вы еще высказать? Кто не знаком сАристотелем, тот, по их мнению, не знаком и с собой самим. Души обыденные игрубые не видят ни изящества, ни значительности в тонком и возвышенномрассуждении. Но ведь два этих разряда заполняют собой наш мир. Третийразряд, тот, которому вы, в сущности, и отдаете себя, — души чистые исильные собственной силой, — настолько немногочислен, что не пользуется унас, и вполне заслуженно, ни влиянием, ни известностью, так что стремитьсяему угодить — значит попусту терять время.
Обычно можно услышать, что, оделяя нас своими благами, природасправедливее всего поступила при распределении между нами ума, ибо нетникого, кто бы не довольствовался доставшейся ему долею. Но разумно ли это?Кто пожелал бы заглянуть дальше отведенного ему, тому пришлось бы преступитьпределы возможностей своего зрения. Я считаю свои взгляды правильными издравыми, но кто же не считает такими и свои собственные? Одно из лучшихдоказательств этого — невысокая цена, которой я оцениваю себя. Ведь, если бымои взгляды не были достаточно твердыми, их могло бы ввести в заблуждение точувство любви и привязанности, которое я испытываю к себе, чувство, ивпрямь, исключительное, ибо я обращаю его почти целиком на себя и нерастрачиваю на сторону. Все, что другие делят между множеством друзей изнакомых и отдают заботам о своей славе и своем возвеличении, я обращаютолько на то, чтобы обеспечить спокойствие моему духу и мне, и если кое-чтоот меня все же уделяется посторонним, то это происходит отнюдь не по велениюмоего разума,
- mihi nempe valere et vivere doctus. [80]
Итак, что касается моих мыслей насчет себя, то они с бесконечнойрешительностью и столь же бесконечным упорством обвиняют меня в невежестве.Это и впрямь один из предметов, на котором я упражняю мой ум и чаще, иохотнее, чем на чем-либо другом. Люди обычно разглядывают друг друга, я жеустремляю мой взгляд внутрь себя; я его погружаю туда, там я всячески тешуего. Всякий всматривается в то, что пред ним; я же всматриваюсь в себя. Яимею дело только с собой: я беспрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю,
- nemo in sese temptat descendere, [81]
а я — я верчусь внутри себя самого.
Этой способностью докапываться до истины — в сколь бы малой мере ятакой способностью ни обладал, — равно как вольнолюбивым нежеланиемотказываться от своих убеждений в угоду другим людям, я обязан главнымобразом себе самому, ибо наиболее устойчивые и общие мои взгляды родились,так сказать, вместе со мной: они у меня природные, они целиком мои. Япроизвел их на свет сырыми и немудреными, и то, что я породил, было смелым исильным, но несколько смутным и несовершенным; впоследствии я обосновал иукрепил эти взгляды, опираясь на тех, кто пользовался моим уважением, атакже на безупречные образцы, оставленные нам древними, с которыми я сошелсяв мнениях. Они-то и убедили меня в моей правоте, и благодаря им япридерживаюсь моих воззрений более сознательно и с большей твердостью [82].
Если всякий ждет похвалы за быстроту и живость ума, то я притязаю нанее за его строгость, если — за какое-нибудь достойное быть отмеченным ивыдающееся деяние или какую-либо исключительную способность, то я — заупорядоченность, согласованность и уравновешенность моих мнений и нравов.Omnino si quidquam est decorum, nihil est profecto magis quam aequabilitasuniversae vitae, tum singularum actionum, quam conservare non possis, si,aliorum naturam imitans, omittas tuam [83].
Итак, вот до каких пределов я чувствую за собой вину в том, что, как ясказал выше, есть первое слагаемое порока, носящего название самомнения. Чтодо второго слагаемого, состоящего в чрезмерно низком мнении о других, то я,право, не знаю, удастся ли мне привести столь же убедительные доводы в своеоправдание. Впрочем, чего бы это ни стоило, решусь выложить все, каким ономне представляется.
Возможно, что непрерывно поддерживаемое мной общение с мудростьюдревних и сложившийся во мне образ этих беспредельно богатых душ прошлогоотвращают меня и от других, и от себя самого; быть может, мы и впрямь живемв век, не способный создать что-либо возвышающееся над самой что ни на естьпосредственностью, но так ли, иначе ли, а я не знаю ничего заслуживающегоподлинного восхищения. Правда, я не знаю людей с такой доскональностью,которая необходима, чтобы иметь право судить о них; но те, с кем моеположение чаще всего сталкивает меня, в большинстве своем, не утруждают себячрезмерной заботой о просвещении своих душ; в их глазах наивысшее счастье —почести, и наивысшее совершенство — мужество.
Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее иочень охотно хвалю его.
Нередко я даже преувеличиваю его ценность и говорю не совсем то, чтодумаю, позволяя себе небольшую ложь; однако выдумывать то, чего я не вижу вдействительности, этого я решительно не умею. Я охотно сообщаю моим друзьям,что, по-моему, подлежит в них одобрению, и их достоинства в один фут длинойс готовностью растягиваю до полутора футов; но приписывать им те качества,которых у них нет, этого я не могу, как не могу с пеной у рта защищать ихнедостатки.
Даже моим врагам — и им я воздаю сполна то, что должен, по чести,воздать. Мои чувства могут меняться, но мои суждения — никогда; и я непримешиваю своей личной неприязни к тому, что не имеет прямого касательствак ней. Я так ревниво оберегаю свободу своего ума, что мне не так-то простопожертвовать ею ради страсти, сколь бы неудержимой она ни была.
Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком я солгал.
Рассказывают о следующем похвальном обычае у персов: они неизменноговорили о своих смертельных врагах, с которыми вели беспощадные войны,уважительно и соблюдая полную справедливость, так, как того заслуживала ихдоблесть.
Я знаю немало людей, обладающих различными замечательными чертами: ктоостроумием, кто сердечностью, кто отвагой, кто чуткой совестью, ктокрасноречием, кто еще чем-либо другим, но человека великого в целом,совмещающего в себе столько отличных свойств или обладающего хотя бы однимиз них, но в такой исключительной степени, чтобы он вызывал в нас восхищениеи его должно было бы сравнивать с теми, кого мы чтим среди людей, обитавшихнекогда на земле, — нет, с таким человеком моя судьба не дала мневстретиться. Самым великим из тех, кого я хорошо знал, — я говорю оприродных дарованиях и способностях — и самым благородным был Этьен де ЛаБоэси; это была душа, до краев полная достоинств, прекрасная, с какойстороны на нее ни взглянуть, душа, скроенная на древний лад; и он совершилбы великие и памятные дела, когда б того захотела судьба его, ибо к своимбогатым природным данным он многое добавил с помощью размышлений и занятийнауками.
Не знаю, как это так получилось, — а что так получается, это бесспорно, — но только в тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться возможнобольшей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела,требующие постоянного общения с книгами, — в тех обнаруживается столькочванства и умственного бессилия, как ни в какой другой породе людей. Бытьможет, это получается оттого, что в них ищут и от них ожидают большего, чемот других людей, и им не прощаются обычные недостатки; или, может быть,сознание собственной учености придает им смелость выставлять себя напоказ иважничать, чем они выдают себя и сами себе причиняют ущерб. Так иремесленник обнаруживает свою неумелость гораздо явственнее тогда, когда вего руки попадает ценный материал, который он портит своей бестолковой игрубой работой, чем когда ему приходится иметь дело с простым материалом:недостатки в золотом изваянии раздражают нас гораздо сильнее, нежели вгипсовом. Точно так же поступают и те, кто, тыча всем в глаза вещи, которыесами по себе и на своем месте весьма хороши, пользуется ими безо всякоготолку и меры и, оказывая честь своей памяти за счет разума, оказывая честьЦицерону, Галену, Ульпиану и святому Иерониму [84], выставляет себя самого всмешном виде.
Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования. Онопоставило себе целью сделать нас не то чтобы добропорядочными и мудрыми, аучеными, и оно добилось своего: оно так и не научило нас постигатьдобродетель и мудрость и следовать их предписаниям, но зато мы навсегдазапомнили происхождение и этимологию этих слов; мы умеем склонять самоеслово, служащее для обозначения добродетели, но любить ее мы не умеем. Иесли мы ни из наблюдения, ни на основании личного опыта не знаем того, чтоесть добродетель, то мы хорошо знаем ее на словах и постоянно твердим о ней.Когда речь идет о наших соседях, нам недостаточно знать, какого онироду-племени, кто их ближайшие родичи и какими связями они обладают; мыхотим, чтобы они подружились с нами, хотим установить с ними близость идобрые отношения. А наше образование между тем забивает нам головыописаниями, определениями и подразделениями разных видов добродетели, какесли бы то были фамильные прозвища и ветви генеалогического древа, нискольконе заботясь о том, чтобы установить между добродетелью и нами хотькакие-нибудь знакомство и близость. К тому же, для нашего обучения отобраныне те книги, в которых высказываются здравые и близкие к истине взгляды, нонаписанные на отменном греческом языке или на лучшей латыни, и заставляя насзатверживать эти красиво звучащие слова, нас принуждают загромождать памятьнелепейшими представлениями древности.
Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы, вроде того,как это произошло с Полемоном, распутным юношей-греком, который,отправившись случайно послушать один из уроков Ксенократа, не только оценилполностью красноречие и ученость философа и не только принес домой многополезных знаний, но и вынес оттуда плоды еще более ощутительные и болееценные, а именно то, что характер его внезапно изменился и нрав исправился [85]. А кто из нас когда-нибудь почувствовал на себе подобное воздействиенашего обучения?
- faciasne, quod olim
- Mutatus Polemon? Ponas insignia morbi,
- Fasciolas, cubital, focalia, potus ut ille
- Dicitur ex collo furtim carpsisse coronas,
- Postquam est impransi correptus voce magistri? [86]
Наименее недостойным представляется мне то сословие, которое по причинесвоей простоты занимает последнее место; больше того, его жизнь кажется мненаиболее упорядоченной: нравы и речи крестьян я, как правило, нахожу болееотвечающими предписаниям истинной философии, чем нравы и речи нашихприсяжных философов [87]. Plus sapit vulgus, quia tantum, quantum opus est,sapit [88].
Самыми замечательными людьми, насколько я мог судить, наблюдая ихиздали (ибо, чтобы судить о них на мой лад, надо было бы к ним подойтиближе), были, если иметь в виду военные подвиги и познания в военной науке,герцог Гиз, скончавшийся в Орлеане, и покойный маршал Строцци [89]. Если жеговорить о людях ученых и отличавшихся выдающейся добродетелью, то я назовуОливье и Л’Опиталя, двух канцлеров Франции [90]. Мне кажется, что наш векпринес с собой расцвет поэзии, что у нас множество искуснейших знатоковсвоего дела в лице Дора, Беза, Бьюкенена, Лопиталя, Мондоре и Турнеба [91];что до пишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство натакую ступень, на какой оно еще никогда у нас не было и, если вспомнить тотрод его, в котором блистают Ронсар с Дю Белле [92], то я никоим образом несчитаю, что им далеко до совершенства древних поэтов. Адриан Турнеб зналбольше — и если уж что-либо знал, то знал лучше, — чем кто бы то ни было излюдей его века, да и не одного его века. Жизнь недавно умершего герцогаАльбы, равно как и нашего коннетабля Монморанси, была благородной жизнью,причем судьба их во многом поразительно схожа [93]. Впрочем, красота ивеличие смерти последнего, скончавшегося на глазах у Парижа и своего короля,служа им в борьбе против ближайшей своей родни во главе войск, обязанныхсвоей победой его водительству и нанесенному им решительному удару, в стольпреклонном возрасте, заслуживают, на мой взгляд, быть отмеченными в рядунаиболее достопамятных событий нашего времени. Достойны нашей памяти инеизменные добросердечие, мягкость нрава и разумная снисходительностьгосподина Ла Ну [94], выдающегося и весьма опытного военачальника, хотя он,можно сказать, вырос и прошел воспитание в самой гуще бесчисленныхбеззаконий, творимых обоими взявшимися за оружие станами (этой подлиннойшколе предательства, бесчеловечности и разбоя) [95].
Прочие [96] добродетели в наш век очень редко или совсем невстречаются, но мужество стало, по причине наших гражданских войн, вещьювесьма обычной, и в этом отношении нетрудно найти среди нас души, почтисовершенные по своей твердости, и притом в столь большом количестве, чтосделать выбор здесь крайне затруднительно.
Вот и все о выдающемся и незаурядном душевном величии, с каким ясталкивался вплоть до этого часа.
Глава XVIII
Об изобличении во лжи
Мне скажут, пожалуй, что намерение избрать себя предметом своегоописания простительно людям незаурядным и знаменитым, которые благодарясвоей славе могут вызвать у других желание познакомиться с ними поближе.Конечно, я это отлично знаю и не собираюсь этого оспаривать. Знаю также, чтоне всякий ремесленник удостоит поднять глаза от своей работы, чтобывзглянуть на человека, вылепленного из обыкновенного теста, хотя, чтобыпоглазеть на въезд в город личности великой и примечательной, все они, какодин, покидают свои лавки и мастерские. Лишь тем, в ком есть нечто достойноеподражания и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, подобает выставлятьсебя напоказ. У Цезаря или Ксенофонта было достаточно прочное основание,дававшее им право занимать других рассказом о себе: это было величиесвершенного ими. Равным образом всякому было бы любопытно прочесть дневникивеликого Александра, записки Августа, Катона, Суллы, Брута и прочих,повествующие об их деяниях, если бы такие записки остались после них. Образыподобных людей любят и изучают, даже когда они отлиты из меди или высеченыиз камня.
Это предостережение вполне справедливо, но меня оно, в сущности, едвали касается:
- Non recito cuiquam, nisi amicis, idque rogatus,
- Non ubivis, coramve quibuslibet. In medio qui
- Scripta foro recitent, sunt multi, quique lavantes. [1]
Я не высекаю здесь изваяния, чтобы установить его на городскомперекрестке, в церкви или в каком-нибудь другом общественном месте:
- Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi nugis
- Pagina turgescat.
- Secreti loquimur. [2]
Нет, это изваяние предназначается для укромного уголка библиотеки и длятого, чтобы развлечь соседа, родственника или друга, которому будет приятноснова увидеть мои черты и узнать меня в этом изображении. Другие решаютсяговорить о себе, потому что находят этот предмет заслуживающим внимания иблагодарным; я же, напротив, делаю это лишь потому, что, находя его пустым инеблагодарным, могу не опасаться обвинения в похвальбе.
Я охотно обсуждаю дела, совершаемые другими; что до моих, то я подаюмало поводов к их обсуждению по причине ничтожности их. Я не нахожу в себестолько похвального, что мог бы позволить себе говорить о нем без краскистыда на лице. Каким удовольствием было бы для меня послушать кого-нибудь,кто рассказал бы мне о нравах, наружности, душевном складе, наиболеепривычных речах и превратностях судьбы моих предков! С каким вниманием ловилбы я каждое его слово! И в самом деле, только безнадежно дурной человекможет относиться с презрением к портретам своих друзей и предшественников, кпокрою их платья, к их оружию. Что до меня, то я сохраняю бумаги, печать,часослов и особого вида шпагу, которая в свое время служила им. Я не убрализ моего кабинета и длинной трости, которую не выпускал из рук мой отец.Paterna vestis et annulus, tanto carior est posteris, quanto erga parentesmaior affectus [3].
Если мои потомки не обнаружат в отношении меня охоты к чему-либоподобному, у меня найдется, чем отплатить им за это; ведь сколь бы мало онини считались со мною, я к тому времени буду считаться с ними еще меньше. Всемои взаимоотношения с обществом сводятся в данном случае к тому, что язаимствую у него более удобные и быстродействующие орудия воспроизведениямоих мыслей; в возмещение я предохраню, быть может, когда-нибудь кусок маслана рыночной стойке от таяния на солнцепеке [4].
И если даже случится, что ни одна душа так и не прочитает моих писаний,потратил ли я понапрасну время, употребив так много свободных часов на стольполезные и приятные размышления? Пока я снимал с себя слепок, мне пришлосьне раз и не два ощупать и измерить себя в поисках правильных соотношений,вследствие чего и самый образец приобрел большую четкость и некоторымобразом усовершенствовался. Рисуя свой портрет для других, я вместе с темрисовал себя и в своем воображении, и притом красками более точными, нежелите, которые я применял для того же ранее. Моя книга в такой же мере созданамной, в какой я сам создан моей книгой. Это — книга, неотделимая от своегоавтора, книга, составлявшая мое основное занятие, неотъемлемую часть моейжизни, а не занятие, имевшее какие-то особые, посторонние цели, как бываетобычно с другими книгами. Потерял ли я даром мое время, с такойнастойчивостью и тщательностью отдавая себе отчет в том, что я такое? Ведьте, кто лишь изредка и случайно оглядывают себя мысленно, не записывая своихнаблюдений, те не исследуют себя так обстоятельно и не проникают в себя такглубоко, как тот, кто делает это предметом своего постоянного изучения,своим жизненным делом, своим ремеслом, как тот, кто ставит перед собойзадачу начертать исчерпывающее свое описание и отдается ее выполнению совсей искренностью, со всем жаром своей души; ведь даже сладчайшиеудовольствия, если переживаешь их лишь наедине с собою, уносятся, неоставляя никакого следа и ускользая от взгляда не только всего народа, но иокружающих нас людей.
Сколько раз отвлекала меня эта работа от докучных размышлений, — адокучными нужно считать все те размышления, которые бесплодны! Природанаделила нас драгоценной способностью беседовать с самим собой, и она частоприглашает нас воспользоваться этим, чтобы показать нам, что, хотя мы чем-тои обязаны окружающим, все же гораздо большим мы обязаны самим себе. Для тогочтобы приучить мое воображение к некоторому порядку и плану даже тогда,когда оно предается фантазиям, и оградить его от беспорядочных блужданий ирасточения сил попусту, нет лучшего способа, как закрепить на бумаге изарегистрировать все даже самые ничтожные мысли, возникающие в уме. Яприслушиваюсь к своим мечтаниям потому, что мне надлежит занести их в мойпротокол. Сколько раз, будучи огорчен чьим-либо поступком, порицать которыйво всеуслышание было бы и неучтиво и неразумно, я облегчал свою душу на этихстраницах не без тайной мысли о поучительности всего этого для других [7]. Иэти поэтические шлепки,
- Трах под глаз, трах по уху,
- Трах в спину грязнуху [8],
оставляют более длительный след на бумаге, нежели на живом теле.
Что же в том, что я стал немного внимательнее просматривать книги,выискивая, нельзя ли стянуть что-либо такое, чем я мог бы подпереть ипринарядить мою собственную? Я ничего не изучал ради написания моей книги,но, написав ее, я все же кое-что изучил, если можно назвать хотьсколько-нибудь похожими на изучение выщипывание и выдергивание каких-токлочков то отсюда, то оттуда у различных авторов, — конечно, не для того,чтобы создать себе какие-то взгляды, но для того, чтобы помочь выработанныммной уже ранее, чтобы поддержать и подкрепить их.
Но кому в наше развращенное время можем мы верить, когда он говорит осебе, если вспомнить, что мало найдется таких людей, которым можно верить,даже когда они говорят о других, хотя в этом случае ложь куда менее выгодна?Первый признак порчи общественных нравов — это исчезновение правды, ибоправдивость лежит в основе всякой добродетели, как говорил Пиндар [9], иявляется первым требованием, какое предъявлял Платон к правителю егогосударства [10]. Правда, которая ныне в ходу среди нас, это не то, что естьв действительности, а то, в чем мы убеждаем других, — совершенно так же, каки с обращающейся между нами монетой: ведь мы называем этим словом не толькополноценную монету, но и фальшивую. Наш народ издавно упрекают в этомпороке. Еще Сальвиан Марсельский, живший при императоре Валентиниане,указывал, что лгать и постоянно нарушать слово у французов отнюдь не порок;для них это то же, что манера разговаривать [11]. Можно было бы выразитьсяоб этом еще резче, сказав, что в глазах французов наших дней это — подлиннаядобродетель; ее выращивают и лелеют в себе, как нечто почетное, ибо двуличие — одна из главнейших черт нашего века.
Вот почему я часто задумываюсь над тем, откуда мог возникнуть обычай,соблюдаемый нами с таким рвением и состоящий в том, что мы считаем себязадетыми гораздо сильнее обвинением в этом столь распространенном среди наспороке, чем когда нас винят в чем-либо другом, и что тягчайшее оскорблениесловом, какое только можно нанести нам, — это упрек во лживости. Ведь этотак естественно — сильнее всего отрицать наличие у нас тех недостатков, вкоторых мы более всего повинны. Нам кажется, что, негодуя по поводу этогообвинения и отклоняя его, мы некоторым образом сбрасываем с себя самую вину:если мы и впрямь повинны в этом, мы по крайней мере осуждаем ее на словах.Не происходит ли это также и потому, что подобный упрек — это одновременноупрек в трусости и малодушии? Существует ли более явственное проявлениемалодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишкомхорошо за собой знаешь?
Лживость — гнуснейший порок, и один древний писатель изображает ее какнечто крайне постыдное [12], говоря, что она свидетельствует как о презрениик богу, так и о страхе перед людьми. Нельзя выразительнее обрисоватьмерзость, низость и противоестественность этого порока, ибо можно липредставить себе что-либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми идерзким перед богом? Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственновозможным для нас путем, а именно через слово; тот, кто извращает его, тотпредатель по отношению к обществу: слово — единственное орудие, с помощьюкоторого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и мыслях, оно — толмачнашей души; если мы лишимся его, то не сможем держаться вместе, не сможемдостигать взаимопознания; если оно обманывает нас, оно делает невозможнымвсякое общение человека с себе подобными, оно разбивает все скрепыгосударственного устройства.
Некоторые народы, обитавшие в Новой Индии (упоминать их имена излишне:ведь никто их больше не знает, ибо опустошения, произведенные завоеванием,привели к полному забвению и названий и былого местонахождения их поселений — вещь поразительная и доселе неслыханная!), так вот, эти народы предлагалисвоим богам жертвоприношения из человеческой крови, и притом только такой,которая извлекалась ими из языков и ушей жертв, ибо они делали это воискупление греха лжи, оскверняющей нас и тогда, когда мы ее слышим, и тогда,когда произносим ее [13].
Один древний грек остроумно заметил, что если дети тешатся бабками, товзрослые люди забавляются словами [14].
Что до различных принятых у нас способов изобличать друг друга во лжи,а также законов чести, соблюдаемых в делах этого рода, и изменений, которыеони претерпели, то рассказ обо всем известном мне по этому поводу я отложудо другого раза. А пока что я хотел бы уточнить, с какого именно временивозникло обыкновение тщательно взвешивать и отмеривать наши слова, сообразуяих с понятием о чести. Нетрудно установить, что в древности, у греков иримлян, этого не было; и мне нередко казалось странным и непонятным, как этоони уличали друг друга во лжи и отказывались от собственных слов, не вступаяпри этом в ссору. Законы, которыми определялось их поведение, сильно в этомотличались от наших. Цезаря нередко честили, называя прямо в лицо то вором,то пьяницей [15]. Мы дивимся той свободе, с какой они обрушивали друг надруга потоки брани, — я имею в виду величайших полководцев обоих народов, —причем за слова у них расплачивались только словами, и словесная перепалкане влекла за собой иных последствий.
Глава XIX
О свободе совести [1]
Дело обычное, что добрые намерения, если их приводят в исполнение не вмеру усердно, толкают людей на весьма дурные дела. В той распре, из-закоторой Францию наших дней терзают гражданские войны, лучшая и наиболеездравая партия несомненно та, что отстаивает и древнюю веру и древнеегосударственное устройство этой страны [2]. И все же между честными идобропорядочными людьми, взявшими ее сторону (ибо я никоим образом не говорюо тех, кто пользуется удобным случаем, чтобы свести личные счеты, насытитьсвою алчность или снискать благоволение принцев; я говорю лишь о тех, ктоидет за ней, движимый искренней приверженностью к своей вере и стремлением кмирному существованию и благоденствию родины), так вот, говорю я, среди этихпоследних можно встретить довольно много таких, кого страсть увлекает запределы разумного и заставляет принимать порою решения несправедливые,жестокие и вдобавок еще и безрассудные.
Известно, что в те далекие времена, когда впервые утверждалась нашарелигия и с нею начинали считаться законы, рвение к ней вооружило многихпротив языческих книг, от чего ученые люди понесли ни с чем не сравнимыйущерб; полагаю, что эти бесчинства причинили науке гораздо больше вреда,нежели все пожары, произведенные варварами [3]. И Корнелий Тацит —достоверный свидетель этому, ибо хотя император Тацит, его потомок, изаполнил благодаря особым указам его «Анналами» все книгохранилища мира, всеже ни один полный экземпляр их так и не уцелел после старательных поисковтех, кто жаждет расправиться с ними из-за пяти или шести ничтожныхзамечаний, враждебных нашей вере [4]. Эти люди повинны также и в том, что,не колеблясь, расточали лживые похвалы всем без исключения императорам,стоявшим за нас, и огульно осуждали действия и поступки тех из них, которыебыли против нас, как это нетрудно увидеть на примере императора Юлиана,прозванного Отступником [5].
А между тем это был человек и впрямь великий и редкостный,запечатлевший в своей душе наставления философии и почитавший обязанностьюруководствоваться ими во всей своей деятельности. И поистине нет ни однойдобродетели, замечательные образцы которой он не оставил бы по себе. Чтокасается целомудрия (а о нем ясно свидетельствует вся его жизнь), то тут мыможем прочесть о нем нечто такое, что роднит его с Александром и Сципионом:имея в своей власти множество пленниц поразительной красоты, он не пожелалвзглянуть ни на одну, и это произошло тогда, когда он был в полном расцветесил: ведь ему минул всего лишь тридцать один год, когда он был убитпарфянами [6]. Что касается его правосудия, то он не гнушался брать на себятруд лично выслушивать тяжущихся и, хотя из любознательности расспрашивалвсех представших перед ним, какой они веры, все же, несмотря навраждебность, которую он испытывал к нашей, признание в принадлежности к нейнисколько не отягощало чаши его весов. Он сам придумал несколько хорошихзаконов и отменил немало податей и налогов, введенных его предшественниками.
Мы располагаем показаниями двух превосходных историков, очевидцев егодеяний. Один из них, Марцеллин, сетует [7] во многих местах составленной имистории на тот из его указов, который запрещал христианам иметь свои школы истрожайше возбранял христианским риторам и грамматикам всякое преподавание.Марцеллин говорит, что было бы хорошо, если бы этот его поступок осталсянеизвестным. Весьма вероятно, что если бы Юлиан принимал против наскакие-нибудь более жестокие меры, Марцеллин не забыл бы упомянуть об этом,ибо он был очень привержен нашей религии. Юлиан был суров по отношению кнам, это верно, но он не был нашим беспощадным врагом, ибо даже люди нашейверы рассказывают о нем следующую историю [8]. Однажды, когда онпрогуливался в окрестностях города Халкедона, Марис, епископ этого места,осмелился назвать его негодяем и христопродавцем. Юлиан ограничился тем, чтосказал ему на это: «Поди прочь, несчастный, и оплакивай слепоту свою!»Епископ бросил ему в ответ: «Возношу благодарение Иисусу Христу, ибо онлишил меня зрения, дабы я не видел бесстыдной рожи твоей». Юлиан и тутпроявил терпение истинного философа. Как бы там ни было, а этот случай неочень-то совместим с теми рассказами о жестокостях, которые он якобы творилпо отношению к нам. «Он был, — говорит Евтропий [9], второй из моихсвидетелей, — врагом христианского учения, но он не проливал кровихристиан».
Возвращаясь к вопросу об отличавшей его справедливости, скажу, что нетничего, пожалуй, такого, что можно было бы поставить ему в вину, кроместрогостей, применявшихся им в начале его правления, против тех, ктопримыкал к партии, поддерживавшей его предшественника Констанция [10]. Чтокасается присущей ему умеренности, то он неизменно вел солдатский образжизни, как тот, кто готовится и приучает себя к тяготам и невзгодам войны [11]. Его способность бодрствовать была такова, что, деля ночь на три или,порой, на четыре части, он отдавал отдыху лишь самую меньшую; остальноевремя он тратил на то, чтобы лично проверять состояние своих войск и несениеслужбы дозорами, или на чтение, ибо наряду с прочими редкостными своимикачествами он был к тому же превосходно осведомлен в любом роде литературы.Передают, что Александр Великий, ложась в постель, из опасения, как бы сонне помешал ему заниматься и думать, приказывал ставить у изголовья своеголожа чашу, над которой держал руку с зажатым в ней медным шариком; он делалэто для того, чтобы, в случае если дремота одолеет его и пальцы, ослабев,разожмутся, этот шарик, упав в чашу, разбудит его своим стуком [12]. ДушаЮлиана, однако, бывала настолько поглощена тем, к чему он стремился, ивинные пары, благодаря поразительной умеренности его образа жизни, так малоомрачали ее, что он отлично обходился и без этого ухищрения. Что касаетсяего дарований в военном деле, то он блистал всеми качествами великогополководца. Почти всю свою жизнь он провел в непрерывных походах, и побольшей части в союзе с нами [13], во Франции, против алеманнов и франков, имы не находим упоминания о человеке, который повидал бы на своем векустолько опасностей, сколько пришлось изведать ему, и который чаще еговыказывал бы личную доблесть.
Смерть его имеет черты сходства со смертью Эпаминонда, ибо он также былпоражен стрелой и пытался вырвать ее, — и он достиг бы этого, если быстрела, оказавшись по краям режущей, не поранила ему руку и не отняла у неесилу. Он настойчиво требовал, чтобы несмотря на состояние, в котором оннаходился, его снова отнесли в гущу сражения, и он мог бы одобрять своихвоинов, хотя они и без него дрались на этот раз весьма храбро вплоть до тогомгновения, когда ночь разъединила противников [14]. Благодаря философии онусвоил себе презрение к жизни и к делам человеческим. Он твердо верил вбессмертие души.
В делах религии он был кругом неправ и заслуживает порицания. Егопрозвали Отступником потому, что он отрекся от нашей религии. Впрочем, мнекажется более правдоподобным, что она никогда и не была ему по сердцу, ночто, подчиняясь законам, он притворялся, будто почитает ее, пока не захватилвласть над всей империей. Он был настолько привержен своей религии, чтосовременники, даже из числа его единоверцев, посмеивались над ним,утверждая, что, если бы ему удалось одолеть парфян, он истребил бы всехбыков, какие только водятся на свете, беспрерывно принося их в жертву своимбогам. Он был, к тому же, неравнодушен к искусству гадания и доверял всякогорода прорицаниям. Умирая, он, среди прочего, говорил, что испытывает к богамчувство великой признательности и благодарит их за то, что они не возымелижелания убить его неожиданно, но заблаговременно оповестили о часе и местекончины, причем послали ему не легкую и презренную смерть, подобающуюлентяям и неженкам, и не томительную и медленную, полную страданий, но сочлиего достойным умереть столь благородным образом, посреди его победоносногошествия и в разгар его славы. Ему явился призрак, совсем так же, как МаркуБруту [15]. В первый раз грозное видение предстало ему, когда он находился вГаллии; затем призрак снова явился ему в Персии, перед самой его смертью.Слова, которые Юлиан будто бы произнес, почувствовав, что поражен насмерть:«Ты победил, Назареянин!» или, как утверждают другие: «Радуйся,Назареянин!», — едва ли были бы забыты моими свидетелями, если бы они зналио них [16], а между тем они оба находились при войске и отметили все, даженичтожнейшие поступки и слова Юлиана перед его смертью; то же можно сказатьи о других чудесных явлениях, будто бы связанных с нею.
Но возвращаюсь к основной моей теме. Как говорит Марцеллин [17], Юлиандавно уже таил в своем сердце склонность к язычеству, но, так как его войскосостояло почти сплошь из христиан, он не решался открыто признаться в этом.Наконец, когда он увидел себя достаточно сильным, чтобы открыто выразитьсвою волю, он велел — открыть храмы древних богов и сделал все от негозависящее, чтобы идолопоклонство взяло верх над христианством. Обнаружив вКонстантинополе, что простой народ и христианские первосвященники плохоладят между собой в вопросах веры, Юлиан, чтобы достигнуть желаемой цели,призвал обе стороны к себе во дворец и обратился к ним с настоятельнымувещанием пресечь эти разногласия и предоставить каждому беспрепятственно ивполне свободно служить своей вере [18]. Он убеждал их в этом очень горячо,рассчитывая, что такая неограниченная свобода умножит среди них число партийи сект и помешает народу объединиться, а следовательно, и укрепиться припомощи доброго согласия и единомыслия, чтобы оказать ему сопротивление. Ондействовал так, убедившись, на основании примеров жестокости некоторыххристиан, что «нет зверя на свете страшнее для человека, чем человек».Таковы примерно его собственные слова.
Тут заслуживает внимания то обстоятельство, что Юлиан пользовался дляразжигания гражданских раздоров тем же самым средством, а именно свободойсовести, какое было совсем недавно применено нашими королями, чтобыуспокоить раздоры. Таким образом, с одной стороны, можно сказать, что снятьс партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядовзначит сеять и распространять между ними распри, значит способствоватьумножению этих распрей, поскольку нет больше преград в виде законов,способных обуздывать и останавливать их. Но, с другой стороны, снять спартий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядовозначает вместе с тем и усыпление и расслабление их из-за легкости иудобства, с какими они могут отныне домогаться своего, означает притуплениеострия их воли, которая оттачивается в борьбе за что-либо необычное итруднодостижимое. И я склонен думать, воздавая честь добрым намерениям нашихвластителей, что, не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желалидостигнутого [19].
Глава XX
Мы неспособны к беспримесному наслаждению
От слабости нашей природы проистекает, что нам не дано пользоватьсявещами в их простом и естественном состоянии. Все, что бы мы ни употребляли,подверглось тем или иным изменениям. Это относится и к металлам: даже золото — и к нему приходится что-нибудь примешивать, чтобы сделать его пригоднымдля наших нужд. Ни столь простая и ясная добродетель, с какой мысталкивались у Аристона, Пиррона и затем стоиков, провозгласивших ее цельюжизни, ни наслаждение киренаиков и Аристиппа в чистом виде не достижимы длянас. Среди доступных нам удовольствий и благ не существует ни одного,которое было бы свободно от примеси неприятного и стеснительного,
- medio de fonte leporum
- Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat. [1]
Наше высшее наслаждение проявляется в таких формах, что становитсяпохожим на жалобы и стенания. Разве мы не могли бы сказать, что это —предсмертные муки? И когда мы тщимся изобразить это наслаждение во всей егополноте, то приукрашаем его эпитетами и свойствами, связанными со страданиеми болезнью, каковы, например, такие слова, как: истома, спазмы, изнеможение,обмирание, morbidezza [2]. Не есть ли это вернейшеесвидетельство кровной близости и единства наслаждения и боли? Глубокаярадость заключает в себе больше суровости, чем веселья, крайнее и полноеудовлетворение — больше успокоения, чем удовольствия. Ipsa felicitas, senisi temperat, premit [3]. Блаженство истощает человека. Это то, о чем говорит один небольшойдревнегреческий стих [4], содержание которого сводится к следующему: «богипродают всякое ниспосылаемое нам ими благо», что означает: они не даруют намни одного совершенного и чистого блага, и мы покупаем его ценойсодержащегося в нем зла.
Тяготы и удовольствия — вещи крайне различные по природе — каким-тообразом соединяются природными узами. Сократ говорит, что некий бог сделалпопытку сплотить в нечто целое и слить воедино страдание и наслаждение, но,так как ему не удалось осуществить этот замысел, он придумал связать их другс другом хотя бы хвостами [5]. Метродор говорил, что не бывает печали безпримеси удовольствия [6]. Не знаю, что именно имел он в виду, но я слегкостью представляю себе, что можно намеренно, добровольно и с охотойлелеять свою грусть, и настаиваю на том, что, кроме честолюбия, — а онотакже может сюда примешиваться — во всем этом сквозит еще нечто приятное изаманчивое, которое тешит нас и льстит нашему самолюбию посреди самойбезысходной и тягостной грусти. Разве не существует душ, которые, можносказать, питаются ею?
- est quaedam flere voluptas. [7]
И некий Аттал заявляет у Сенеки [8], что воспоминание о потерянных намидрузьях нам столь же приятно, как горечь в очень старом вине, —
- Minister vetuli, puer, Falerni
- Ingere mi calices amariores [9] —
или как яблоко с легкой кислинкой. Природа раскрывает перед нами этосмешение: живописцы показывают, что одни и те же движения и морщинкинаблюдаются на лице человека и когда он плачет, и когда он смеется. И всамом деле, проследите за работой живописца, пока он не закончил изображениятого или другого из этих двух состояний — и вы так и не сможете установить,какое из них перед вами. Вспомним также, что безудержный смех порождаетслезы. Nullum sine auctoramento malum est [10].
Мысленно представляя себе человека, испытывающего все желанные для негорадости, — вообразим такой случай, когда все тело этого человека навекиохвачено наслаждением, подобным тому, какое бывает при акте оплодотворения,в момент наибольшей остроты ощущений, — я явственно вижу, как он изнемогаетпод бременем своего блаженства, и чувствую, что ему не под силу выдерживатьстоль беспримесное и столь всеобъемлющее непрерывное наслаждение. Идействительно, едва насытившись им, он уже бежит от него и, побуждаемыйестественным чувством, торопится спрыгнуть сам со ступеньки, на которой емуникоим образом не устоять и с которой он боится сверзиться вниз.
Когда я с предельной откровенностью исповедуюсь себе самому, яобнаруживаю, что даже лучшее, что только есть во мне, даже оно окрашеноизвестным оттенком порочности. И я опасаюсь, как бы Платон, прислушайся онповнимательнее — что, несомненно, он делал не раз — к самой безупречной изсвоих добродетелей (а ведь я — искреннейший и преданнейший поклонник, какоготолько можно сыскать, как этой его добродетели, так и других, скроенных потакому же образцу), так вот, как бы Платон не уловил в этой своейдобродетели некоего фальшивого тона, неизбежного в той совокупности, какуюпредставляет собой человек, правда тона глухого и ощутимого лишь собственнымслухом. Человек во всем и везде — ворох пестрых лоскутьев. И даже законы,блюстители справедливости, не могли бы существовать, если б к ним непримешивалась несправедливость; Платон замечает [11], что кто притязаеточистить их от непоследовательностей и неудобств, тот пытается отрубитьголову гидре. Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod contrasingulos utilitate publica rependitur, — говорит Тацит [12].
Равным образом верно и то, что наши умы бывают иногда слишком светлымии прозорливыми в делах как частной, так и общественной жизни; ясности ипроницательности подобных умов присуща чрезмерная утонченность илюбознательность. Чтобы принудить их покоряться общепринятым правилам иобычаям, нужно отнять у них излишнюю пытливость и остроту; чтобыприспособить их к нашему смутному земному существованию, нужно придать имнекоторую тяжеловесность и заставить их потускнеть. Но бывают также умыобыденные и менее яркие, которые более пригодны для ведения дел и лучшесправляются с ними. Возвышенные и утонченные воззрения философии бесплодны вприложении к повседневной действительности. Эта повышенная живость души, этабеспокойная подвижность и гибкость ее препятствует нам в житейских занятиях.Нужно вести предприятия человеческие проще, не мудрствуя, и добрую долю вних оставлять на усмотрение и произвол судьбы. Освещать дела слишком тонко иглубоко нет никакой надобности: наблюдая столь противоречивое освещение имногообразие форм, теряешься: volutantibus res inter se pugnantes,obtorpuerant animi [13].
Вот что древние рассказывают о Симониде [14]: так как его воображение,пытаясь ответить на предложенный царем Гиероном вопрос, — а на обдумываниеответа ему было дано несколько дней — предлагало ему множество все новых иновых остроумных и тонких решений, он, колеблясь, какое же из них счестьнаиболее правильным, отчаялся в конце концов отыскать истину.
Кто пристально разглядывает и старается охватить все до одногообстоятельства и все следствия, тот сам себе затрудняет выбор: обычнаясмекалка с таким же успехом делает свое дело и достаточна для разрешения какмалых, так и больших вопросов. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, чтолучшие хозяева — это те, кто меньше всего мог бы ответить, каким образом онидобиваются этого, и что велеречивые говоруны чаще всего не достигают ничегопутного. Я знаю одного такого великого болтуна и превосходного мастерарасписывать все, относящееся к любому виду хозяйственных дел; но онглупейшим образом пропустил сквозь пальцы сто тысяч ливров годового дохода.Знаю я и другого: этот уверяет, что разбирается в делах лучше, чем кто-либодругой; притом же на свете не сыщешь более благородной души и другого такогокладезя всяких знаний. А между тем слуги его утверждают, что, когда доходитдо дела, он оказывается совсем не таким. При этом я отнюдь не ставлю этимгосподам в счет случайные бедствия разного рода.
Глава XXI
Против безделья
Император Веспасиан [1], страдая болезнью, которая и явилась причиноюего смерти, не переставал выражать настойчивое желание, чтобы егоосведомляли о состоянии государства. Больше того, даже лежа в постели, оннепрерывно занимался наиболее значительными делами, и когда его врач,попеняв ему за это, заметил, что такие вещи губительны для здоровья, онбросил ему в ответ: «Император должен умирать стоя». Бот изречение,по-моему, воистину замечательное и достойное великого государя! Позднее, приподобных же обстоятельствах, оно было повторено императором Адрианом [2], иего надлежало бы почаще напоминать государям, дабы заставить ихпрочувствовать, что великая возложенная на них обязанность, а именноуправлять столькими людьми, не есть обязанность тунеядца, а также что ничто,по справедливости, не может в такой же мере отбить у подданного охотупринимать на себя, ради служения своему государю, тяготы и невзгоды иподвергаться опасностям, чем возможность видеть его в это самое времятрусливо забившимся в угол за занятиями малодушными и ничтожными, изаботиться о его благополучии, в то время как он так равнодушен к нашему [3].
Если бы кто-нибудь вздумал доказывать, будто гораздо лучше, чтобыгосударь вел войны не сам, а поручал ведение их другим лицам, он нашел бысреди многообразия человеческих судеб немало примеров, когда назначенныегосударями полководцы успешно завершали за них великие предприятия; оннатолкнулся бы и на таких государей, чье присутствие в войске приносилоскорее вред, нежели пользу. Но ни один решительный и смелый монарх непотерпит, чтобы ему приводили столь постыдные доводы! Под предлогом желанияуберечь свою жизнь ради блага всего государства — точно дело идет обизваянии какого-нибудь святого — иные из государей уклоняются от выполнениясвоего долга, который главным образом и состоит в военных деяниях, и темсамым уличают себя в неспособности к ним. Я же знаю одного государя [4],который, напротив, предпочитает быть битым, чем спать, пока за него бьютсядругие, и он даже не может смотреть без зависти на своих подчиненных, еслите совершают в его отсутствие что-либо выдающееся. Селим I [5] говаривал —и, как мне кажется, с достаточным основанием, — что победы, одержанные безучастия повелителя, не бывают полными и окончательными. И он сказал бы ещеохотнее, что повелителю, который дрался в таком сражении лишь словами имыслями, надлежит краснеть от стыда в том случае, если он домогается своейдоли славы за достигнутую победу; и это тем более, что в подобныхобстоятельствах советы и приказания могут доставлять честь только тогда,когда они подаются и отдаются на самом поле боя и в зависимости от положениядел. Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу.Государи оттоманской династии, первой по военному счастью династии в мире,глубоко восприняли эту истину, и Баязид II, равно как и его сын [6],отошедшие от нее, развлекаясь науками и другими домашними занятиями,надавали тем самым здоровенных пощечин своей империи; да и тот, чтоцарствует в настоящее время, Мурад III, следуя их примеру, начинаетпоступать точно так же. Не английский ли король Эдуард III сказал о нашемКарле V [7]: «Не было короля, который брал бы в руки оружие реже, чем он, ине было короля, который причинил бы мне столько хлопот». И он был прав,находя это странным и видя тут скорее прихоть судьбы, чем следствиеразумного порядка вещей.
И пусть ищут сочувствия у других, но только не у меня, те, кому хочетсявидеть в числе воинственных и великих завоевателей королей Кастилии иПортугалии лишь на том основании, что, сидя в своих покойных дворцах, затысячу двести лье, они трудом своих подначальных сделались властителямиобеих Индий и других стран, — а ведь большой еще вопрос, хватило ли бы у ниххрабрости даже съездить туда самолично, чтобы вступить во владение этимиземлями.
Император Юлиан настаивал на еще большем [8]: он говорил, что «философуи честному человеку перевести дух и то возбраняется», то есть что имподобает отдавать дань потребностям нашего естества лишь настолько,насколько это безусловно необходимо, занимая всегда и душу и тело деламипрекрасными, великими и добродетельными. Он испытывал стыд, если емудоводилось сплюнуть или вспотеть на виду у народа (то же самое рассказываюто молодежи лакедемонян, а Ксенофонт [9] — и о персидской), ибо он полагал,что телесные упражнения, неустанный труд и умеренность должны выпарить ииссушить все эти излишние жидкости. То, о чем говорит Сенека [10], также неокажется здесь неуместным; а он говорит, что древние римляне держали своюмолодежь всегда на ногах: они не обучали своих детей, сообщает он, ничемутакому, что нужно было бы изучать сидя.
Жажда умереть с пользой и мужественно весьма благородна, но утолить еезависит не столько от наших благих решений, сколько от благости нашейсудьбы. Тысячи людей ставили себе целью или победить или пасть в сражении,но им не удавалось достигнуть ни того ни другого. Ранения и темницыпересекали на полпути их намерения и вынуждали жить насильственной жизнью.Существуют, кроме того, болезни, которые обрушиваются на нас с такойяростью, что подавляют и наши желания, и нашу память [11]. Молей Молук,властитель Феса, тот самый, который недавно разгромил Себастьяна, короляпортугальского, в битве, ставшей знаменитой по причине гибели трех королей иобъединения великой португальской короны с кастильскою [12], этот МолейМолук тяжело заболел сразу после того, как португальцы вторглись в егострану. С каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже, и так продолжалосьдо самой его смерти, близость которой он ясно видел. Еще не было на светечеловека, который вел бы себя столь же мужественно и благородно в подобныхобстоятельствах. Слишком слабый, чтобы вынести тяготы торжественногоприбытия в лагерь, что, согласно принятому у них обычаю, происходит свеликой пышностью и обставляется множеством утомительных церемоний, онуступил эту честь своему брату. И это была единственная обязанностьвоеначальника, которую он уступил кому-либо другому; что до всех остальных,необходимых для пользы дела и весьма важных, то он выполнял их сам, и притомпоразительно усердно и тщательно; хотя тело его было простерто на ложе, свойразум и свое мужество он принудил твердо стоять на ногах и не сдаватьсявплоть до последнего вздоха, а в некотором смысле и после него. Он мог взятьнеприятельское войско измором, поскольку португальцы безрассудно углубилисьв его владения, но ему было весьма тягостно, что из-за краткости срока,который ему оставалось жить, из-за отсутствия подходящего человека, которыймог бы заменить его в ведении этой войны, и, наконец, из-за смут вгосударстве он вынужден искать победы кровавой и чреватой опасностями, хотяв его руках был и другой способ одолеть врагов, простой и вполне бесспорный.Все же он очень искусно использовал предоставленную ему болезнью отсрочку,всячески изматывая силы противника и завлекая его подальше от гаваней напобережье Африки и от его кораблей; и он делал это вплоть до последнего днясвоей жизни, который приберег и предназначил для решительного сражения.
Свои войска он расположил в форме кольца, со всех сторон окружавшегоармию португальцев. Сжимая и суживая это кольцо так, что врагам приходилосьотбивать атаки одновременно со всех сторон, он не только затруднил им этимведение боя — который был крайне жестоким, ибо юный португальский корольнепрерывно и доблестно пытался вырваться из кольца, — но и не дал имвозможности спастись бегством, вернувшись назад тем же путем, каким онипришли. Так как все дороги оказались для них перехвачены и крепко заперты,португальцам пришлось топтаться на месте, тесня друг друга, —coacervanturque non solum caede, sed etiam fuga [*] — и, сбившись в кучу, уступитьпобедителям, учинившим кровавую бойню, полную и окончательную победу. Ужеумирающий, Молей приказал отнести себя на носилках к войску и переносить сместа на место, туда, где его присутствие могло быть полезным; и когда егопроносили вдоль рядов воинов, он воодушевлял на битву одного за другим своихвоеначальников и солдат. И так как на одном из участков его боевой порядокначал приходить в расстройство, он, как приближенные его ни удерживали отэтого, сел на коня и пожелал ринуться с обнаженным мечом в самую гущусражения. Окружающие, однако, не допустили его до этого, ухватившись кто заповод его коня, кто за платье, кто за стремена. Это усилие окончательнопогасило еще тлевшую в нем искру жизни; его снова уложили на носилки. Он же,внезапно преодолев свое обморочное состояние и ввиду своей слабости нерасполагая никаким другим способом, чтобы отдать важнейшее в тот моментприказание — скрыть от всех его смерть, известие о которой могло бы вызватьсмятение в рядах его войск, — приложил ко рту палец (как известно,общепринятый знак, приглашающий хранить молчание) и через мгновение испустилдух. Кто дольше его жил в самом преддверии смерти? И кто умер до такойстепени стоя, как он?
Высшее проявление мужества пред лицом смерти, и самое к тому жеестественное, — это смотреть на нее не только без страха, но и без тревоги,продолжая даже в цепких ее объятиях твердо придерживаться обычного образажизни. Именно так и сделал Катон, продолжавший заниматься и неотказывавшийся от сна, когда голова и сердце его были уже полны смертью,которую он держал в своей руке.
Глава XXII
О почтовой гоньбе
Я был когда-то не из последних в делах этого рода, самых что ни на естьподходящих для людей моего сложения и моего роста — крепкого и невысокого.Но я больше не занимаюсь ими: слишком уж они изнурительны, чтобы предаватьсяим долгое время.
Я только что прочитал о том, что царь Кир, дабы с большей легкостьюполучать известия со всех концов своего царства — а оно было весьмаобширным, — повелел выяснить, какое расстояние за день может покрыть безотдыха лошадь, и, исходя из этого, поместить на соответствующей дистанциидруг от друга особых людей, у которых были бы всегда наготове кони, чтобыпоставлять их прибывающим к ним гонцам [1]. Некоторые передают, что быстротапередвижения этих гонцов достигала быстроты, с какой летят журавлиные стаи.
Цезарь рассказывает [2], что Луций Вибуллий Руф, торопясь доставитьПомпею важное сообщение, мчался к нему день и ночь, меняя для скоростилошадей. Да и сам Цезарь, по словам Светония [3], делал по сто мильежедневно, пользуясь наемной повозкой; впрочем, это был бешеный ездок, иботам, где ему преграждали дорогу реки, он переправлялся через них вплавь,никогда не сворачивая с прямого пути ради поисков моста или брода. ТиберийНерон [4], отправившись повидаться со своим братом Друзом, заболевшим вГермании, трижды сменив повозку, проделал за двадцать четыре часа целыедвести миль. Во время войны, которую римляне вели с Антиохом [5], ТиберийСемпроний Гракх, как сообщает Тит Ливий, per dispositos equos propeincredibili celeritate ab Amphissa tertio die Pellam pervenit [6], причем, если вчитаться внимательно в этоместо, то становится ясным, что речь идет о постоянных подставах, а не обучрежденных ради этой поездки.
Способ подавать весть о себе, который придумал Цецина [7], обеспечивалеще большую быстроту: покидая дом, он брал с собой ласточек и когда хотелчто-либо сообщить домой, отпускал их лететь в свои гнезда, причем метил ихкраской того цвета, который обозначал то-то и то-то, в соответствии с тем,как он заранее уславливался с домашними.
Римские патриции, находясь в театре, держали за пазухой голубей и,когда им приходило в голову переслать домой какое-нибудь приказание своимлюдям, они выпускали этих голубей на свободу, прикрепив к ним записку. Этиголуби были также обучены возвращаться с ответом; ими пользовался и ДецимБрут, осажденный в Мутине [8], и другие в иных местах.
В Перу вестники для своих разъездов употребляли людей, которыевзваливали их на свои плечи вместе с особым сиденьем, проделывая это до тоголовко, что один носильщик, не останавливаясь и даже не замедляя бега,перебрасывал свою ношу другому [9].
Я слыхал, что валахи, гонцы султана, достигают изумительной скорости, иэто происходит по той причине, что им дано право ссаживать первоговстречного с приглянувшейся им лошади, отдавая взамен свою притомившуюся, иеще потому, что они, дабы предохранить себя от усталости, накрепко стягиваютсебе тело широким ремнем [10].
Глава XXIII
О дурных средствах, служащих благой цели
Разительные подобия и соответствия сокрыты в той совокупности творенийприроды, которая есть мироздание, и это ясно показывает, что оно не случайнои никоим образом не подвластно многим хозяевам. Болезни и различныесостояния, которым подвержено наше тело, наблюдаются также у государств и ихобщественного устройства: монархии и республики рождаются, переживают порурасцвета и увядают от старости совсем так же, как мы. Мы склонны кчрезмерному изобилию соков, которое бесполезно и скорее вредит. Это можетбыть либо излишек благодетельных соков (но и они пугают врачей,утверждающих, что поскольку в нас нет ничего устойчивого, нам подобаетумерять и ограничивать наше здоровье, если оно слишком уж выпирает из нас,ибо существует опасность, как бы наша природа, не умея прочно удерживатьсяна одном месте и лишенная возможности в таких случаях подняться ради своегоулучшения на ступень выше, не подалась беспорядочно и внезапно назад, и радипредупреждения этого зла они предписывают людям атлетического сложенияслабительные и кровопускания с целью избавить их от этого избытка здоровья [1]), либо изобилие соков дурных, которое и является обычной причинойболезней. Такое же полнокровие наблюдается часто и у больных государств,причем и тут имеют обыкновение пользоваться послабляющими разного рода. То,дабы разгрузить страну, отправляют за ее рубежи большое число семейств,которые уходят отсюда в поисках мест, где они могли бы обосноваться за счеткого-либо другого: этот способ был использован древними франками, вышедшимииз самого сердца Германии, чтобы захватить Галлию и изгнать исконных ееобитателей. Так же слагались и бесчисленные людские потоки, хлынувшие вИталию под предводительством Бренна [2], и еще некоторые другие. Точно также и готы и вандалы, равно как и народы, владеющие в настоящее времяГрецией, покинули некогда свою родину, чтобы осесть где-нибудь в другомместе, которое было бы попросторнее. И едва ли найдется на целом светедва-три угла, не испытавших на себе воздействия подобных переселений.
Применяя эти же средства, римляне учреждали свои колонии, ибо, понимая,что их город разрастается сверх всякой меры, они разгружали его от наименеенужных людей, отправляя их заселять и обрабатывать покоренные ими земли;иногда они даже сознательно затевали войны со своими врагами и притом нетолько ради того, чтобы не давать закисать своим людям или из опасения, какбы праздность, мать всех пороков, не доставила им неприятностей еще худшегосвойства [3], —
- Et patimur longae pacis mala; saevior armis
- Luxuria incumbit, [4] —
но и для того, чтобы устроить кровопускание своему государству иохладить слишком уж ярый пыл своей молодежи, обрезав и проредив побеги этогонепомерно буйно разрастающегося ствола; некогда в тех же целях онииспользовали и войну с Карфагеном.
При переговорах в Бретиньи Эдуард III [5], король английский, непожелал уступить нашему королю — хотя на этот раз они заключали общий мир —захваченные им земли герцогства Бретонского, руководствуясь при этом темисоображениями, что ему хотелось иметь, где бы разместить своих воинов, дабыта тьма англичан, услугами которых он пользовался в своих заморских делах,не хлынула, чего доброго, снова в Англию. Такова же была одна из причин,побудивших нашего короля Филиппа отпустить своего сына Жана на войну заморем; он считал желательным и полезным, чтобы тот взял с собой сильных ипылких юношей, служивших в его конном отряде [6].
И в наши дни находится немало таких, кто рассуждает подобным же образоми жаждет обратить охватившее нас чересчур пылкое возбуждение в войну скем-либо из наших соседей, опасаясь, как бы вредоносные соки, овладевшие внастоящее время всем нашим телом, не поддержали нашей горячки, сохраняя ее впрежней силе, и не привели в конце концов к нашей полной гибели [7]. Ивпрямь война внешняя — меньшее зло, чем война внутренняя, но я не думаю,чтобы бог благоприятствовал столь несправедливому делу — оскорблять изадирать войной другого ради нашей собственной выгоды:
- Nil mihi tam valde placeat, Rhamnusia virgo,
- Quod temere invitis suscipiatur heris. [8]
И все же слабость нашего естества нередко толкает нас к необходимостипользоваться дурными средствами для достижения благой цели. Так, например,Ликург, этот добродетельнейший и совершеннейший законодатель из всех, какиекогда-либо жили на свете, придумал крайне безнравственный способ приучатьсвой народ к трезвости: он насильственно заставлял илотов, которые былирабами спартанцев, напиваться до полного отупения; и делал он это ради того,чтобы при виде этих погибших, погрязших в вине существ, спартанцев охватывалужас перед крайними проявлениями этого столь омерзительного порока [9]. Ещеболее жестоко — ибо если уж приходится поступать неправедно, то гораздоизвинительнее делать это для нашей души, нежели для спасения нашего тела, —поступали в древности те, кто дозволял врачам кромсать заживо приговоренныхк казни преступников, независимо от того, к какому роду смерти их присудили,с тем, чтобы эти врачи, наблюдая в естественном состоянии наши внутренности,совершенствовались в своем искусстве. То же самое нужно сказать и оримлянах, воспитывавших в народе мужество, а также презрение к опасностям ик самой смерти посредством потрясающих зрелищ бьющихся не на живот, а насмерть гладиаторов и фехтовальщиков, которые резали и убивали друг друга унего на глазах,
- Quid vesani aliud sibi vult ars impia ludi,
- Quid mortes iuvemun, quid sanguine pasta voluptas? [10]
И этот обычай держался вплоть до императора Феодосия [11].
- Arripe dilatam tua, dux, in tempora famam,
- Quodque patris superest, successor laudis habeto,
- Nullus in urbe cadat, cuius sit poena voluptas.
- Iam solis contenta feris, infamus arena
- Nulla cruentatis homicidia ludat in armis. [12]
Это и впрямь был пример поразительной силы воздействия и чрезвычайнополезный для воспитания в народе упомянутых качеств, ибо чуть ли неежедневно у него на глазах сотня, две сотни, даже тысячи пар, выходивших соружием в руках друг против друга, давали рубить себя на куски с такимнепоколебимым мужеством, что никто никогда не слышал от них ни одногомалодушного слова и ни одной жалобы, не видел ни одного, кто обратился бывспять или даже позволил себе какое-нибудь трусливое движение в сторону,чтобы избежать удара противника; больше того, со многими из них случалосьдаже такое, что, прежде чем рухнуть наземь и тут же на месте испустить дух,они посылали спросить у народа, доволен ли он их поведением. Им подобало нетолько стойко сражаться и так же принимать смерть, но и делать, сверх того,и то и другое весело и легко; им свистали и их поносили, если видели, что имне хочется умирать; даже девушки — и те побуждали их к этому:
- consurgit ad ictus;
- Et, quoties victor ferrum iugulo inserit, illa
- Delicias ait esse suas, pectusque iacentis
- Virgo modesta iubet converso pollice rumpi. [13]
Первоначально римляне пользовались для этих поучительных зрелищ толькопреступниками, но впоследствии стали выпускать на арену и ни в чем неповинных рабов, и свободных граждан, продававших себя для этого, исенаторов, и римских всадников, и, больше того, даже женщин:
- Nunc caput in mortem vendunt, et funus arenae
- Atque hostem sibi quisque parat, cum bella quiescant. [14]
- Hos inter fremitus novosque lusus,
- Stat sexus rudis insciusque ferri,
- Et pugnas capit improbus viriles. [15]
Все это я счел бы крайне странным и непонятным, если бы мы не привыклипостоянно видеть в качестве участников наших войн многие тысячи чужеземцев,отдающих за деньги и свою кровь, и самую жизнь в распрях, до которых им нетни малейшего дела.
Глава XXIV
О величии римлян
Этому поистине неисчерпаемому предмету я намерен уделить всегонесколько слов; моя цель — показать недомыслие тех, кто пытается сравниватьс величием римлян жалкое величие нашего времени. В седьмой книге «Дружескихписем» Цицерона (пусть филологи, если того пожелают, лишат их названия«Дружеских», ибо оно и в самом деле не очень-то подходит, и те, кто вместо«Дружеские» именует их письмами ad familiares [1],могут извлечь кое-какие доводы в свою пользу из того, что в своем«Жизнеописании Цезаря» сообщает Светоний [2], а именно, что и у Цезаря былцелый том писем, написанных им ad familiares) — так вот в этой седьмой книгеесть одно письмо Цицерона к Цезарю, находившемуся в то время в Галлии. Вэтом письме Цицерон воспроизводит слова, содержавшиеся в конце письма,полученного им перед тем от Цезаря. Вот они: «Что касается Марка Фурия, окотором ты отзываешься с такой похвалой, то я сделаю его, если такова твояволя, царем Галлии. И вообще, если ты хочешь выдвинуть кого-нибудь из своихдрузей, присылай этого человека ко мне» [3]. Для простого римскогогражданина, каким был тогда Цезарь, было уже не внове располагать по своемуусмотрению целыми царствами, ибо к тому времени он успел отнять у Дейотара [4] его престол, чтобы отдать его некоему знатному пергамцу по имениМитридат. И те, кто описывает нам жизнь Цезаря, перечисляют еще несколькопроданных им государств; да и Светоний рассказывает [5], что Цезарь вытянулс одного раза из царя Птолемея три миллиона шестьсот тысяч экю, то естьпочти столько же, за сколько тот мог бы продать свое царство:
- Tot Galatae, tot Pontus eat, tot Lydia nummis. [6]
Марк Антоний говаривал, что величие римского народа проявляется нестолько в том, что он взял, сколько в том, что он роздал [7]; и все же занесколько веков до Антония этот народ отнял нечто настолько значительное,что во всей истории Рима я не знаю никакого другого события, котороесообщало бы его имени большую славу и большее уважение. Антиох [8] владел в тевремена всем Египтом и готовился предпринять захват Кипра и прочих зависимыхот него областей. В самый разгар одерживаемых этим царем побед к нему прибылс поручением от сената Гай Попилий; он начал с того, что отказался коснутьсяцарской руки, пока царь не прочтет врученного им послания. Антиох, прочитавэто послание, заявил Попилию, что ему потребуется время на размышление.Тогда Попилий очертил находившимся у него прутиком место, на котором стоялАнтиох, и сказал, обращаясь к нему: «Сообщи, не выходя из этого круга,ответ, который я мог бы доставить сенату». Антиох, пораженный решительностьюстоль безоговорочно предъявленного ему повеления, подумав немного, ответил:«Я выполню все, что приказывает сенат».
После этого Попилий обратился к нему с приветствием, какое отнынеподобало ему, как «другу римского народа». Отказаться от столь беспредельнойвласти, и притом тогда, когда судьба так благоприятствовала ему, — и все этопод впечатлением каких-то трех строк послания! И он был, разумеется, прав,приказав, как он сделал, сообщить через своих послов сенату римскойреспублики, что он принял его приказания с таким же благоговением, как еслибы они исходили от бессмертных богов.
Все царства, завоеванные Августом по праву войны, он возвратил тем, ктовладел ими прежде, или раздарил чужеземцам. И по этому поводу Тацит,рассказывая о Когидуне, короле бриттов, одной замечательно удачной черточкойдает нам почувствовать всю бесконечность могущества римлян. Римляне, говоритон, имели обыкновение еще с древнейших времен оставлять во владениипобежденных царей, под их властью, принадлежавшие им ранее царства, «дабырасполагать даже царями в качестве орудий порабощения» — ut haberentinstrumenta servitutis et reges [9]. Весьма вероятно, что Сулейман [10],который, как мы видели, весьма милостиво отнесся к венгерскому королевству инекоторым другим государствам, руководствовался при этом скорее указаннымивыше соображениями, а не тем, какое имел обыкновение приводить в объяснениесвоих действий, а именно — что «он пресыщен и обременен таким множествоммонархий и владений».
Глава XXV
О том, что не следует прикидываться больным
У Марциала есть удачная эпиграмма (ибо не все его эпиграммы одинаковогодостоинства), в которой он рассказывает забавную историю о Целии. Последний,не желая быть на ролях придворного у некоторых римских вельмож —присутствовать при церемонии их вставания, находиться при них и сопровождатьих — притворился страдающим подагрой. Стремясь отвести всякие сомнения вподлинности своей болезни, он стал лечиться от подагры: ему смазывали изакутывали ноги, и он до того естественно подделывался своим внешним видом иманерой держаться под подагрика, что под конец судьба ниспослала ему этосчастье на деле:
- Tantum cura potest et ars doloris!
- Desiit fingere Caelius podagram. [1]
Где-то у Аппиана [2], насколько мне помнится, я прочитал о подобном жеслучае с одним римлянином, который, чтобы не попасть в проскрипционныесписки, составлявшиеся триумвирами, и желая ускользнуть от бдительностисвоих гонителей, не только скрывался переодетым, но еще и притворялсяодноглазым. Когда он обрел большую свободу действий и решил снять пластырь,которым долгое время был заклеен один его глаз, то обнаружил, чтодействительно потерял зрение на этот глаз. Возможно, что в связи сдлительным бездействием этого глаза зрение в нем ослабело, но затоувеличилась зоркость другого глаза. Ибо нередко мы наблюдаем, что закрытыйглаз передает работающему часть своих функций, благодаря ему глаз, принявшийвесь труд на себя одного, как бы увеличивается и расширяется за этот счет.Нечто подобное могло произойти и в случае, приводимом Марциалом: отвычкаЦелия от ходьбы, укутывания ног и другие лечебные средства могли вызвать уего мнимого подагрика первые признаки этой болезни.
Читая у Фруассара [3] об одном отряде молодых английских рыцарей,которые, до переправы во Францию и до совершения каких-то там подвигов ввойне с нами, все носили повязку на левом глазу, я часто весело смеялся примысли, что с ними должно было приключиться то же, что и в приведенныхслучаях, и при возвращении в Англию они все предстали кривыми перед своимивозлюбленными, ради которых пустились в это предприятие.
Матери правы, когда бранят детей за то, что они подражают слепым,хромым, косоглазым, людям с какими-либо другими физическими недостатками,ибо, кроме того, что это может причинить вред не сложившемуся еще организмуребенка, получается так, как будто судьба нас подстерегает, чтобы поймать наэтом; мне довелось слышать о многих случаях, когда люди, изображавшиекакую-нибудь болезнь, потом и в самом деле заболевали ею.
С давних пор я до того привык — хожу ли пешком, езжу ли верхом —держать в руках трость или палку, что даже нахожу в этом известное изяществои мне нравится опираться на палку. Многие пугали меня тем, что когда-нибудьсудьба обратит мое щегольство в печальную необходимость. Я льщу себя поэтомунадеждой, что буду в таком случае первым подагриком во всем моем роде.
Однако вернемся к затронутой теме и поговорим еще о слепоте. Плинийсообщает [4] о случае, когда человек, вообразив себя во сне слепым, надругой день действительно ослеп, совершенно не болев до этого. Силавоображения, как я утверждал в другом месте [5], могла при этом сыграть своюроль, и кажется, что это мнение разделяет и Плиний; но более вероятно, чтовнутренние ощущения потери зрения, которые испытывал организм и причинукоторых установят, если им угодно будет, врачи, явились поводом для такогосна.
Приведем еще один близкий к этому случай, о котором рассказывает водном из своих писем Сенека. «Ты знаешь, — пишет Сенека Луцилию [6], — чтоГарпаста, шутиха моей жены, осталась у меня в доме в этой должности,перешедшей к ней по наследству, ибо что касается меня, то я не выношуподобных уродов, и если мне хочется посмеяться над шутом, мне незачем дляэтого далеко ходить: я смеюсь над собой. И вдруг Гарпаста ослепла. Ярассказываю тебе о странном, но истинном происшествии; эта несчастная несознает, что она ослепла и непрерывно требует от своего слуги, чтобы он увелее из моего дома, ссылаясь на то, что у меня слишком темно. Поверь мне: тотсамый недостаток, который вызывает в нас улыбку по ее адресу, присущ каждомуиз нас; никто не сознает, что он скуп или жаден. Слепые нуждаются вповодыре, мы же обязаны заботиться о себе сами. Я не тщеславен, — говориммы, — но в Риме нельзя жить иначе; я не мот, но такой город обязывает кбольшим тратам; не моя вина, если я вспыльчив и еще не выработал себетвердого уклада жизни; в этом повинна молодость. Не будем искать причину злавне нас, оно сидит в нас, в самом нашем нутре. И именно потому, что мы несознаем своей болезни, нам так трудно исцелиться. Если не начать лечитьсяпри первых признаках заболевания, то как справиться с таким количеством язви недугов? Но у нас есть такое прекрасное лекарство, как философия: вотличие от других средств, радующих нас только после выздоровления,философия одновременно и радует и исцеляет нас».
Таковы слова Сенеки, который увел меня далеко от темы, но и в переменеесть польза.
Глава XXVI
О большом пальце руки
Тацит сообщает [1], что у некоторых варварских королей был такойобычай: два короля, чтобы скрепить заключаемый между ними договор, плотноприкладывали одну к другой ладони своих правых рук, переплетая вместе узломбольшие пальцы; затем, когда кровь сильно приливала к кончикам туго стянутыхпальцев, они делали на них надрез и слизывали друг у друга брызнувшую кровь.
Врачи утверждают, что большой палец руки — властелин остальных пальцеви что латинское название большого пальца происходит от глагола pollere [2]. Греки называли большой палец , как если бы это былаеще одна самостоятельная рука. Мне сдается, что и в латинском языке этослово иногда тоже обозначает всю руку:
- Sed nec vocibus excitata blandis
- Molli pollice nec rogata surgit. [3]
В Риме считалось знаком одобрения прижать один к другому оба большихпальца и опустить их:
- Fautor utroque tuum laudabit pollice ludum, [4]
напротив, признаком же немилости — поднять их и наставить накого-нибудь:
- converso pollice vulgi
- Quemlibet occidunt populariter. [5] /ul>
Римляне освобождали от военной службы раненных в большой палец на томосновании, что они не могли уже достаточно крепко держать в руке оружие.Август конфисковал все имущество одного римского всадника, который отрубилобоим своим молодым сыновьям большие пальцы с целью избавить их от военнойслужбы [6]; а еще до Августа, во время италийской войны, сенат осудил ГаяВатиена на пожизненное заточение с конфискацией имущества за то, что онумышленно отрубил себе большой палец левой руки, чтобы избавиться от этогопохода [7].
Какой-то полководец — не могу припомнить, кто именно, — выигравшийморское сражение, приказал отрубить побежденным врагам большие пальцы, дабыони не могли больше воевать и грести [8].
Афиняне отрубили эгинянам большие пальцы, чтобы лишить их превосходствав морском деле [9].
В Спарте учитель наказывал детей, кусая у них большой палец [10].
Глава XXVII
Трусость — мать жестокости
Я часто слышал пословицу: трусость — мать жестокости. Мне действительноприходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокостьнередко сочетается с женской чувствительностью. Я встречал необычайножестоких людей, у которых легко было вызвать слезы и которые плакали попустякам. Тиран города Феры Александр не мог спокойно сидеть в театре исмотреть трагедию из опасения, как бы его сограждане не услышали его вздоховпо поводу страданий Гекубы или Андромахи, в то время, как сам он, не знаяжалости, казнил ежедневно множество людей [1]. Не душевная ли слабостьзаставляла таких людей бросаться из одной крайности в другую?
Доблесть, свойство которой — проявляться лишь тогда, когда онавстречает сопротивление:
- Nec nisi bellantis gaudet cervice iuvence, [2]
бездействует при виде врага, отданного ей во власть, тогда какмалодушие, которое не решается принять участие в опасном бою, но хотело быприсвоить себе долю славы, даруемую победой, берет на себя подсобную роль —избиений и кровопролития. Побоища, следующие за победами, обычно совершаютсясолдатами и командирами обоза; неслыханные жестокости, чинимые во времянародных войн, творятся этой кучкой черни [3], которая, не ведая никакойдругой доблести, жаждет обагрить по локоть свои руки в крови и рвать начасти человеческое тело:
- Et lupus et turpes instant morientibus ursi,
- Et quaecunque minor nobilitate fera est. [4]
Эти негодяи подобны трусливым псам, кусающим попавших в неволю дикихзверей, которых они не осмеливались тронуть, пока те были на свободе. А чтов настоящее время превращает наши споры в смертельную вражду, и почему там,где у наших отцов было какое-то основание для мести, мы в наши дни начинаемс нее и с первого же шага принимаемся убивать? Что это, как не трусость?Всякий отлично знает, что больше храбрости и гордости в том, чтобы разбитьсвоего врага и не прикончить его, чтобы разъярить его, а не умертвить; темболее, что жажда мести таким образом больше утоляется, ибо с нее достаточно — дать себя почувствовать врагу. Ведь мы не мстим ни животным, нисвалившемуся на нас камню, ибо они неспособны ощутить нашу месть. А убитьчеловека — значит охранить его от действия нашей обиды.