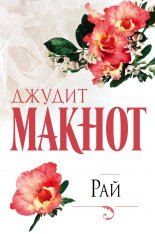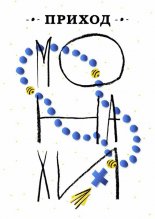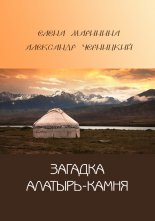Брестский квартет Порутчиков Владимир

Когда самолет набрал полную высоту, Крутицын решил, что пора открывать карты. Наклонившись к пилотам, громко, так чтобы его хорошо было слышно сквозь рокот моторов, сказал:
— Внимание, самолет захвачен русскими разведчиками! Приказываю немедленно повернуть к линии фронта!
Он видел, как вздрогнули плечи одного из пилотов, как резко обернулся и глянул на Крутицына расширенными от ужаса глазами другой. Лишь побледневший бортрадист возмущенно спросил:
— Что за дурацкие шутки, фельдфебель?! Мало вам того, что по вашей милости мы чуть было не столкнулись с другим самолетом?
— Повторяю еще раз, приказываю повернуть к линии фронта! — отозвался старшина, недвусмысленно поведя пистолетным дулом в его сторону. — И попрошу резких движений не делать: могу ненароком выстрелить.
Наступила небольшая пауза. Бортрадист, нервно дернув щекой, покосился на летчиков, а потом снова уставился на Крутицына, на пистолет в его руке, все еще до конца не веря, что «контуженный фельдфебель» на самом деле русский разведчик.
— А если я откажусь менять курс? — не поворачивая головы, отозвался первый пилот.
— В таком случае мы просто перестреляем всех раненых на борту и взорвем самолет, прежде чем вы успеете сесть на своем аэродроме. У нас просто не будет другого выхода. И поверьте, это — не пустая угроза.
Пилот грязно выругался и, повернувшись к своему товарищу, сказал:
— Летим к русским, Курт. Похоже, у нас нет выбора.
С этими словами он положил самолет в левый крен, да так резко, что не ожидавший этого Крутицын на какое-то мгновение потерял равновесие и, пытаясь удержаться, невольно взмахнул пистолетом. В тот же момент на старшину с отчаянным криком бросился бортрадист. Крутицын успел парировать отчаянный бросок немца ударом ноги и в следующее, выигранное у противника мгновение уже жал на спусковой крючок пистолета. В кабине неожиданно звонко грохнул выстрел. Бортрадист схватился за живот и тут же осел на пол. «Проклятье, все-таки не удалось обойтись без крови», — подумал расстроенный Крутицын, а вслух зло произнес:
— Я же сказал, никаких резких движений!
В кабину сунулся встревоженный Брестский.
— Все в порядке, Дима, все под контролем, — уже по-русски сказал товарищу старшина. — Как у вас там? Как командир?
— Все в норме! — отрапортовал Брестский, мрачно глядя то на мертвого бортрадиста, то на замерших в своих креслах пилотов. Судя по его воинственному виду, он был готов без раздумий положить здесь же остальных членов экипажа да и других находящихся за его спиной немцев, наплевав даже на то, что под ним сейчас было несколько тысяч метров одного лишь воздуха и что, кроме двух испуганных летчиков, посадить самолет будет некому.
Один из них медленно достал из кармана комбинезона платок и украдкой стал вытирать пот со лба.
— В случае чего, я рядом, — буркнул старшине Брестский, снова скрываясь за полуприкрытой дверью.
Некоторое время только рокот моторов нарушал повисшую в кабине тишину.
— Идем над линией фронта, — сказал вдруг, обернувшись к Крутицыну, первый пилот.
Старшине еще никогда не приходилось видеть с высоты эту так называемую линию, которую он и его товарищи не единожды пересекали на брюхе под яростным огнем противника. Где-то далеко внизу взлетали осветительные ракеты, похожие на крошечные белые точки. То тут, то там прорезали мрак трассирующие ниточки пулеметных очередей. «Да, с высоты все выглядит иначе, красивее. Не видно и не слышно смерти человеческой…» — подумал он.
Из задумчивости его вывел голос немца:
— Что дальше? Куда прикажете садиться?
И действительно, куда? Крутицын растерянно крякнул. На карте, которая была у разведчиков, указывалась лишь занятая врагом территория; немецкая полетная для такого случая тоже не годилась. А садиться на авось, тем более ночью, как-то не хотелось. Обидно было бы гробануться после стольких-то испытаний. Старшина вдруг вспомнил про разбившийся У-2. Вместе с документами полковника они тогда захватили документы и планшетку мертвого летчика. Потом у раненого командира ее взял Брестский.
— Айн момент, — сказал Крутицын и выглянул в грузовой отсек.
В тусклом освещении прямо на железном полу лежали раненые. В противоположном конце у выхода, контролируя весь салон и дверь в кабину, сидел на каких-то брезентовых мешках Брестский. Увидев Крутицына, он тут же вскочил и подался вперед. Рядом, на привинченной к борту лавке полулежал, не выпуская из рук автомата, капитан. Казалось, он спал, но, услышав шум, сразу же открыл глаза.
— Дима, планшетка погибшего летчика у тебя? — крикнул Крутицын, получил утвердительный кивок и махнул призывно рукой. — Давай скорее сюда!
— Цу енде![4] — вдруг громко сказал один из раненых и заплакал.
Другие с выражении ужаса и боли на измученных страданиями лицах смотрели на возвышающегося над ними старшину, который вдруг подошел к плачущему немцу и так, чтобы слышали остальные, что-то быстро произнес по-немецки. Стоны и плач несколько стихли.
— Что ты им сказал? — полюбопытствовал Брестский.
— Сказал, чтобы не паниковали, что в госпиталь советский летят… Там им окажут медпомощь.
— Ага, фрицы, подфартило вам!.. Если, конечно, сядем.
Немецкий летчик с интересом стал изучать советскую полетную карту, водя тонким пальцем с аккуратно подстриженным ногтем по русским названиям населенных пунктов.
— О-оо… река Псел… село… — сказал он наконец и вопросительно посмотрел на старшину.
— Белополье, — прочитал название нависающий над креслом пилота карты Крутицын.
— Да-да. Белополье. Здесь располагался наш бывший аэродром. Хороший аэродром. Я знаю это место, да и река — хороший ориентир. Я думаю, мы вполне можем сесть здесь до того, как нас успеют сбить ваши сталинские соколы. Курт, снижаемся до тысячи метров…
Нос самолета плавно пошел вниз, и вскоре Крутицын увидел далеко внизу под левым крылом приветливо блеснувшую в лунном свете ленту реки. Летчики снизились еще и теперь они неслись вдоль речного русла, по обеим сторонам которого все так же царила непроглядная ночь. Вдобавок к этому луна вдруг скользнула за облака и стало совсем темно. Но немца это, казалось, нисколько не смущало. Он уверенно вел самолет к одному ему пока лишь ведомой цели.
— Вот та самая излучина реки, — сказал наконец пилот. — Наш… вернее, уже ваш аэродром должен быть где-то совсем рядом, чуть правее. Нам бы сейчас хоть какие-нибудь ориентиры.
Но внизу разлилась чернильная темнота: ни огонька, ни искорки. Надо было что-то срочно предпринимать…
Крутицын вспомнил вдруг про ракетницу, которую разведчики, отправляясь в поиск, всегда брали с собой: подать сигнал о возвращении или запросить огневого прикрытия. Если немец не ошибся и внизу наш аэродром, то там непременно должны были отреагировать на сигнальную ракету.
В остекленной части кабины, сбоку от Крутицына, была небольшая форточка, в которую он и высунул руку с ракетницей.
Его расчет оказался верным. Не успел еще погаснуть зеленый, стремительно взмывший вверх шарик, как внезапно, словно но мановению волшебной палочки, на задернутой ночным мраком земле вспыхнули две линии посадочных огней и световое «Т» промеж ними. Крутицын не смог сдержать восторженного восклицания.
Приказа летчикам не потребовалось: они тут же начали снижение…
В последний момент, когда «тетушка Ю» уже бежала по посадочной полосе, сознание Крутицына отравила вдруг мысль. Полноте, а не обманул ли его летчик? На русский ли аэродром посадил он самолет, успев передать в эфир какой-нибудь хитрый, спрятанный за невинной фразой или восклицанием код опасности?
Но что-либо менять было уже поздно. Крутицын, чувствуя, как внутри него снова нарастает напряжение, машинально опустил руку в карман кителя и стал поглаживать ребристый бок лежащей там гранаты. «Обидно было бы в самом конце так бездарно погибнуть», — мелькнуло в голове.
Лишь только транспортник замер в конце посадочной полосы и летчики выключили двигатели, из мрака в залитое светом пространство (впрочем, прожекторы почти сразу же погасли) вышли, окружая самолет, вооруженные люди. Пропеллеры закончили свой бег, и во внезапно наступившей тишине было слышно, как кто-то недовольно прокричал:
— Блинников, твою мать, я тебе сказал, с бойцами где быть? — Далее послышался чей-то неразборчивый, оправдывающийся голос и тут же снова вступил тот недовольный, командный. — Вот и действуй, пока фрицы не опомнились!..
— Ну что, на выход, господа, — устало сказал пилотам Крутицын. — Война для вас, я думаю, закончилась.
Тут в кабину просунулась голова Брестского. Глаза его сияли, рот растянулся до ушей:
— Сергей Евграфович, неужели сели?! У своих?
— У своих…
— Ну дела! Вечно с вами какие-то чудеса творятся.
— А я кончаю молиться и чудеса заканчиваются, — очень серьезно ответил Крутицын, вспомнив вдруг все произошедшее с ним накануне.
— А как же, Сергей Евграфович, «на Бога надейся, а сам не плошай»?
— Так мы же, вроде, и не оплошали, а Дима?
По счастью, разведчики попали в расположение своей армии, и довольно-таки скоро в дивизии были подтверждены их личности, тем более что на борту оказался пропавший представитель штаба фронта подполковник Ободинский со всеми своими важными и секретными бумагами. Его одним из первых погрузили на носилки и почти сразу же увезли. Полковник был в сознании и успел даже поблагодарить разведчиков за свое спасение.
Ценного немецкого офицера и пилотов «юнкерса» с аэродрома сразу прямиком отправили в штаб армии, раненых — в госпиталь, а сами разведчики уже днем вернулись в родную дивизию. Для этой цели им специально была выделена машина с шофером. Вместе с товарищами вернулся и Чибисов, который, несмотря на слабость и полуобморочное состояние, не захотел отправляться в тыловой госпиталь, предпочтя лечение в дивизионном медсанбате…
А через несколько дней в армейской газете на первой полосе напечатали большие фотографии храброго трио с упоминанием о том, что все отличившиеся в рейде были представлены к высоким правительственным наградам, ибо сведения, которые сообщил в штабе армии пленный немецкий офицер, оказались весьма и весьма ценными. В частности, о времени начала операции «Цитадель».
И хотя в военных сводках за те июньские дни 1943 года лишь скупо сообщалось о боях местного значения и смелых рейдах разведчиков в тылу врага, история эта еще долго гремела по всему фронту. Говорят, даже дошла до самого Сталина, но это нам доподлинно неизвестно…
Часть четвертая
1
Скала как скала, не лучше и не хуже многих, местами поросшая шелковистым на ощупь мхом, она неприступной громадой нависала над покатым, упирающимся в хвойный лес склоном. Уже через несколько лет после окончания войны эту скалу будут штурмовать первые экстремальные туристы, а в ночь с 6 на 7 августа 1944 года к ней оказалась прижата разведгруппа капитана Чибисова, и именно здесь, судя по всему, ей предстояло встретить свою смерть. Немецкие альпийские стрелки вместе со спецбатальоном СС умело блокировали группу с трех сторон и теперь ждали только утра и минометов, вызванных на случай, если русские вдруг откажутся сдаться.
Все происходящее в тот час в Карпатах, являлось следствием секретной радиограммы, что двумя неделями раньше пришла в штаб немецкой группировки «Южная Украина». Зашифрованный в радиограмме текст содержал следующий приказ: «Пора выпускать Карпатского ястреба».
Что он означает, в советских войсках узнали уже на следующее утро…
Небольшая железнодорожная станция где-то у подножия Карпатских гор. Пирамидальные, словно политые маслом, тополя зеленеют на фоне ослепительно синего неба. Под ними белеет одноэтажное здание вокзала, а чуть дальше утонуло в подсолнухах несколько крытых почерневшей соломой домишек. На краю станции целятся в безоблачное небо две прикрытые маскировочной сетью зенитки. Работы для них нет и, судя по предыдущим дням, пока не предвидится: в воздухе полностью господствует наша авиация.
Несмотря на утро, уже жарко. На привокзальной площади не протолкнуться: машины, подводы, масса служивого народа. Беспрестанно скрипит, кланяется столпившимся вокруг людям и изрезанному горной грядой горизонту колодезный журавель, и то и дело ослепительно вспыхивает на солнце мокрое от воды ведро. А дальше, за площадью, тянется меж покрытых виноградниками холмов дорога, по которой, обдавая белой пылью спешащие к фронту маршевые роты, безостановочно снуют грузовики.
Страдающий одышкой паровоз медленно, из последних сил напрягая свое обожженное огнем и паром нутро, втягивает на станцию очередной состав: несколько теплушек и нескончаемую вереницу груженных лесом платформ. На каждой по часовому.
— Опять «дрова» привезли, — со значением произносит начальник станции своему заместителю.
Ловко спрыгнув с подножки одной из теплушек, к ним уже торопится высокий, перетянутый ремнями офицер.
Страшно скрипят, замедляют бег огромные, почти невидимые в клубах пара, полутораметровые колеса паровоза; словно судорога пробегает по всему составу, и он наконец останавливается.
В этот самый момент из-за горной синеющей на горизонте гряды выскакивает стайка самолетов. Поначалу на них никто не обращает внимания — принимают за своих, но самолеты стремительно приближаются, и вскоре на состав, на забитую людьми площадь вдруг обрушиваются бомбы и пули.
— Воздух! — кричит кто-то запоздало.
Немцы! Откуда?! Словно гигантские швейные машинки заработали, загрохотали над головами. Пули-иглы выбивают в земле смертоносные строчки, на краткий миг сшивая небо и землю. Торопятся, наводят орудия на стремительные, юркие цели зенитчики. В панике разбегаются люди. Страшно кричат раненые. Ошалевшие от ужаса лошади, не разбирая дороги, тащат за собой пустую телегу. От взрывов на платформах разлетаются в стороны бревна, открывая спрятанные под ними новенькие танки. Вскоре полыхает весь состав. Горят бревна, горит техника. Оглушительно рвутся снаряды. Катается по земле, рычит от нестерпимой боли охваченный пламенем часовой одной из платформ…
Заскочивший в свой кабинетик комендант быстро крутит ручку полевого телефона, при каждом близком разрыве инстинктивно втягивая голову в плечи. Он весь в крови, но эта кровь не его. Перед глазами коменданта все еще стоит страшная картина: бьющееся в смертельной агонии тело заместителя и запрокидывающееся мертвенное лицо так и не успевшего ничего сказать офицера, убитых одной пулеметной очередью.
В несколько минут все кончено — состав и станция полностью разгромлены. Немцы, сделав прощальный вираж, устремляются назад к горам.
Над горящей, затянутой черным дымом станцией вдруг с ревом проносятся наши «ястребки». «Ничего — не уйдут», — не сомневается их командир, выжимая из своей машины все что возможно. Его самолет стремительно набирает высоту.
Вот уже и линия фронта — темные извивы траншей, оспины воронок, противотанковые ежи и тонкие, как паутина, нитки колючей проволоки. Небо вокруг сразу же покрывается облачками разрывов — то заработали, прикрывая своих, вражеские зенитки. По давно отработанной тактике несколько «ястребков» тут же резко снижаются и обрушивают всю мощь своих пушек и пулеметов на вражеские позиции, давая возможность остальным самолетам прорваться сквозь огневой заслон.
Но когда те достигают наконец горной гряды, противника, еще несколько минут назад маячившего впереди, словно сдуло ветром. Чистое небо вокруг и убегающие за горизонт бесконечные хребты Румынских Карпат под крылом. Летчики в недоумении какое-то время кружат над горами, пока раздосадованный командир не дает команду возвращаться.
А еще через полчаса немецкий радист уже будет передавать в Берлин следующее: «Карпатский ястреб успешно вылетел из гнезда…»
2
В доме, где расположился штаб армии, распахнуты все окна, но это помогает мало — вечер не принес желаемой прохлады. Лоснятся от пота лица сидящих в комнате офицеров, на гимнастерках проступают темные клинья, но люди кажется, не замечают жары: все следят за командармом — невысоким подтянутым человеком лет 55. Тот, как всегда, внешне спокоен, но, судя по румянцу на щеках и покрасневшей шее, внутри полыхает огонь.
— Проклятье! — наконец произносит командарм глухим полным едва сдерживаемого гнева голосом. — За неполную неделю немцы уже пожгли целый танковый полк и два эшелона с пополнением. И это накануне начала операции!
— Чтобы действовать так стремительно и нагло, надо иметь аэродром в горах, — тихо замечает начальник штаба и косится в сторону начальника армейской разведки.
— По данным аэрофотосъемки, здесь у немцев поблизости нет аэродромов, тем более в горах, — тут же отзывается тот и, опуская глаза под сверлящим взглядом командарма, продолжает. — Но создается ощущение, что именно там он и располагается.
— Ощущения… Я что, в штабе фронта про ощущения буду говорить? — недовольно бурчит командарм. Тяжело опираясь на покалеченную ногу, он, раскачиваясь, ходит вокруг большого ящика с песком, на котором изображен рельеф лежащей впереди местности, словно там кроется ответ на волнующий сейчас всех вопрос: откуда взялись и куда делись немецкие бомбардировщики. Флажками отмечены расположения огневых точек противника, но никаких данных об аэродроме. Но это просто немыслимо: какой аэродром в горах?..
— Значит, будем искать, — заключает генерал, давая понять, что разговор окончен.
Но напрасно день за днем, ежеминутно рискуя быть сбитыми вражескими зенитками, кружили над Карпатами воздушные разведчики — никаких признаков военного аэродрома в горах они не обнаружили.
Наземной разведке тоже не везло. Пойманные «языки», среди которых были и офицеры, в один голос утверждали, что ничего не слышали о горном аэродроме, а две заброшенные в район его предполагаемого месторасположения группы и вовсе не вернулись с задания.
Одна из них принадлежала дивизии генерала Андреева. Именно на их участке объявились эти неуловимые немецкие бомбардировщики, и найти аэродром представлялось Андрееву делом чести.
С этого он и начал разговор, когда в очередной раз вызвал к себе командира разведроты дивизии капитана Чибисова. Разговор был недолгим. Чибисов сам попросился возглавить новую группу и взять с собой только проверенных бойцов — свой «Брестский квартет».
— А что, вас опять четверо? — с улыбкой спросил Андреев. — Кого-то еще все-таки решились принять в свое знаменитое трио?
— Никак нет, товарищ полковник, нашелся старый товарищ — Соловец. Помните того морячка, что пристал к нам в Бресте? Жизнь мне тогда спас — немца подсвечником завалил…
И радостно поблескивая глазами, Чибисов рассказал, как около месяца назад шел вдоль строя очередной маршевой роты (по давно заведенной традиции разведчики первыми отбирали себе бойцов) и вдруг с криком: «Товарищ капитан!» к нему выскочил маленький, до боли знакомый лопоухий солдатик — только бы бескозырку вместо пилотки да усы сбрить.
— Соловец? Морячок, говоришь… Ах да, что-то припоминаю. И как он? — сощурился Андреев.
— Был в плену, партизанил… После ранения направлен к нам на Второй Украинский. Сразу же взял его к себе.
— А парень-то надежный? В плену, говоришь, был?
— Обижаете, товарищ полковник. Он свою вину кровью смыл, в штрафной роте, — Чибисов так и подскочил на стуле. — Да и вообще, я этим троим как самому себе!..
— Ну не горячись, не горячись. Тебе — верю! Квартет, так квартет. Сроку вам — две недели. На подготовку — пять дней. Больше, пойми, не могу. Времени и так в обрез. Горного инструктора вам тоже пришлю. Так что действуй, капитан.
Чибисов козырнул и направился к выходу.
— И вот еще что… — уже на пороге остановил его Андреев. — Ты там особенно не геройствуй. Ваша задача — обнаружить аэродром и сообщить его координаты. И все. А дальше уже наши бомберы поработают.
Про геройство Андреев говорил не случайно. В декабре сорок третьего разведгруппа капитана Чибисова захватила в плен группу немцев. У одного из захваченных нашли альбом с фотографиями. Таких альбомов разведчики повидали за свой фронтовой век немало: счастливые фрау на залитых солнцем лужайках; улыбчивые немецкие солдаты на фоне какой-нибудь европейской достопримечательности; первые дни вторжения с трупами красноармейцев, разбитой техникой и оборванными детьми с немецкими шоколадками в руках; первая зима и похороны погибших товарищей — бесстрастная фиксация страшного исходящего кровью времени. Но один из снимков — на нем была запечатлена группа пленных советских женщин, — внезапно привлек внимание бегло просматривающего альбом Чибисова. Всегда спокойный и выдержанный, он вдруг затрясся нервной дрожью, неожиданно для всех подскочил и мертвой хваткой вцепился в хозяина фотографий.
— Откуда у тебя это фото?! Откуда? — закричал капитан и так рванул немца за воротник тоненькой долгополой шинельки, что полетели прочь с мясом выдранные пуговицы, но офицер только хрипел и полуобморочно закатывал глаза — он был ранен в плечо и едва что-либо соображал от боли и страха. Разведчики едва оттащили своего командира…
Потом, на допросе немец сказал, что снимок сделан в первый день войны в Брестской крепости, и что на нем — жены комсостава и медсестры. Немцы, штурмуя казармы, пытались использовать их в качестве живого щита, а потом расстреляли. Всех.
— Но я не расстреливал, я только фотографировал, — добавил он испуганно, видя, как наливаются кровью глаза русского капитана.
После этого случая Чибисов, словно нарочно ища смерти, стал возглавлять самые рискованные рейды. Не раз он и его товарищи были на волосок от гибели, но удача пока сопутствовала им.
4
В ночь перед вылетом Брестскому приснилась мельница: огромная, потемневшая от времени, с посеченными осколками крыльями, что беззвучно крутились на фоне черного грозового неба на высоком холме. И так был страшен вид этой мельницы, что Дима невольно закричал и с этим криком вырвался из мучившего его кошмара. Такой сон, по солдатскому поверью, означал лишь одно — скорую смерть. Растревоженный этой мыслью, он уже не мог заснуть и до самого подъема немигающим взглядом смотрел перед собой в сопящую, дышащую на разные лады темноту.
А спящему рядом Соловцу в этот самый момент снился командир их штрафной роты, капитан Гребенюк. Снился таким, каким он был в свои последние минуты, накануне атаки на очередную, спрятанную за сухим порядковым номером высоту. «Искупить кровью, кровью!» — рвал морозный ветер его обращенные к угрюмо застывшему строю штрафников слова. И, повинуясь командирской воле, рота пошла на захлебывающиеся свинцовой злобой пулеметы, усыпая телами белое неохватное поле, и мягкий снежок падал на остывающие губы, на набухающие красным шинельки. Где-то там навсегда остался лежать прижавшийся простреленной грудью к земле и капитан Гребенюк. А тяжелораненого, кровью искупившего немецкий плен Соловца вынесли выжившие в той захлебнувшейся атаке. Так началась его очередная госпитальная одиссея, пока наконец, залатанный и подлеченный, не оказался он под жарким прикарпатским солнцем.
А Крутицыну с Чибисовым ничего не снилось — они просто провалились, как в полынью, в сон без сновидений.
А еще через два часа с прифронтового аэродрома в районе городка Пашкани поднялся в небо и взял курс на Карпаты транспортный самолет Ли-2. Через двадцать минут полета в его дрожащее чрево, где ожидала выброски разведгруппа Чибисова, выглянул один из пилотов и со словами «пора, братцы» распахнул дверь в полную мрака и седых, изодранных самолетными крыльями облаков бездну.
И понеслись к земле, как в пропасть, четыре трепещущие души…
5
Все произошедшее с ним Костя мог охарактеризовать лишь одним словом — нелепость.
Ему не повезло с самого начала, когда он вместе со своим парашютом, рацией и автоматом опустился чуть ли не под колеса немецкого грузовика, что в этот ночной час, натужно урча и высвечивая на поворотах то поросшие мхом скалы, то пологий, почти безлесый склон, тащился по горной дороге. Увидев в ночном мраке причудливой тенью промелькнувшего над ними парашютиста, сидящие в кузове солдаты вначале оторопели от неожиданности, а потом забарабанили по кабине водителя, требуя немедленной остановки, да и последний уже сам во всю давил на тормоза. А еще через минуту двадцать здоровенных засидевшихся в кузове парней уже мчались в сторону падения русского диверсанта, да так быстро, что времени у Соловца хватило только на то, чтобы перерезать стропы своего парашюта и сигануть в ближайшие кусты, надеясь на темноту и на своенравную, переменчивую птицу под названием удача.
И он бежал сквозь холодную карпатскую ночь, не обращая внимания ни на боль от бьющей по спине тяжелой глыбы переносной радиостанции, ни на хлесткие ветки, и в голове прыгало одно лишь слово — подвел. И это в самом начале рейда!
Соловец должен был стать голосом группы, ее золотой сердцевиной, капсулем — ведь именно от него зависела жизнь волшебной запертой в коробку радиостанции птички, чьей песни за много километров отсюда с нетерпением ожидали в штабе дивизии молоденькие связистки. Ему даже представились глаза одной из них: зеленые, строгие, под русой, не по уставу спадающей из-под пилотки челкой. Соловец пару раз столкнулся с девушкой около узла связи и с той поры не мог забыть ее внимательного, несколько удивленного, — мол, встречаются же на войне такие низкорослые солдаты, — взгляда.
— Смотри, Костя, второй раз прыгаешь. Еще убьешься или ноги переломаешь с непривычки, тем более что прыжок-то ночной. Быть может, стоит тебе отказаться. Я и ребята тебя поймем, — говорил ему перед вылетом Чибисов. Но морячок так умоляюще глядел на командира, так клялся, что не подведет, что капитан сдался, хотя и рисковал сильно. Случись что с радистом и рацией, и вся операция полетела бы к чертям собачьим. И полетела!
Но вначале, зажмурившись, с отчаянным криком: «Полундра!» полетел вслед за товарищами в непроглядную совершеннейшую ночь утяжеленный радиостанцией Соловец…
Досчитав, как учили, до трех, дернул за кольцо и после этого падал камнем еще целую вечность. Сердце, как пойманный в силки воробушек, отчаянно билось в стянутой лямками и ремнями груди, пока морячка вдруг не рвануло резко вверх — и падение прекратилось: он словно парил во мраке, невидимый и легкий как пушинка одуванчика.
И тишина, потрясающая тишина стояла теперь вокруг, лишь чуть поскрипывали стропы парашюта. Для привыкшего к постоянной канонаде уха тишина показалась просто оглушающей, звенящей. И это ощущение полета! Морячка словно выдернули из времени и из войны, и ничего больше не было — только он, ночь и шелковый, едва угадывающийся купол над головой.
И все бы хорошо, если бы не внезапный порыв ветра, что властно подхватил Соловца где-то между небом и землей и зашвырнул на несколько километров правее, как оказалось, в сторону горной дороги.
Сзади загрохотали автоматы, и Костю от ног до поясницы вдруг резануло такой нестерпимой болью, что он вскрикнул и упал как подрезанный. Тяжело мотанулась и припечатала спину радиостанция. Морячок попытался подняться, но тщетно — все тело словно налилось свинцовой тяжестью, не то что идти, ползти невозможно. С трудом перевалившись на бок и едва не теряя от боли сознание, он снял с плеча автомат и, передернув затвор, замер в ожидании.
У него еще теплилась крохотная надежда, что все обойдется — ведь обходилось и не раз. Быть может, получится затаиться, дождаться рассвета. Но ныло, сжималось от плохого предчувствия сердце, как когда-то в далеком январе сорок второго, когда бежал по обледенелой мостовой от преследовавшего его немецкого конвоира.
Все-таки поморозился он тогда сильно — до гноящихся ран. И плохо бы пришлось Соловцу, если бы не Игорек и его бабушка, что почти два месяца выхаживала беглеца: каждый вечер перед сном приносила к кровати таз с теплой водой, мыла морячку синюшные изодранные ноги, а потом смазывала их гусиным жиром и обматывала тряпками. Раны зажили довольно-таки скоро, но еще долго оставался отек. Даже сейчас, спустя два года, при любой непогоде ноги ныли так, что хоть на стену лезь.
К весне, когда наконец поправился и окреп, Костя решил, как ни отговаривали Игорек с бабушкой, пробираться к своим, к фронту. Прощались, словно родные, да и на самом деле они стали ему за эти месяцы близкими людьми. Галина Ефимовна даже всплакнула, перекрестила на дорогу:
— Ты уж береги себя, Костенька, береги…
На третий день пути, проголодавшись, он рискнул зайти в лежащее на пути село и сразу же натолкнулся на полицаев. Человека четыре — они неторопливо шли поперек улицы навстречу, лузгая семечки и ведя перед собой нескольких молодых парней. Морячок хотел уже было шмыгнуть в ближайший проулок, но опоздал — Костю заметили.
— А ну-ка иди сюда, малец… — подал голос один из полицаев, рыжий здоровенный детина.
Болтающаяся за спиной его винтовка казалась игрушечной. Предчувствуя беду, Костя подошел. Рыжий вгляделся в лицо морячка и вдруг присвистнул:
— Да ты и не малец-то вовсе. Документы?
Документов у Кости не оказалось.
— Все понятно, — недобро сощурился полицай. — А ну-ка, пойдем-ка с нами.
И словно боясь, что Костя чего доброго улизнет, положил свою тяжелую руку ему на плечо и подтолкнул к арестованным парням — всем лет по восемнадцать-двадцать.
— Куда это нас? — спросил морячок у одного.
— Навстречу твоему счастью, в Германию, — усмехнулся тот грустно. — Работать на них будем.
Их привели к какому-то сараю, где и заперли до утра.
А утром была станция и битком забитые парнями и девчатами товарные вагоны. С грохотом задвинули двери, навесили замки. И загудел, завыл паровоз, сильно дернув, потянул за собой состав, и перед стоящими на насыпи автоматчиками, замелькали забранные колючей проволокой окошки, а в них молодые встревоженные лица, золотые да русые косы.
Весело стуча колесами, торопился на запад товарняк, но совсем невесело было в его вагонах. В глазах запертых внутри людей — тоска, а в головах — невеселые думки о доме, о зыбком, совсем неопределенном будущем. Но не у всех, правда, не у всех…
Негромкий шепоток в углу вагона. Колесный перестук заглушал, рубил фразы, но слышался, отчетливо слышался чей-то уверенный басок:
— Что скисли-то?.. В Европу как никак едем. Немцы — нация культурная. Мама говорила… Уж лучше там, чем здесь, под Советами, корячиться…
Ах мама, что же вы такое говорили сыну? Неужели вы не чувствовали вашим материнским сердцем, что ждет его на далекой чужбине, что не работником едет он туда, а бесправным, бессловесным рабом?.. Неужели вы не видели, что творят на вашей земле «культурные» немцы? Неужели не знаете, что в ярах, в наскоро отрытых траншеях, заброшенных шахтах и колодцах лежат тела невинно убиенных, и стонут, стонут их неупокоенные души над обожженной рукотворными пожарами землей?!..
Но уверенно гудел из угла басок. И солнечный луч, пробиваясь сквозь забранное колючей проволокой окно, скользил по лицам, и как хотелось в этот миг поверить, что впереди действительно ждет счастливая, сытая жизнь с румяными добродушными бюргерами и фрау в белоснежных передниках — точь в точь, как на немецких пропагандистских плакатах.
На второй день пути, когда вдоль железнодорожного полотна потянулись непроходимые белорусские леса, Костя решительно отодрал от пола несколько прогнивших досок, которые приметил еще в самом начале дороги, и был таков.
— Дурак! — произнес все тот же басок из угла, когда Костя протискивался навстречу бешено бегущему полотну. Страшно громыхали колеса, лязгали сцепкой вагоны, но уж лучше убиться, чем горбатиться на врага.
Не убился. Поцарапался, правда, и ушибся сильно, но живой приподнял над насыпью голову, когда поезд, прогрохотав над ним оставшимися вагонами, стремительно укатил в сторону границы. А морячок остался один на один с тревожно шумящим на ветру лесом.
Несколько дней скитался по лесам, ночевал в стогах сена — спасибо добрым людям, что давали еду, — пока не попал к партизанам.
Тогда Косте довелось навестить и свое село, или вернее оставшееся от него пепелище со страшными остовами уткнувшихся в небо печей…
Чудом уцелевшие, не попавшие в тот день в облаву люди рассказали, что всех селян загнали в большой сарай и подожгли. Как объявили каратели — за связь с партизанами. В этом сарае, в котором до войны хранилось летом душистое сено, играли в прятки поселковые мальчишки, а теплыми вечерами сворачивали иногда влюбленные парочки, сгорели и Костины родители.
Теперь морячок жил только одной мыслью о мщении.
Они пускали под откос поезда, вылавливали и отстреливали, как бешеных собак, полицаев, нападали на немецкие колонны и штабы.
А потом было первое ранение, самолет и встреча с женщиной, услышав имя которой, пришел в страшное волнение Сергей Евграфович Крутицын.
Хотя толком ее Костя не видел, не до того ему было. Невыносимо пекло в простреленном боку, и он то и дело проваливался в забытье. Да и темно было, но слышал, как командир отряда (он и эта женщина как раз остановились около носилок с ранеными) называл ее то Марья Борисовна, то товарищ Крутицына. Женщина, помнится, все отказывалась лететь, но командир настаивал на своем, говоря, что оставаться в N ей уже стало опасно. Услышав знакомую фамилию, Костя порывался выяснить, не жена ли она того самого Крутицына — его боевого товарищи и спасителя. Но тут началась погрузка на самолет, а в воздухе морячку стало совсем плохо. Очнулся он уже во фронтовом госпитале. Помнил только, что женщина летела не одна, а с маленькой девочкой, то ли Таей, то ли Таней.
— Она это! Ну, точно она — жена моя и дочка приемная! Эх, Машенька, Машенька. Значит, партизанам помогала, лихая головушка, — качал головой старшина и все выпытывал у Кости мельчайшие подробности той ночи.
— Да, вы не волнуйтесь так, Сергей Евграфович! — успокаивал его Соловец. — Я думаю, все у ваших родных нормально: их ведь на Большую землю вывезли. Нам тогда в отряде совсем тяжко стало. Немцы целую дивизию против нас бросили. Облаву за облавой. Говорят, даже название для операции придумали: «Стеклянная ночь».
Крутицын согласно кивал, но васильковые глаза его, заметил Костя, обращенные куда-то вдаль, были печальны.
«Эх, где вы сейчас, дорогой товарищ Крутицын, капитан, Дима?.. Небось залегли в какой-нибудь ложбинке, вслушиваетесь в далекую стрельбу и ругаете почем свет своего непутевого радиста».
А голоса, казалось, звучали уже повсюду. Он слышал, как шумит сминаемая грубыми солдатскими ботинками луговая трава, все ближе и ближе, и чуть не плакал от собственного бессилия.
Судя по всему, его подстрелили наугад. И от этого было обидно до слез, совсем как зимой сорок второго, когда выписавшегося из госпиталя и все честно рассказавшего в военкомате про свой плен морячка вместо фронта отправили в фильтрационный лагерь для проверки. Тогда, закусив до крови губу, он чуть было не разрыдался перед нагло, с усмешечкой, глядящим ему в глаза особистом…
Костя лежал неподвижно, надеясь, что немцы пройдут во тьме мимо, но один из них надвигался прямо на него, и морячку ничего не оставалось, как нажать на спусковой крючок. В яростных вспышках уходящих во мрак пуль он успел различить тускло блеснувшую ременную пряжку и сжимающие автомат кулаки. Немец тяжело и как-то сразу, обдав Соловца запахом папирос и разгоряченного бегом тела, обрушился в траву буквально в шаге от него. Послышались отчаянные крики. Чей-то сорванный голос коротко подал какую-то команду.
Оскалившись от боли и ярости, Костя выпустил в сторону маячивших впереди фигур еще несколько длинных очередей, ожидая, что вот-вот слетятся, хищно вопьются в его тело свинцовые птички.
Но залегшие, рассредоточившиеся по лугу солдаты почему-то не торопились стрелять. «Хотят взять живым», — подумал морячок. И словно в подтверждение совсем рядом на ломаном русском закричали: «Иван, здавайся! Ви окружен!». Костя выпустил на голос целую очередь, краем глаза успев заметить, как сбоку к нему метнулись три, показавшиеся неестественно длинными тени. Так близко, что было поздно что-либо предпринимать, кроме, пожалуй, одного: на ремне под пряжкой согретая теплом его тела покоилась запрятанная на такой случай лимонка. Быстро выдернув чеку и весь обратившись в слух, он зажал в руке смертоносный кусок металла…
Когда тени приблизились вплотную и одна из них вдруг быстро наклонилась к нему, Костя разжал пальцы.
Ночь на миг отпрянула к скалам. Но прежде чем страшная, рванувшаяся на волю сила разорвала морячка на куски, перед расширенными зрачками промелькнули, словно почудились, чьи-то зеленые глаза под непослушной, совершенно неуставной челкой…
6
— Русский взорвал себя гранатой. Среди солдат есть двое погибших и трое раненных: один очень тяжело, — взволнованный голос дежурного, казалось, вонзался прямо в мозг, прогоняя остатки сна у только-только прилегшего было оберштурмфюрера. — При русском обнаружена рация. Она сильно повреждена. Унтер-офицер Гюнтер решил прочесать окрестности и вскоре наткнулся на остальную группу, численность которой установить не удалось. Его солдаты вступили с ними в огневой контакт, но русским благодаря темноте удалось скрыться.
Было уже около пяти часов утра, когда начальнику охраны объекта оберштурмфюреру Шуману позвонили с внешнего поста и сообщили, что солдаты второго взвода обнаружили и вступили в бой с русским диверсантом.
Не отрываясь от телефона, Шуман склонился над расстеленной на столе картой и тут же остро отточенным карандашиком пометил место, где были обнаружены диверсанты. Оно было лишь на несколько километров правее зон высадки двух предыдущих разведгрупп. Русские не очень-то оригинальничали. Хотя их логику понять несложно: это было единственное удобное для высадки место в горах, расположенное в непосредственной близости от аэродрома. Ну что ж, данное обстоятельство существенно облегчало задачу по их уничтожению.
— Срочно высылайте поисковую группу с собаками. Далеко они все равно не ушли. И каждые полчаса докладывайте ситуацию, — отдал распоряжение Шуман и, не дожидаясь ответа, швырнул на рычаг трубку.
«Ну что ж, по крайней мере, у змеи выдернули жало», — подумал он, нервно приглаживая растрепавшиеся во сне волосы, крикнул дежурному, чтобы принесли крепкий кофе, и снова склонился над картой…
Объект с кодовым названием «Карпатский ястреб» начали строить еще в начале 1942 года. В какой-то хитроумной голове родилась идея расположить здесь секретный аэродром, тем более что большие пещеры в этих скалах существовали издавна, и начинать взрывные работы надо было не с нулевого цикла.
Пригнали толпы пленных (их потом и положили здесь же, в одной из пробитых в горе штолен), на транспортных самолетах доставили рельсы, вагонетки, специальные буры. Привезли из Берлина деловых немногословных инженеров. И закипела в горах работа. — Еще один кусок Румынской земли отдали немцам, — ворчали местные пастухи, но их мнения, как обычно, никто не спрашивал.
Оберштурмфюрер СС Томас Шуман всегда верил в технический и военный гений своего народа. Доказательства этому оберштурмфюрер видел с первых дней войны и даже потом, когда русские вдруг показали зубы и фронт медленно, но неумолимо стал отодвигаться к границам Германии, он ни разу не усомнился в этом. Не поколебалась эта вера и после ранения, когда его направили на секретный объект в районе Румынских Карпат. Скорее наоборот: чем лучше он узнавал все тайны горного аэродрома, тем больше убеждался в избранности и инженерном гении немецкой нации. Он, как и многие офицеры, у которых на плечах имелась голова, а не железная проржавелая банка, как любил повторять сам Шуман, склонен был видеть корень всех бед в бездарном руководстве фюрера, но до поры до времени предпочитал помалкивать об этом — агенты гестапо и военной разведки не зря ели свой хлеб.
Где-то внизу на равнине сходились в смертельной схватке две сильнейшие армии мира, дрожала от взрывов земля, и тысячи людских душ ежедневно прощались с жизнью, а здесь стояла девственная тишина — словно и не было вовсе никакой войны. И даже тяжелые раскаты долетающие порой из-за перевала, были лишь отголосками громыхающий над горами грозы, довольно-таки частой в это время года. Но Шуман был педант и профессионал. И как педанта и профессионала его не могла убаюкать или расслабить благостная тишина здешних мест. Недаром имел три железных креста и все три за успешно проведенные операции по уничтожению партизан. Так что в расстановке «силков» и «капканов» на двуногого зверя (коими полагал всех противников на войне, которых надо уничтожать и травить по всем правилам охоты) ему равных не было. Фронт стремительно приближался, и как знать, быть может, скоро и в этих волшебных местах зазвучат выстрелы и взрывы. Шуман самолично облетел на самолете весь вверенный ему квадрат, осмотрел места возможной высадки русских диверсантов — все в непосредственной близости от объекта, — и на каждом расставил посты, велел провести связь, чтобы в считанные минуты можно было организовать облаву.
И надо сказать (как ни шептались поначалу за спиной его офицеры, что он бестолку распыляет вверенные ему силы), прав оказался оберштурмфюрер, сто раз прав. Вскоре после того как с аэродрома было совершено несколько успешных вылетов, русские попытались обнаружить его месторасположение, но благодаря проведенной оберштурмфюрером работе две сброшенные с парашютов группы были уничтожены. И когда утром 6 августа ему позвонили и сообщили о третьей, он испытал ведомое только охотникам чувство азарта.
7
«Все утро топали по горному ручью, сбивали со следа собак», — мог бы записать в своем дневнике Брестский да еще добавить в конце крепкое словцо, если бы только можно было взять тот дневник с собой.
Но не положено: ни дневников с письмами, ни наград, ни документов — обезличенными должны уходить в рейд разведчики. Да и, собственно, никаких дневников бывший вор Брестский никогда и не вел, и писем тоже не писал. Некому было писать — один-одинешенек, как перст, на белом свете. Если вдруг погибнет, то никто о нем не заплачет, не забьется в истерике и фотографию с траурной ленточкой под стекло не поставит…
А может, прибедняешься ты, Брестский, и ждут тебя, еще, ой как ждут?! Помнишь, как всего два дня назад, сжимал ты в объятиях молодую румынскую вдовушку Анике, шептал ей нежный вздор, чувствуя, что впервые за всю свою жизнь попал — влюбился, как мокрогубый мальчишка?..
Да и правду сказать, хороша была Аника, до того хороша, что, как говорил классик, взял бы ложку и ел как сметану. Черные цыганские глаза ее глядели так, что мурашки по телу, а про другие прелести и нет уж сил говорить. Да и к чему слова, если славная Аника почти не понимала по-русски и на все вопросы отвечала только нежным грудным голосом: «Нун телек, нун телек…» И что с того, что где-то далеко под Сталинградом в заснеженных приволжских полях сгинул, как и многие тысячи других румын, ее законный супруг, а потом от воспаления легких сгорел той же зимой единственный трехлетний сын? То, как говорится, не нашего ума дела. Главное, что из всех солдат и офицеров, расквартированных в этом небольшом прикарпатском селе, она выбрала именно Диму и щедро одарила своей бабской любовью. Ведь любви этой, нерастраченной за годы войны, скопилось дюже как много. Недаром гвардии рядовой Дмитрий Хохлатов в нарушение воинской дисциплины и с попустительства командира разведроты пропадал у сладкой вдовушки почти каждую ночь, благо что ситуация временно позволяла.
— Ну и охочь ты до женского пола, Брестский, — говорили ему порой сослуживцы. — Сколько «жен» уже за спиной оставил?
— Ну и что с того?.. Я, быть может, главное мужское дело на Земле делаю — детей за погибших мужиков стругаю, — беззлобно огрызался тот.
«Бабник, дамский угодник», — говорили про него в дивизии за глаза, а в глаза боялись, потому что за Брестским не заржавеет тут же съездить по сопатке. Бешеный.
Да, они все в этой разведроте, кроме разве что самого командира, да спокойного как бронепоезд старшины, бешеные. Каста неприкасаемых. А Крутицына уважал даже сам комдив: за руку здоровался, по имени-отчеству величал. Давно бы карьеру в армии сделал, если бы захотел. Но отчего-то не хотел. От званий и чинов отказывался, лишь просил оставить его со своими ребятами, со своим «Брестским квартетом». Да и как не оставить, коли столько пудов соли вместе съедено, столько огня и воды вместе пройдено. Разве что медных труб еще не было — так они, как говорится, только после победы, да и то тем, кто доживет… Но об этом старались не думать: ведь смерть и в нормальной жизни — понятие непредсказуемое, ежесекундно живое существо караулящее. А здесь на войне тем более. Человек для нее что комар — одним хлопком, да не одного! Целые дивизии убиенных ежедневно уходили в небесную канцелярию…
Прыгают в голове тревожные мысли, и лишь один товарищ Крутицын, бывший поручик, бывший счетовод, а теперь гвардии старшина разведвзвода дивизии, как всегда внешне спокоен, только на щеках красные пятна да пот в три ручья. Но бежит молча, не жалуясь, наравне с молодыми, несмотря на то, что в сапогах который час уже хлюпает вода. Ноги распухли так, что мама не горюй, и надо бы остановиться переменить портянки, но времени нет — погоня дышит в затылок, постукивает из автоматов, изматывает душу злым собачьим лаем.
Разведчики забираются все выше меж поросших желтыми лишайниками валунов, через бурелом и кипящие праведным гневом ледяные ручьи, и дыхалки уже не хватает, и отдыхать нельзя. Самоубийственно сейчас отдыхать.
Где, какой недобрый глаз увидел, заметил их? Либо карты легли не так? Но, как пескари, угодили они в невидимый невод и теперь пытались уйти, вырваться из западни. Но еще поганей было им оттого, что бросили своего товарища на произвол судьбы, хотя по неписаному закону, товарищей — даже мертвых — всегда за собой уносили, возвращались, если надо было, а тут…
Гонят, как зайцев, и не обернуться, не передохнуть!
Когда в нескольких километрах от предполагаемой точки сбора загрохотали усиленные эхом выстрелы, а потом прогремел одиночный взрыв, разведчики поняли, что с Соловцом случилась беда, и сразу же двинулись ему на выручку. Но, натолкнувшись на крупный отряд немцев, вынуждены были отступить и, затаившись в близлежащих скалах, ждали до утра, надеясь до последнего, что удача не отвернулась от их боевого товарища.
Но утром началась облава и ждать больше не было никакой возможности. Их погнали как зверя, аккурат вглубь обозначенного на карте квадрата.
Выходит, что готовились к их приходу немцы и, судя по всему, давно — ведь неспроста пропали без вести две предыдущие группы, с переводчиками, с альпинистами, с опытными проводниками.
И несмотря на это, они все равно бы ушли от погони, как бывало не раз за их долгий фронтовой век. Но впереди, подобно окаменевшей морской волне, вдруг встала, отрезая им путь к спасению, отвесная скала. И что толку, что стремительно надвигалась спасительная ночь, а в вещмешках лежали веревки и крючья? Что специальный человек из штаба армии приезжал инструктировать на предмет скалолазанья, и они даже потренировались на самом высоком, какое только удалось найти в округе, дереве? А попробуй-ка без опыта или, на худой конец, опытного альпиниста, который поднимается первым и готовит путь остальным, да под огнем немецких автоматов, заберись наверх…
— Всё, спеклись! — выдохнул, падая за валун, Брестский. Простреленная нога все больше немела, а штанина внизу уже потемнела от крови.
— Потерпи, Дима, я сейчас…
Приткнувшийся рядом Крутицын торопливо рванул индивидуальный пакет.
Тишину то и дело нарушали автоматные очереди. Немцы стреляли просто так для острастки: ночью они не решились идти на штурм.
Разведчики молчали. Да и что говорить — все было ясно без слов: задание провалено, и жить им осталось — самое большее до утра. Каждый думал о своем…
Чибисов молча изнемогал от собственного бессилия. И несмотря на добытый собственными ошибками, потом и кровью опыт, на ясность мысли и силы, и то, что рядом верные товарищи, ничего уже, казалось, не могло изменить их судьбы. «Глупо, как все глупо сложилось… — стучали в голове мысли, и отчаяние все больше овладевало капитаном. — Подвели! Подвели дивизию, армию, фронт наконец. А как надеялся на нас комдив…». Возможно, именно сейчас он напряженно всматривается в карту, на которой по желтым карпатским хребтам, широченной дугой изогнувшимся с севера на юг, синим карандашом очерчен овал — район предполагаемого расположения аэродрома, и гадает, почему до сих пор не вышла на связь группа Чибисова.
Крутицын чуть слышно произносил слова молитвы. К этой, как считали, странности старшины в роте все давно уже привыкли, тем более что не раз сами попадали в такие передряги, где только на Бога и оставалось уповать.
«По всему выходит, сбывается сон, — думал тем временем Брестский поглаживая туго перебинтованную старшиной ногу. — Вот и ранили меня, и к скале нас немец, как вошь расческою, прижал». Брестский вздохнул. Рана хоть и не была опасной — пуля, прострелив мякоть, прошла навылет, — но ходок из него теперь по горным тропам стал никудышный.
«Эх, Анике, Анике, не смотреть больше в твои бездонные очи, не целовать, не слышать ласковый голос…»
Неожиданно сверху посыпались камешки и что-то, мягко ударив его по голове, быстро соскользнуло на плечо — Дима сидел ближе всех к скале. «Змея», — с ужасом подумал он и, позабыв про раненную ногу, мгновенно отпрянул в сторону, переполошив товарищей. Три автомата мигом нацелились на уходящую во мрак скалу. Каково же было удивление разведчиков, когда они увидели, что предмет, в прямом смысле свалившийся Диме на голову, не что иное, как конец неведомо кем спущенной сверху веревки.