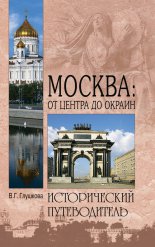Давно хотела тебе сказать (сборник) Манро Элис

– Как тебе цвет? Сюда входишь, как мышь в сыр.
Или так:
– Тут писаешь, как мышь в сыре.
Я, конечно, иногда делаю то же самое: отмечаю удачно сказанную фразу, а потом повторяю ее многократно. Кстати, может быть, про «писать в сыре» придумал не он, а я. У нас было много общих словечек. Например, мы прозвали нашу квартирную хозяйку «зеленая оса», потому что в тот единственный раз, когда мы ее видели, на ней было ядовито-зеленое платье с отделкой из какого-то крысиного меха, украшенное букетиком фиалок, а звук, который она издавала, напоминал угрожающее жужжание. Ей было за семьдесят, и она держала в центре города пансионат для мужчин. Ее дочь Дотти мы прозвали «распутница-надомница». Странно, почему мы выбрали такое манерное слово – «распутница», оно ведь сейчас совсем не в ходу? Наверное, нам понравилось, как оно звучит: высокий стиль вступал в иронический контраст (а мы только и делали, что иронизировали) со всем обликом Дотти.
Она жила в двухкомнатной квартире в цокольном этаже нашего дома и должна была платить собственной матери сорок пять долларов в месяц. Дотти говорила мне, что хочет попытаться поработать няней.
– Я не могу ходить на работу, – объясняла она. – Я очень нервная. Мой последний муж полгода умирал у меня на руках – в доме моей матери. У него была болезнь почек… Я до сих пор должна матери триста долларов за постой. Она заставляла меня делать для него эгног[10] на обезжиренном молоке. Я вечно в долгах. Говорят, не надо денег, было бы здоровье, а как жить, если нет ни того ни другого? В три года я переболела бронхиальной пневмонией. В двенадцать – ревматической лихорадкой. В шестнадцать я в первый раз вышла замуж, и мужа убило бревном на лесоповале. Три выкидыша. Моя матка истерзана в клочья. У меня за месяц уходит три пачки гигиенических пакетов… Второй муж владел молочной фермой здесь неподалеку, в долине, так на его стадо напал мор. Мы разорились вчистую. Это тот самый муж, который умер от почек. Надо ли удивляться, что у меня нервы не в порядке!
Я, конечно, излагаю все в концентрированном виде. Она была гораздо многословнее, и ее рассказ ни в коем случае не звучал как слезливая жалоба. Скорее, Дотти сама себе удивлялась и даже гордилась своей необычной судьбой, когда произносила за столом такие монологи. Иногда она звала меня к себе вниз на чашку чая, потом стала звать на кружку пива. Что ж, такова реальная жизнь, думала я, жившая чтением книг, лекциями, курсовыми и диспутами. В отличие от своей матери, Дотти была плосколицая, пухленькая – такие созданы не для побед, а для поражений. Вроде тех бесцветных замученных женщин, которых видишь с кошелками на автобусной остановке. (Я и вправду видела ее как-то раз на остановке в центре и не сразу узнала в синем зимнем пальто.) Комнаты у нее были загромождены тяжелой мебелью, оставшейся после замужества, – пианино, диван, стулья, вечно чем-нибудь заваленные, ореховый сервант и обеденный стол, за которым мы с ней сидели. В центре стола возвышалась огромная лампа с расписным фарфоровым основанием и плиссированным абажуром из темно-красного шелка. Абажур был оригинальной формы, похожий на юбку-кринолин.
Я описала все это Хьюго и добавила:
– А лампа как из борделя.
Мне хотелось, чтобы он меня похвалил за точность деталей. Я ему говорила, что если он хочет стать писателем, то нельзя пропускать такой материал, как Дотти. Рассказала про ее мужей, про ее матку, про коллекцию сувенирных ложек. Хьюго ответил, что я сама могу ею заняться, если хочу. Он в это время писал драму в стихах.
Однажды я спустилась вниз, чтобы подбросить угля в печку, и увидела Дотти в розовом синелевом халате – она прощалась с мужчиной в форме: кажется, это был посыльный или заправщик с бензоколонки. Было еще только шесть вечера. Прощались они без всякого намека на страсть или похоть, я даже ничего не заподозрила и предположила, что это какой-то родственник. Но тут Дотти пустилась в объяснения. Из ее долгой, путаной и пьяноватой речи можно было понять только, что она на пути к матери попала под дождь, промокла и решила надеть что-то из материнских платьев, но они все ей узки, а свои вещи она оставила сохнуть у матери – и потому сейчас ходит в халате. А Ларри в таком виде ее и застал, когда принес заказ на шитье от своей жены, и я вот тоже застала, и теперь она, Дотти, просто в ужасе оттого, что мы о ней можем подумать. Все это звучало очень странно, поскольку я и раньше много раз видела ее в халате. Посреди ее сбивчивых объяснений и смешков мужчина, который ни разу на меня не взглянул, не улыбнулся и не проронил ни слова, чтобы помочь Дотти, молча выскользнул за дверь.
– У Дотти любовник! – объявила я Хьюго.
– Ты слишком засиделась дома и потому пытаешься сделать жизнь интересней, чем она есть, – ответил он.
Всю следующую неделю я высматривала, не вернется ли тот мужчина. Нет, не вернулся. Зато я заметила трех других, причем один из них появлялся дважды. Они проходили к Дотти, опустив головы, быстро, не задерживаясь перед дверью, – дверь была уже открыта. Хьюго признал их существование. Он сказал, что жизнь опять подражает искусству, так все и должно быть, ведь в литературе постоянно описывают толстых шлюх с варикозными ногами. Вот тогда мы и прозвали ее «распутница-надомница» и разболтали про нее знакомым. Бывая у нас в гостях, наши друзья прятались за оконными занавесками, чтобы исподтишка на нее взглянуть, когда она выходила из дома.
– Не может быть! – говорили они. – Это точно она? Да кого она может завлечь в таком виде? У нее что, нет профессиональной одежды?
– Не будьте так наивны, – отвечали мы. – Вы думаете, они все носят боа и платья с блестками?
Когда Дотти играла на пианино, гости умолкали, чтобы послушать. Играя, она пела или без слов напевала мелодии – нетвердым, но громким, словно бы пародийным голосом, каким обычно поешь, когда тебя никто не слышит, вернее, когда ты думаешь, что тебя не слышат. Она распевала «Желтую розу Техаса» и «Ты это не всерьез, мой милый».
– Распутницы должны исполнять духовные гимны.
– Надо будет ее научить.
– Какие же вы все жалкие, вам бы только за другими подглядывать! – заявила нам девушка по имени Мэри Фрэнсис Шрекер.
Это была ширококостная, спокойная на вид девица с черными косами. Она состояла в браке с Элсвортом Шрекером, бывшим математическим гением, утратившим свой дар. Сама она работала диетологом. Хьюго говорил, что, когда смотрит на нее, ему на ум почему-то приходит слово «люмпен», но при этом допускал, что она может быть полезна – как овсянка. Она стала его второй женой. Думаю, они очень подходили друг другу, и она могла бы и дальше приносить ему пользу, но явилась студентка и изгнала ее.
Игра на пианино развлекала наших гостей, и она же превращалась в проклятье в те дни, когда Хьюго оставался дома и садился за работу. Вообще-то ему полагалось писать диссертацию, но он вместо этого занимался своей пьесой. Сочинял он в нашей спальне, на карточном столике у окна, выходившего на деревянный забор. Послушав немного игру Дотти, Хьюго врывался на кухню и говорил мне негромким, нарочито спокойным тоном, демонстрируя, что он вполне может справиться со своей яростью:
– Сходи вниз и скажи ей, чтобы прекратила.
– Сам сходи.
– Черт, черт! Она же твоя подруга. Ты ее развиваешь. Ты ее поощряешь.
– Я никогда не поощряла ее игру на пианино.
– Я с трудом устроил все так, чтобы освободить день для работы. Это не само собой получилось. Я предпринял усилия. Близится решающий момент, после которого пьеса окажется либо живой, либо мертвой. А если я сам пойду вниз, то я просто задушу ее.
– Не смотри, пожалуйста, на меня волком. И смотри, не придуши меня по ошибке. Ты уж прости, что я дышу тут и вообще существую.
Разумеется, я спускалась вниз, стучала в дверь Дотти и просила ее, если можно, не играть сегодня на пианино, потому что мой муж дома и работает. Я никогда не произносила слова «пишет» – Хьюго меня выдрессировал. Это слово было для нас как оголенный провод под током. Дотти каждый раз извинялась. Она боялась Хьюго и с почтением относилась к его работе и его интеллекту. Играть Дотти прекращала, но, увы: через час или даже полчаса она могла попросту забыть свое обещание, и все начиналось заново. Это меня нервировало и расстраивало. Я была беременна и все время хотела есть. Я сидела на кухне за обеденным столом, несчастная, ненасытная, и жевала разогретый испанский рис. Хьюго казалось, что весь мир сговорился помешать ему писать – не только человечество, но и все звуки, весь бытовой шум и гам устроен нарочно. Все вокруг сознательно и злонамеренно вредят ему, всячески отвлекают, не дают работать. И я обязана была защитить Хьюго, встать между ним и миром, но не справлялась с этим – и по неспособности, и по зловредности. Я в него не верила. Я не понимала, как это важно – верить в него. На мой взгляд, он был умен и талантлив, что бы это ни значило, но я не верила, что из него получится писатель. У него отсутствовала та хватка, та харизма, которой, как мне казалось, должен обладать литератор. Он был слишком нервный, обидчивый, в нем слишком много было позерства. А писатели, по моему тогдашнему убеждению, – люди спокойные, меланхоличные, излишне образованные. Мне казалось, что все они отмечены свыше, что от них исходит сияние, а у Хьюго нимба не наблюдалось. И я полагала, что рано или поздно ему придется это признать и смириться. Впрочем, он жил в своем мире, со своей, неведомой мне, системой наказаний и поощрений, совершенно мне непонятной и чужой, как у лунатика. Вот он сидит за ужином весь бледный и с отвращением смотрит на пищу. Вот я на секунду захожу в комнату что-то взять, и он вцепляется в пишущую машинку и неподвижно замирает, как будто его от ярости разбил паралич. Или начнет вдруг скакать по гостиной, вопрошая – кто он такой (носорог, решивший, что он газель; председатель Мао, танцующий боевой танец во сне Джона Фостера Даллеса[11]), а потом набросится на меня и давай целовать в шею с диким голодным урчанием. В чем была причина этих приступов радости или уныния, неизвестно. Во всяком случае, не во мне.
Я коварно допытывалась, подначивала его:
– Вот у нас родится ребенок, а потом, предположим, в доме начнется пожар. Что ты кинешься спасать – ребенка или пьесу?
– И то и другое.
– Ну а если надо выбрать одно из двух? Ладно, оставим в покое ребенка. Предположим, я горю в огне… Нет, предположим, я тону, а ты рядом, но можешь вытащить из воды что-то одно…
– Ты ставишь меня перед трудным выбором.
– Да, я понимаю, понимаю. Ты меня за это ненавидишь?
– Разумеется, ненавижу!
И мы отправлялись в постель – с воплями, дурачась, изображая потасовку, шалея от счастья. Вся наша совместная жизнь, то есть вся ее счастливая часть, прошла в сплошных играх. Мы разыгрывали диалоги, приводя в смятение пассажиров в автобусе. А однажды в пивной он принялся распекать меня: дескать, я совсем совесть потеряла – гуляю с другими, бросаю детей одних, в то время как он рубит лес, чтобы нас прокормить. Он призывал меня вспомнить долг жены и матери. Я в ответ выдыхала дым ему в лицо. Посетители пивной смотрели на меня осуждающе и упивались скандалом. Когда мы выкатились на улицу, нас сразил такой приступ хохота, что ноги подкашивались, пришлось облокотиться о стену и вцепиться друг в друга, чтобы не упасть. Еще мы играли в постели в леди Чаттерли и Меллорса[12].
– Где этот негодник Джон Томас? – спрашивал он басом. – Не могу найти Джона Томаса!
– Весьма прискорбно, – отвечала я тоном настоящей леди. – Полагаю, я его проглотила.
В подвале дома находился насос, который не переставая глухо гудел. Дом стоял в низине неподалеку от реки Фрейзер, и в дождливые дни приходилось то и дело включать насос, чтобы не затопило цокольный этаж. Январь, как обычно в Ванкувере, выдался темный, ненастный, а за ним последовал такой же темный и ненастный февраль. Мы с Хьюго ходили мрачные. Я большую часть дня спала, а Хьюго не мог сомкнуть глаз и уверял, что в его бессоннице виноват насос. Из-за шума он не мог днем работать, а ночью спать. Таким образом, насос заменил пианино Дотти в качестве постоянного раздражителя. Дело было не только в шуме, но еще и в дополнительных расходах. Плата за электричество включалась в наш счет, хотя только Дотти на своем цокольном этаже получала пользу от насоса: ее не затапливало. Хьюго заявил, что я должна поговорить с Дотти, а я ответила, что Дотти не в состоянии оплатить даже те счета, которые уже приходят. Тогда он сказал: пусть улучшает свои профессиональные навыки. Я велела ему заткнуться. Живот мой рос, и я становилась все медлительнее и тяжелее на подъем и все больше привязывалась к Дотти. Я уже не коллекционировала ее перлы, чтобы потом повеселить знакомых. Мне с ней было хорошо, часто даже лучше, чем с Хьюго или с друзьями.
Ну что ж, ответил Хьюго, тогда придется позвонить хозяйке. Пожалуйста, звони, сказала я. Он тут же сослался на множество дел. В действительности нам обоим не хотелось вступать в переговоры с хозяйкой: мы знали заранее, что толку не будет, она только заморочит нам голову своей уклончивой болтовней, и все останется на прежнем месте.
Дожди продолжались, и как-то раз я проснулась посреди ночи и в первую секунду не могла понять, что же меня разбудило. Потом сообразила: тишина.
– Хьюго, просыпайся! Насос сломался. Слышишь? Не шумит?
– Я и не сплю.
– Дождь льет по-прежнему, а насос не работает. Наверное, сломался.
– Нет, не сломался. Выключен. Я его выключил.
Я села в кровати и зажгла свет. Хьюго лежал на спине, поглядывая на меня искоса и одновременно пытаясь изобразить на лице суровость.
– Не может быть!
– Ну хорошо, не выключал.
– Значит, выключил.
– Да, я не мог больше терпеть, что мы за него платим. Даже думать об этом не мог. Не мог выносить этот чертов шум! Я не сплю уже целую неделю.
– Но внизу все зальет!
– Утром включу. Несколько часов покоя – вот все, о чем я прошу.
– Утром будет поздно, дождь льет как из ведра.
– Не так уж и сильно.
– Подойди к окну.
– Ну и что? Да, льет. Но не как из ведра.
Я выключила свет и снова легла. Потом сказала спокойно и строго:
– Послушай, Хьюго, ты должен спуститься вниз и включить насос. Дотти зальет.
– Утром.
– Ты должен спуститься и включить его сейчас.
– Я не пойду.
– Если ты не пойдешь, пойду я.
– И ты не пойдешь.
– Пойду.
Но я не двинулась с места.
– Не будь такой паникершей.
– Хьюго!
– Не кричи.
– Все ее барахло зальет.
– Туда ему и дорога. Да и не зальет, тебе говорят.
Он лежал рядом со мной, напряженный и подозрительный, и ждал, что я вылезу из постели, спущусь в подвал и в конце концов разберусь, как включить насос. А чем он ответит? Побить меня нельзя, я ведь беременная. Да он никогда не поднимал на меня руку, если только я не била его первая. Он просто встанет, спустится в подвал и снова выключит насос. А я включу. А он выключит. И так далее. Сколько это продлится? Он может попытаться удержать меня, но если я буду сопротивляться, то он испугается, побоится причинить мне какой-нибудь вред. Может устроить скандал и уйти из дома. Но машины у него нет, а на улице настоящий ливень, так что долго он там не проходит. А если будет дуться и беситься, то я возьму одеяло и пойду спать на диван в гостиную. Думаю, именно так поступила бы женщина с сильным характером. Женщина, желавшая сохранить свой брак, так бы и поступила. Но я так не сделала. Я сказала себе: я ведь понятия не имею, как работает насос, я не знаю, как его включить. Убедила себя, что боюсь Хьюго. Даже допустила, что он прав и ничего не случится. Хотя мне хотелось его проучить.
Когда я проснулась, Хьюго уже ушел, а насос в подвале шумел, как обычно. Дотти стучалась в нашу дверь.
– Ты не поверишь, там такое! Воды по колено! Спускаю ноги с кровати – и по колено в воде. И что такое стряслось? Ты не слышала, может, насос выключился?
– Нет, не слышала, – ответила я.
– Ума не приложу, что случилось. Должно быть, насос переработался. Я-то выпила пива перед сном. А то бы, конечно, услышала. Сон у меня чуткий. Но вчера уснула как мертвая, а потом спускаю ноги с кровати, и – Господи Иисусе! Хорошо еще что не включила сразу лампу. А то меня бы током убило. Теперь все плавает.
На самом деле ничего не плавало, и вода, разумеется, была не по колено. В некоторых местах она поднялась дюймов до пяти, а в основном – всего на пару дюймов. Пол там был неровный. Остались следы внизу на диване, на ножках стульев. Вода проникла в нижние ящики буфета. Пианино снизу разбухло. Плитки на полу расшатались, коврики намокли, с края покрывала на кровати капало, обогреватель пола вышел из строя.
Я оделась, натянула сапоги Хьюго и спустилась вниз со шваброй в руках. Стала сгонять остатки воды наружу, за дверь. Дотти приготовила у меня на кухне чашку кофе, уселась на верхней ступеньке лестницы и, наблюдая за мной, снова и снова повторяла все тот же монолог про пиво и крепкий сон, из-за которых она не слышала, как выключился насос. И с чего это он вдруг выключился, если действительно выключился? И как объяснить все произошедшее матери, которая, конечно, решит, что Дотти во всем виновата, и взыщет с нее убытки? Словом, мне стало ясно: нам повезло (нам!). Привычка и даже пристрастие к несчастьям лишили Дотти всякого интереса к расследованию их причин. Как только воды стало поменьше, она пошла к себе в спальню, оделась, натянула сапоги (из них пришлось вылить воду), взяла швабру и начала мне помогать.
– Только со мной такое может случиться! Я даже никогда на картах не гадаю. У меня есть подружки, те все время гадают, а я говорю: мне не надо. Я и так знаю, что ничего хорошего не будет.
Я поднялась наверх и позвонила в университет. Сказала, что у нас произошел несчастный случай, и Хьюго разыскали в библиотеке.
– Нас залило.
– Что?
– Нас залило. Квартира Дотти вся залита.
– Я включил насос.
– Ага, включил! А когда это было? Утром?
– Утром пошел настоящий ливень, и насос не справился. Лить начало после того, как я его включил.
– Насос не справился ночью, потому что был выключен. И не надо рассказывать мне про ливень.
– Ливень пошел утром. Ты просто спала и не слышала.
– Ты что, не понимаешь, что наделал? И даже не задержался, чтобы посмотреть на потоп! Это я вынуждена на все любоваться. И слушать жалобы несчастной Дотти тоже должна я!
– Заткни уши.
– Сам заткнись, урод бесчувственный!
– Прости, пожалуйста. Я пошутил. Мне очень жаль.
– Жаль? Ах, ему, видите ли, жаль! Разве я тебе не говорила, чем все кончится? Жаль ему!
– Мне надо было ехать на семинар. Я прошу прощения. Извини, не могу больше говорить. С тобой сейчас нельзя разговаривать. Я просто не понимаю, что ты от меня хочешь.
– Я хочу, чтобы ты понял, что ты наделал.
– Хорошо-хорошо, я понял. Но только я все равно думаю, что это случилось уже утром.
– Ты ничего не понял. И никогда не поймешь.
– Не драматизируй.
– Это я драматизирую?
И снова нам повезло. Разумеется, мать Дотти, в отличие от дочери, не оставила бы без объяснений происшествие, в результате которого пострадали ее пол и стены. Однако она заболела: холодная сырая погода подкосила и ее. В то же утро, ни раньше ни позже, мать забрали в больницу с воспалением легких, и Дотти перебралась к ней, чтобы заботиться о постояльцах. В нижнем этаже нашего дома появился отвратительный запах плесени, и вскоре мы тоже оттуда съехали. Как раз перед тем, как родилась Клеа, мы сняли дом в Северном Ванкувере, принадлежавший нашим друзьям, уехавшим в Англию. Наша с Хьюго ссора немного забылась в суматохе переезда, но примирения так и не произошло. Мы остались на тех же позициях, что и во время памятного телефонного разговора. Я все говорила: ты не понимаешь и никогда не поймешь, а он спрашивал: что ты от меня хочешь? Из-за чего поднимать такую бучу? – удивлялся он. Наверное, другие тоже бы удивлялись. Спустя годы после расставания с ним я и сама уже удивляюсь.
Я ведь могла пойти и включить насос. Могла бы взять на себя ответственность за нас обоих, как полагается терпеливой и практичной женщине. Так поступила бы настоящая жена. Наверняка так не раз поступала Мэри Фрэнсис в те десять лет, когда была его женой. Я могла бы сказать Дотти правду, хотя она была не лучшим адресатом для таких признаний. Могла рассказать кому-нибудь еще, если мне это было так важно, и тем самым доставить Хьюго некоторые неприятности. Но я ничего этого не сделала. Я оказалась неспособна ни защитить, ни разоблачить его, а только ругала и стыдила его, сама доходя порой до исступления. Мне хотелось выцарапать ему глаза и вставить туда свои собственные, чтобы заставить его наконец понимать жизнь, как я ее понимаю. Какая самонадеянность, какая трусость, какое скудоумие!.. Дальнейшее было неизбежно.
– Вы не сошлись характерами, – заключил брачный консультант, к которому мы обратились немного погодя.
Выйдя от него в скучный холл муниципального здания в Северном Ванкувере, мы не могли удержаться от смеха. Хохотали до слез. Да, действительно, как хорошо, что для нашей проблемы наконец найдены слова – несходство характеров.
В тот вечер я не стала читать рассказ Хьюго. Отдала книгу дочери, а та, как оказалось, к ней даже не притронулась. Я прочла его на следующий день, когда приехала домой около двух часов дня из частной школы для девочек, где веду уроки истории. Заварила себе чай и села на кухне отдохнуть, побыть немного в покое, пока мальчики, сыновья Габриеля, не вернутся из школы. Я увидела книгу – она по-прежнему лежала на холодильнике, – взяла ее и прочла рассказ Хьюго.
Рассказ был о Дотти. Разумеется, второстепенные детали Хьюго изменил, да и сам сюжет был выдуман или взят из другой жизни и привит к этой истории. Но лампа присутствовала, как и синелевый халат. И еще там мелькали подробности, которые я сама совсем забыла. Когда кто-нибудь говорил с Дотти, она слушала, чуть приоткрыв рот, а в конце предложения повторяла за вами последнее слово. Привычка одновременно трогательная и раздражающая. Она так спешила согласиться, так надеялась понять. И Хьюго это запомнил. Удивительно – он же ни разу толком не поговорил с Дотти.
Впрочем, неважно. Важно то, что рассказ был очень хорош, насколько я могу судить, – а думаю, что могу. Честный и милый – приходилось то и дело признавать это, пока я читала. Да, надо отдать Хьюго должное. Его рассказ меня обрадовал и тронул. А фокусы меня обычно не трогают. Ну разве что очень милые и честные фокусы. В рассказе Дотти была как живая, взятая прямо из жизни и поданная в том волшебном прозрачном желе, которое Хьюго учился готовить много лет. Это было чудо, несомненно. Чудо настоящей, щедрой, лишенной всякой сентиментальности любви. Ясной, открытой человечности. Люди, которые поймут и оценят это чудо, могут даже позавидовать Дотти (хотя, конечно, поймут и оценят далеко не все). Ей посчастливилось в течение нескольких месяцев прожить в этом доме, способствуя совершению чуда. Правда, она об этом не знает, а если бы и узнала, то ее это скорее всего не тронуло бы. Она перешла из жизни в Искусство, а это случается не с каждым.
Не обижайся. Ирония прочно въелась в меня и стала второй натурой. Мне даже бывает неловко за нее. Я отношусь с уважением к сделанному: и к намерению, и к приложенным усилиям, и к результату. Прими мою благодарность.
Я думала, что напишу письмо Хьюго. Думала, пока готовила ужин, пока сидела за столом, беседуя с Габриелем и ребятами. Думала – напишу, как странно было узнать, что мы с ним до сих пор храним общие воспоминания. И то, что мне представлялось отрывками и обрывками, ненужным балластом, для него оказалось ценным вложением капитала. И еще я хотела извиниться, хотя бы и непрямо, за то, что не верила в него как в писателя. Точнее, так: не извиниться, а признать свою неправоту. Отдать ему должное. Несколько изящных и сердечных фраз.
За ужином я смотрела на своего мужа, Габриеля, и думала, что они с Хьюго вовсе не так различны, как мне казалось. Оба справились с жизнью. Оба нашли для себя нечто главное, и это научило их, как жить, как использовать или не замечать то, что встречается на пути. Пусть в чем-то ограниченным и сомнительным способом, но каждый добился своего. Они не зависели от чьей-то милости, они знали, чего хотят. По крайней мере, думали, что знают. И не мне осуждать их за то, что они поступали так, как поступали.
После того как мальчишки отправились спать, а Габриель и Клеа уселись смотреть телевизор, я взяла карандаш и бумагу и села за письмо. Руки дрожали. Я начала писать короткими, неловкими, словно толкающимися предложениями – как вовсе не собиралась:
Этого недостаточно, Хьюго. Ты думаешь, достаточно, а этого недостаточно. Ты заблуждаешься, Хьюго.
Н-да, такое письмо не отправишь.
Нет, я все-таки осуждаю их. Завидую и презираю.
Габриель заглянул на кухню, прежде чем лечь спать, и увидел, что я сижу над экзаменационными листами, тут же лежат карандаши, которыми я их обычно исправляю. Он, наверное, хотел со мной поболтать, предложить выпить по чашечке кофе или чего-нибудь покрепче, но увидел мое расстроенное лицо и не стал мешать. Поверил в обман – в то, что я не в духе и занята проверкой экзаменационных работ. Он отправился спать, оставив меня одну справляться со своими проблемами.
Как я познакомилась со своим будущим мужем
Перевод Наталии Роговской
Самолет прилетел в полдень, ревом заглушил радионовости, и нам показалось, что еще миг – и он врежется в дом, поэтому все выбежали во двор. Мы увидели, как он идет на посадку, чуть не задевая верхушки деревьев, весь серебристо-красный, первый в моей жизни самолет крупным планом. Миссис Пиблс даже вскрикнула.
– Это называется «жесткая посадка»! – сказал ее сынишка. Джои, так его звали.
– Спокойно, – сказал доктор Пиблс, – пилот знает, что делает. – Доктор Пиблс был вообще-то лошадиный доктор, но он всегда умел успокоить – настоящие доктора это умеют.
Я первый раз нанялась на работу – к доктору и миссис Пиблс: они купили старый дом на Пятой линии, милях в пяти от города. Тогда у городских только-только пошла мода на старые фермы – их покупали не для того, чтоб заводить хозяйство, а просто чтоб жить.
Самолет приземлился через дорогу от нас, на бывшем ярмарочном поле. Место открытое, ровное, там раньше был ипподром, а разные сараи и балаганы давно растащили на дрова, так что самолет мог сесть без помех. Даже дощатые трибуны и те пошли в топку.
– Ну, хватит, – сказала миссис Пиблс ворчливо, у нее обычно был такой голос, когда она вдруг из-за чего-то разволнуется, а потом снова возьмет себя в руки. – Быстро в дом! Нечего стоять раскрыв рот, будто неучи деревенские. Что вы, самолета не видели?
Насчет деревенских – это она не нарочно. Ей и в голову не пришло бы, что я могу обидеться.
Я уже готовилась подавать десерт, как вдруг явилась запыхавшаяся Лоретта Берд и стала в дверях.
– Я перепугалась – думала, врежется в дом, всех вас тут поубивает!
Она жила по соседству, и Пиблсы держали ее за деревенскую. Не понимали, что Лоретта с мужем сельским трудом отродясь не занимались. Он был дорожный рабочий, и поговаривали – горький пьяница, а у них семеро детей. Местная лавка не отпускала им в кредит. Пиблсы сказали ей: «Заходите!» – не понимали они, с кем имеют дело, я же говорю, – и пригласили за стол как раз к десерту.
«Десерт» – громко сказано, настоящего десерта у них в доме не водилось. Выложат на блюдо покупное желе, или бананы кружкми, или консервированные фрукты из банки, и все.
«Не умеешь спечь пирог – гость не ступит на порог», – говаривала моя матушка, но миссис Пиблс жила по другим правилам.
Лоретта Берд увидала, что я выкладываю из жестянки персики.
– Ой, нет, спасибо, – стала отнекиваться она, – у меня живот такой чувствительный, я фабричное не ем, вот если домашние заготовки – тогда другое дело.
Так бы и дала ей затрещину. Можно подумать, она когда-нибудь сама делала заготовки на зиму.
– А я знаю, чего он к нам сюда прилетел, – сообщила она. – У него есть разрешение садиться на ярмарочном поле и катать людей по воздуху. Платишь доллар – и летишь. Летчик тот же самый, что на прошлой неделе был в Палмерстоне, а еще раньше – вверх по берегу Гурона. Но лично мне хоть приплати – не полечу!
– А вот я бы с превеликим удовольствием, – сказал доктор Пиблс. – Интересно было бы увидеть с высоты все окрестности.
Миссис Пиблс высказалась в том духе, что согласна прокатиться по окрестностям в машине, не обязательно летать. Джои заявил, что хочет полететь, и Хизер тоже захотела. Старшему, Джои, было девять, а Хизер семь.
– А ты, Эди? – спросила Хизер.
Я ответила, что сама не знаю. Мне было страшно, но я не подавала виду, особенно перед детьми, за которыми смотрела.
– Сейчас как все понаедут в своих машинах, пылищу тут поднимут, всю траву у вас вытопчут, я бы на вашем месте сразу пожаловалась куда следует, – продолжала Лоретта Берд.
Она уселась поудобнее, зацепилась ногами за ножки стула, и я поняла, что это надолго. Мистер Пиблс уйдет к себе в лечебницу или уедет на вызов, миссис Пиблс приляжет соснуть на часок, а Лоретта будет тут отсвечивать и мешать мне прибираться. Начнет судачить о Пиблсах в их собственном доме.
– Некогда ей было бы днем разлеживаться, будь у нее семеро по лавкам, как у меня.
Она все допытывалась, часто ли они ссорятся и держат ли в комоде в спальне такие штучки, чтобы не было детей. Если так, то это, мол, большой грех. Я притворялась, что не понимаю, о чем она толкует.
Мне было пятнадцать, я в первый раз жила не дома. За год до того родители поднатужились и отправили меня на два последних года в хорошую школу, чтобы подготовить к колледжу, но мне там не понравилось. Я никого не знала и очень стеснялась, учеба давалась мне тяжело, а в то время учителя с тобой не нянчились, не объясняли все по десять раз, как принято теперь. В конце года в местной газете напечатали показатели успеваемости, и я оказалась в самом конце – набрала всего тридцать семь процентов. Отец сказал: все, хватит, и я на него не в обиде. Так и так я не хотела дальше надрываться, чтобы в итоге выучиться на учительницу. Получилось так, что когда вышла газета с моими позорными результатами, доктор Пиблс у нас обедал – он в тот день помогал нашей корове отелиться, она двоих принесла. Доктор сказал, что я вроде девочка смышленая, его жена как раз ищет такую – помогать ей по дому. А то она связана по рукам и ногам, все-таки двое детей, нелегко одной в сельской глуши. Ну да, ну да, закивала мама из вежливости, но я по ее лицу видела, что она не понимает, отчего жене доктора нужно сочувствовать: ребятишек всего двое, огород не копают, скотины не держат, на что жаловаться?
Когда я наведывалась домой и перечисляла свои обязанности, все покатывались со смеху. У миссис Пиблс была машина-автомат, стирально-сушильная, – я первый раз такую увидела. Теперь-то этим никого не удивишь, я сама столько лет машиной пользуюсь у себя дома, что с трудом вспоминаю, каким чудом она мне казалась в то далекое время, – подумать только, не надо выжимать вручную или возиться с валками, вешать тяжелое мокрое белье на веревки, а потом все снимать. Не говоря уж о том, что воду греть не надо! И еще – мне почти не приходилось печь. Миссис Пиблс призналась, что не умеет делать тесто для пирогов, – больше я такого ни от одной хозяйки не слышала. Сама-то я, конечно, печь умела – и слойки, и бисквит, хоть белый, хоть черный, только им ничего этого было не нужно: якобы они фигуру берегли. Оно бы и ладно, плохо только, что я там частенько ходила полуголодная. Приходилось запасаться чем-то из дома, мама давала мне с собой пончики, и я держала их в коробке под кроватью. Хозяйские дети прознали, и я была не против поделиться, но на всякий случай взяла с них слово не выдавать наш секрет.
На следующий день после того, как приземлился самолет, миссис Пиблс посадила детей в машину и повезла в Чесли подстригаться. Там, в Чесли, была в то время одна хорошая парикмахерша. Она и сама, миссис Пиблс то есть, у нее завивалась и делала укладку, и по всему выходило, что домой они вернутся не скоро. Она всегда выбирала такой день, когда доктор Пиблс не ездил на дальние вызовы: собственной машины у нее не было. В первые годы после войны с машинами было туго.
Я любила оставаться одна в доме и хозяйничать в свое удовольствие. В кухне все было белое и ярко-желтое, а под потолком лампы дневного света. Это потом стали все белое менять на цветное, шкафчики отделывать под дерево и придумали боковую подсветку. Я любила, чтобы света было много. А в двойную раковину, для готовки и мойки, я просто влюбилась. Да и как не влюбиться, если ты всю жизнь мыла посуду в тазу, заткнув дырку-слив куском тряпки, и расставляла сушиться чашки-плошки на стол, на клеенку – и все это при керосиновой лампе! А при такой-то благодати грех не стараться! Ну я и старалась, у меня все сверкало.
И еще, конечно, ванная комната. Я раз в неделю мылась в ванне. Хозяева были бы не против, если бы я мылась чаще, но мне казалось, что это слишком жирно, а может, я боялась превратить праздник в будни. Раковина, ванна, унитаз – все было розовое, и ванна закрывалась стеклянными дверцами с нарисованными фламинго. Даже освещение было розоватое. Под ногами коврик – пушистый и мягкий-премягкий, как снег, только теплый. Зеркало большое, трехстворчатое, во время мытья оно запотевало, и тогда воздух превращался в душистый пар (мне разрешали пользоваться вкусно пахнущими баночками и бутылочками). Я влезала на край ванны и сквозь туман любовалась собой в голом виде, с трех сторон сразу. Иногда я сравнивала жизнь у нас дома и здешнюю жизнь и думала: трудно представить себе, как живут другие, если сам привык жить иначе. Только мне казалось, что если живешь, как у нас дома, намного легче нарисовать себе что-нибудь шикарное – розовых фламинго, теплую ванную комнату и пушистый коврик, – чем наоборот: вообразить себя на месте бедняков. Почему так?
Я быстро управилась с делами, а напоследок почистила овощи к ужину и залила их холодной водой. Времени было еще полно, и я решила наведаться в хозяйкину спальню. Я сто раз там бывала, когда прибиралась, и всегда открывала ее стенной шкаф и рассматривала, что там у нее висит. В комод я бы нос совать не стала, нет, но шкаф не заперт, смотри сколько хочешь. Вообще-то вру. Я бы и в комод заглянула, только мне было стыдно и я боялась, что миссис Пиблс заметит.
Некоторые вещи, из тех, что висели спереди, она носила часто, и мне они были хорошо знакомы. А другие никогда не надевала, и они висели во втором ряду, сзади. Я огорчилась, что там нет свадебного платья. Но одно нарядное было – выглядывал только край длинной юбки, и мне не терпелось увидеть, какое оно целиком. Я запомнила, где оно висит, чтобы потом вернуть на место, и вытащила его наружу. Атласное, голубовато-зеленоватое, такое светлое, прямо серебристое. Я чувствовала в руках его приятную тяжесть. Фасон был самый модный: приталенное, с пышной юбкой, маленькие рукавчики и широкий воротник вдоль выреза-лодочки.
Дальше просто. Я сбросила с себя одежки и натянула платье. В пятнадцать лет фигурка у меня была хоть куда – кто знает меня сейчас, наверно, не поверит! – и платье село на меня как влитое. К такому платью полагается лифчик без бретелек, но на мне был простой, обычный, – пришлось спустить лямочки с плеч, под платьем их было не видно. Потом япопробовала заколоть волосы повыше – для полноты картины. Лиха беда начало! Из хозяйкиного туалетного столика я достала румяна, помаду, карандаш для бровей и накрасилась. День был жаркий, платье тяжелое, да еще и волнение – в общем, мне страшно захотелось пить, и я вышла на кухню, вся расфуфыренная, налить себе газировки со льдом из холодильника. В доме у Пиблсов все пили имбирный или фруктовый лимонад как простую воду, ну и я тоже понемногу втянулась. Лед в морозилке не переводился, а мне эти прозрачные кубики так нравились, что я даже в стакан с молоком их кидала.
Я поставила ванночку со льдом обратно в морозилку, повернулась – и тут увидела, что на меня сквозь сетчатую дверь смотрит какой-то мужчина.
Я так вздрогнула, что чуть не расплескала лимонад и не залила им сплошь все платье. И он это заметил и сказал:
– Я не хотел вас пугать. Я постучал, но вы доставали лед и не слышали.
Я не могла разглядеть его как следует, видела одну темную фигуру в проеме: так всегда бывает, если человек стоит вплотную к сетке, а сзади на него светит солнце. Я только поняла, что он нездешний.
– Я летчик, мой самолет стоит на поле недалеко от вашего дома. Меня зовут Крис Уоттерс, я хотел спросить, нельзя ли воспользоваться вашей колонкой.
У нас во дворе была колонка. В те времена все так набирали воду. Тут я заметила у него в руке ведро.
– Пожалуйста! – ответила я. – А если хотите, налью из крана, чтобы вам не качать. – Наверное, мне хотелось похвастаться, что у нас в доме водопровод и нам нет нужды самим качать воду.
– Я не прочь немного размяться. – Но он не двинулся с места, помолчал и сказал: – Вы собирались на танцы?
Приход чужого человека так меня переполошил, что я совсем позабыла, как я одета.
– А может, у вас тут принято каждый день ходить в таких нарядах?
Я тогда еще не умела ответить шуткой на шутку и окончательно сконфузилась.
– Вы здесь живете? Вы хозяйка дома?
– Нет, я у них работаю.
Многие, если услышат такое, сразу меняют свое отношение, начинают совсем по-другому на тебя смотреть и с тобой говорить, но он и бровью не повел.
– Я только хотел сказать вам, что вы шикарно выглядите. Я глазам своим не поверил, когда заглянул в дверь и увидел вас. Вы прямо красавица.
Я была совсем девчонка и не понимала, насколько это необычно, чтобы мужчина говорил такие слова – пусть не женщине, девочке. Он обращался ко мне как ко взрослой. Я не могла этого понять, не знала, что ответить, что делать, и хотела только одного – чтобы он поскорее ушел. Не то чтобы он мне не понравился, просто я вконец растерялась – стоит тут и смотрит на меня, а я словно язык проглотила.
Думаю, он догадался. Сказал мне спасибо, до свиданья и пошел с ведром к колонке. Я спряталась за жалюзи в столовой и оттуда следила за ним. Когда он ушел, я вернулась в хозяйкину спальню, сняла платье и повесила его на место. Потом переоделась в свое, вытащила из волос шпильки, умылась и вытерла лицо бумажной салфеткой, а салфетку бросила в мусорное ведро.
Пиблсы стали выспрашивать, какой он, этот летчик. Молодой или средних лет? Высокий или не очень? Ответить толком я не могла.
– Симпатичный? – подтрунивал надо мной доктор Пиблс.
Я помалкивала и думала только о том, что рано или поздно он снова придет за водой, познакомится с доктором или с миссис Пиблс, разговорится с ними и между делом вспомнит, как увидел меня в тот первый день, разодетую точно на бал. Ему-то что? Для него просто повод посмеяться. Ему и в голову не придет, что мне эта забава выйдет боком.
После ужина Пиблсы отправились в город смотреть кино. Хозяйке хотелось покрасоваться, похвастаться новой прической. А я сидела в намытой до блеска кухне и не знала, чем себя занять, потому что уснуть все равно не получится. Миссис Пиблс, может, и не уволит меня, если узнает, но относиться ко мне по-прежнему уже не будет. Это было мое первое место, но я уже начала понемногу набираться опыта, стала соображать, чего от тебя ожидают хозяева. Любопытных никто не любит. Про нечестных я уж не говорю, но одной честности мало. Работаешь и работай, не в свое дело не лезь. Запоминай только, какая еда хозяевам по вкусу, как гладить белье, чтобы им угодить, и так дальше. Я не жалуюсь, ко мне там хорошо относились. Сажали за стол вместе со всеми (по правде говоря, я другого и не ждала, просто не знала тогда, что бывают семьи, где это не заведено) и несколько раз брали с собой на машине в город. Но все равно.
Я поднялась наверх, проверила, спят ли дети, и вышла из дому. Надо было его предупредить. Я перешла через дорогу и прошла в старые ярмарочные ворота. Чудн было видеть на поле самолет, в лунном свете он весь блестел. У дальнего края, уже заросшего кустами, стояла брезентовая палатка.
Он сидел снаружи и курил. Заметил, что к нему кто-то идет.
– Здравствуйте, хотели полетать? Прогулочные полеты начнутся завтра утром, приходите. – Потом он пригляделся и сказал: – А, это ты. Не сразу узнал тебя без нарядного платья.
Сердце у меня колотилось как бешеное, во рту пересохло. Я пыталась что-то сказать, но язык не слушался. Горло перехватило, я стояла как глухонемая.
– Ты правда хотела полетать? Да ты садись. Закуришь?
У меня даже не было сил помотать головой, отказаться, и он вынул сигарету из пачки и подал мне.
– Теперь надо взять ее в рот, иначе не зажечь. Хорошо, что я знаю, как обращаться с застенчивыми барышнями.
Я послушалась. Вообще-то я не в первый раз взяла в рот сигарету. Я еще дома пробовала курить – моя подружка Мюриэл Лоу таскала сигареты у своего брата.
– Рука-то как дрожит! Ты просто пришла поболтать – или что?
Набрав побольше воздуху, я без остановки выпалила:
– Я пришла попросить вас никому не говорить про то платье!
– Какое платье? А, то, блестящее, длинное?
– Это платье миссис Пиблс.
– Чье? А, понятно, хозяйкино! В этом все дело? Ее не было дома и ты тайком надела ее платье? Нарядилась и сделала вид, будто ты королева… Вполне простительно, ничего страшного. Да ты и курить-то толком не умеешь. Только дым пускаешь. Надо втягивать в себя. Неужели тебя никто не научил затягиваться? Так ты, значит, испугалась, что я тебя выдам? В этом все дело?
Мне было так стыдно – ведь я вроде бы прошу его стать соучастником, – что я даже кивнуть не сумела. Просто взглянула на него, и он все понял.
– Да не скажу я ничего, не бойся. Ни полслова. Зачем ставить тебя в глупое положение? Честное благородное!
Он увидел, что я даже спасибо не могу из себя выдавить, и, чтобы дать мне успокоиться, заговорил о другом:
– Как тебе мой плакат?
На земле, у самых моих ног, лежал фанерный щит с надписью: ВЗГЛЯНИ НА МИР ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ! ВЗРОСЛЫЕ – 1 ДОЛЛАР, ДЕТИ – 50 ЦЕНТОВ. ОПЫТНЫЙ ПИЛОТ.
– Мой старый щит пришел в негодность, вот я и решил его заменить. Убил на это чуть ли не целый день.
Написано было не ахти как красиво. Я бы ему за полчаса сделала намного лучше.
– Я не большой мастак по этой части.
– Да нет, неплохо получилось, – заверила я.
– Реклама как таковая мне не нужна, сарафанное радио работает исправно. Уже сегодня прикатили две машины желающих, пришлось им отказать. Не хочу вот так, с места в карьер. Я, конечно, не стал им объяснять, что поджидаю в гости местных барышень.
Тут я вспомнила про детей дома и опять всполошилась: вдруг кто-то проснется, позовет меня, а меня-то и нету.
– Уже уходишь? Так скоро?
Я наконец вспомнила про вежливость:
– Спасибо вам за сигарету.
– Не забудь – я дал тебе честное слово.
Я опрометью кинулась через ярмарочное поле, холодея от страха, что сейчас увижу на дороге хозяйскую машину. Я не соображала, который час, как долго я отсутствовала. Но все обошлось, было еще не так поздно, дети крепко спали. Я тоже легла и стала думать, как мне повезло, что все так хорошо закончилось. И какое счастье, что днем в хозяйкином платье застиг меня он, а не Лоретта Берд.
Всю траву у нас не вытоптали, до этого не дошло. Но народу все равно приезжало много, целый день была какая-то суета. Щит с объявлением висел теперь н ярмарочных воротах. Люди в основном появлялись ближе к вечеру, но и днем, после обеда, тоже находились охотники. Ребятишки Бердов, даром что им на всех вместе пятидесяти центов было не наскрести, целый день, с утра до вечера, толклись у ворот. Сначала людей приводил в восторг каждый взлет и каждая посадка, но мало-помалу все привыкли. В гостях у летчика я больше ни разу не бывала, видела его, только когда он приходил набрать воды. Если получалось подгадать время, я старалась выйти на крыльцо – чистила овощи или делала еще какую-нибудь нехитрую работу.