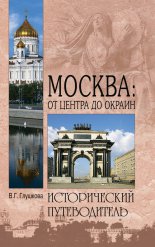Давно хотела тебе сказать (сборник) Манро Элис

– Тогда это вы ее покрали, – возразил Бад, тяжело дыша. – Вы ее первые увидели.
– А вы ее взяли.
– Тогда это мы все. Если кому за это что будет, тогда уж всем.
– Ты про это кому-нибудь скажешь? – спросила Кэрол, когда они с Евой ехали домой по улицам, где между фонарями было темно, а от зимы остались выбоины.
– Тебе решать. Ты не скажешь, так и я не скажу.
– Если ты не скажешь, я тоже.
Они ехали медленно, с чувством, что поступились чем-то, но вполне довольные.
В дощатом заборе, окружавшем двор за домом Клейтона, тут и там торчали столбы, которые поддерживали, вернее, пытались поддерживать забор в вертикальном положении; вот на этих столбах Ева и Кэрол и просидели несколько вечеров – чинно, хотя и без особого удобства. А иногда они просто стояли, прислонившись к забору, пока мальчишки латали лодку. В первый-второй вечер соседские ребятишки, привлеченные стуком молотков, пытались просочиться во двор и выяснить, что там происходит, но Ева и Кэрол преграждали им путь.
– Тебя сюда кто-нибудь звал?
– Сюда во двор только нам можно.
Вечера делались все длиннее, воздух прогревался. На тротуарах начали прыгать через скакалку. В дальнем конце улицы шеренгой стояли клены, в их коре были сделаны надрезы. Сок в ведерках собраться не успевал – ребятишки его сразу выпивали. Хозяева деревьев, старик и старуха, которые надеялись наварить кленового сиропа, выбегали из дома с криками «кыш», как будто отпугивали ворон. Каждую весну дело кончалось тем, что старик выходил на крыльцо и стрелял в воздух из ружья – только тогда воровство прекращалось.
Тем, кто ремонтировал лодку, было не до сока, хотя в прошлом году все они его дружно тибрили.
Доски, необходимые для починки, собирали тут и там, по всем задворкам. В это время года повсюду что-то валялось – ветки и палки, размокшие перчатки, ложки, выплеснутые вместе с водой, крышки от кастрюль, которые зимой выставили на снег остывать, всевозможный мусор, который осел к земле и долежал до весны. Инструменты добывали из подвала Клейтона, – видимо, они сохранились с тех пор, когда еще жив был его отец, – и хотя совета спросить было не у кого, мальчишки худо-бедно сообразили, как строят или перестраивают лодки. Фрэнк притащил чертежи из книг и журнала «Популярная механика». Клейтон посмотрел на чертежи, послушал инструкции, которые вслух зачитывал Фрэнк, а потом стал действовать по собственному разумению. Бад ловко управлялся с пилой. Ева и Кэрол следили за процессом с забора, отпускали разные замечания и придумывали, как назвать лодку. Названия они предлагали такие: «Водяная лилия», «Морской конек», «Королева Разлива» и «Кэро-Ева», в собственную честь, потому что ведь это они нашли лодку. Мальчишки не говорили, какое из этих названий кажется им подходящим, – может, и никакое.
Днище нужно было просмолить. Клейтон вылил смолу в котелк, разогрел на кухонной плите, притащил на задний двор и начал медленно, со свойственной ему дотошностью промазывать перевернутую лодку, сидя на ней верхом. Двое других мальчишек распиливали доску, чтобы сделать скамейку. Клейтон смолил, а смола остывала и наконец загустела так, что не вытянешь кисть. Клейтон повернулся к Еве, поднял котелок и сказал:
– Пошла бы да разогрела на плите.
Ева взяла котелок, поднялась на заднее крыльцо. В кухне после улицы показалось совсем темно, но света, похоже, все-таки хватало, потому что мать Клейтона стояла над гладильной доской и ворочала утюгом. Так она зарабатывала на жизнь – стирала и гладила белье.
– Простите, можно я поставлю котелок со смолой на плиту? – спросила Ева, которую приучили вежливо говорить со старшими, даже если это прачка; кроме того, ей почему-то очень хотелось произвести на маму Клейтона хорошее впечатление.
– Тогда сперва нужно бы огонь подвеселить, – сказала мама Клейтона; судя по голосу, она сомневалась, справится ли Ева с таким делом. Но Евины глаза уже привыкли к полутьме, она ухватом отодвинула крышку, взяла кочергу и разворошила угли. Старательно помешивала смолу, пока та расходилась. Она была горда поручением. Гордость осталась и после. Засыпая, она представила себе Клейтона: он сидит на лодке верхом, промазывая ее смолой – сосредоточенно, бережно, отрешенно. Она вспомнила, как он заговорил с ней из этой своей отрешенности, таким обыкновенным, миролюбивым, домашним голосом.
Двадцать четвертого мая день был праздничный и занятий в школе не было, и вот лодку вынесли из города, на сей раз – дальним путем, не по дороге, а через поля и изгороди, которые уже успели починить, к реке, – та уже бежала в своих обычных берегах. Ева и Кэрол тоже несли в свой черед, наравне с мальчишками. Лодку спустили на воду с истоптанного коровами бережка между ивами, на которых как раз распускались листья. Первыми в нее сели мальчишки. Они разразились победными воплями, когда лодка поплыла – изумительным образом поплыла вниз по течению. Лодка была выкрашена снаружи в черный цвет, изнутри – в зеленый, а скамейки – в желтый, и еще вдоль борта снаружи шла желтая полоса. Никакого названия на ней так и не написали. Мальчишкам и в голову не пришло, что лодку нужно как-то назвать, она и так отличалась от всех остальных лодок в мире.
Ева и Кэрол бежали по берегу, таща с собой мешки, набитые булкой с вареньем и арахисовым маслом, маринованными огурцами, бананами, шоколадным печеньем, чипсами, крекерами, склеенными кукурузным сиропом, и пятью бутылками шипучки, которые предстояло остудить в речной воде. Бутылки били их по ногам. Девчонки вопили.
– Подлюки будут, если не дадут покататься, – сказала Кэрол, и они заорали хором: – Это мы ее нашли! Мы нашли!
Мальчишки не ответили, однако через некоторое время причалили к берегу, и Ева с Кэрол, пыхтя, спотыкаясь, помчались туда.
– Как, протекает?
– Покуда не протекает.
– Черпалку забыли взять! – посетовала Кэрол, но тем не менее залезла в лодку вместе с Евой, а Фрэнк отпихнул их от берега с криком:
– Все мы погибнем в пучине!
А хорошо в лодке было то, что она не прыгала по волнам, как бревно, а лежала в воде как в чашечке, и плыть в ней было совсем иначе, чем верхом на бревне, ты будто бы сам сидел в воде. Скоро они начали кататься все вперемешку – двое мальчишек и девчонка, двое девчонок и мальчишка, девчонка с мальчишкой, и постепенно так запутались, что уже было и не сообразить, чья теперь очередь, да никому это было и не интересно. Они двинулись вниз по реке – те, кто не сидел в лодке, бежали по берегу. Прошли под двумя мостами, железным и бетонным. В одном месте увидели большого неподвижного карпа, он вроде бы улыбнулся им из воды, где лежала тень от моста. Они не знали, далеко ли забрались, но река изменилась – стала мельче, а берега ниже. На дальнем конце поля они увидели какую-то постройку вроде домика, явно пустовавшего. Вытащили лодку на берег, привязали и зашагали через поле.
– Старая станция, – сказал Фрэнк. – Станция Педдер.
Остальные тоже слышали это название, но один Фрэнк знал наверняка, потому что отец его работал в городке железнодорожным агентом. Фрэнк сказал, что тут раньше была остановка на боковой ветке, которую потом разобрали, и что тут была лесопилка, только давно.
В здании станции оказалось темно и прохладно. Все стекла выбиты. Осколки и куски покрупнее лежали на полу. Они побродили по комнатам, отыскивая стекляшки побольше – на них можно было наступать, и они бились, и это было как разбивать лед на лужах. Некоторые перегородки еще сохранились – можно было определить, где раньше находилось окошечко кассы. Лежала опрокинутая скамья. Сюда явно захаживали люди, похоже, захаживали довольно часто, хотя место и было совсем глухое. На полу валялись бутылки из-под пива и шипучки, сигаретные пачки, жвачка, фантики, бумажная обертка от буханки хлеба. Стены покрывали полустертые и свежие надписи, выведенные мелом, карандашом или вырезанные ножом.
Я ЛЮБЛЮ РОННИ КОУЛСА
ПОТРАХАТЬСЯ БЫ
ЗДЕСЬ БЫЛ КИЛРОЙ
РОННИ КОУЛС КОЗЕЛ
ТЕБЕ ТУТ ЧЕГО НАДО?
ЖДУ ПОЕЗДА
ДОННА МЭРИ-ЛУ БАРБАРА ДЖОАННА
Как же было здорово в этом просторном, темном, пустом помещении, где с громким хрустом билось стекло, а звуки голосов отскакивали от стропил крыши. Они принялись прикладывать к губам старые пивные бутылки. Сразу захотелось есть и пить, они расчистили себе место в центре помещения, сели и принялись уничтожать провизию. Шипучку выпили как была, тепловатую. Съели все до последней крошки, слизали остатки варенья и арахисового масла с оберточной бумаги.
Потом стали играть в «Скажи или покажи»[23].
– Давай пиши на стене «Я сраный козел» и подписывайся.
– А ну скажи, как выглядело самое гнусное твое вранье за всю жизнь.
– Ты когда-нибудь писался по ночам?
– Тебе когда-нибудь снилось, что ты идешь по улице совсем без ничего?
– Давай иди на улицу и писай на железнодорожный знак.
Это задание выпало Фрэнку. Видеть они его не видели, даже со спины, только слышали шуршание струйки. Сами они сидели, ошеломленные, и не могли придумать, кого еще и на что подбить.
– А теперь, – сказал Фрэнк от двери, – следующее задание будет для всех.
– Какое?
– Раздеться догола.
Ева и Кэрол вскрикнули.
– А кто откажется, тот будет ходить – вернее, ползать – прямо по этому полу на четвереньках.
Все затихли, а потом Ева спросила покорно:
– Что первое снимать?
– Башмаки с носками.
– Тогда пошли наружу, здесь ведь стекло повсюду.
В дверях, в неожиданно ярком солнечном свете, они скинули носки и обувь. Поле перед ними светилось будто вода. Они побежали туда, где раньше проходила железнодорожная ветка.
– Тише, тише! – останавливала Кэрол. – Осторожнее, там колючки.
– Майки! Всем скидывать майки!
– А я не буду! Мы обе не будем, да, Ева?
Но Ева все кружилась и кружилась на солнце, там, где раньше лежали рельсы.
– Мне плевать, как фишка ляжет! Кто не скажет, тот покажет!
Все еще кружась, она расстегнула блузку, – казалось, рука ее сама не знает, что делает, – и отбросила ее в сторону.
Кэрол тоже сняла блузку.
– Если бы не ты, я бы не стала.
– И низ тоже!
На сей раз никто не произнес ни слова – они нагнулись и разделись догола. Ева, первой сбросившая одежду, помчалась через поле, остальные бросились следом – все неслись нагишом по жаркой, доходящей до колена траве, неслись к реке. Им уже было не страшно, что их поймают, наоборот, они подпрыгивали и вопили, привлекая к себе внимание, – правда, смотреть и слушать было некому. Им казалось, что вот сейчас они оттолкнутся от края утеса и полетят. Они чувствовали, что с ними происходит нечто такое, чего никогда не происходило раньше, и было это как-то связано с лодкой, водой, солнечным светом, темным нутром разрушенной станции, друг с другом. Друг о друге они сейчас думали не как о людях, наделенных именами, но как о раскатистых воплях, отражениях – отважных, белых, шумных, бесшабашных, стремительных, точно стрелы. Не останавливаясь, они влетели в холодную воду, а когда она почти полностью скрыла ноги, бросились в нее и поплыли. Шум стих. Стремительной волной накатили тишина и изумление. Они нырнули, всплыли, рассыпались в разные стороны, юркие, точно норки.
Ева встала в воде, с волос текло, по лицу сбегали струйки. Ей здесь было по пояс. Она стояла на гладких камнях, довольно широко расставив ноги, вода протекала между ними. В ярде примерно от нее Кэрол встала тоже, они смаргивали воду и смотрели друг на друга. Ева не отвернулась, не попыталась спрятаться. Ее колотило – от холода, а еще от гордости, стыда, храбрости, восторга.
Клейтон бурно затряс головой, будто пытался выколотить из нее что-то, потом нагнулся, набрал полный рот речной воды. Встал, раздув щеки, напряг округленные губы и пустил в Еву струю, будто бы из шланга, точно попав сперва в одну грудь, а потом в другую. Вода, которую он выпустил изо рта, заструилась по ее коже. Глядя на это, он загудел громко и смущенно – никто не ждал от него такого звука. Остальные, где бы они ни находились, подняли головы и подошли посмотреть.
Ева согнулась и скользнула под воду, скрывшись с головой. Поплыла, а когда вынырнула гораздо ниже по течению, то увидела, что Кэрол плывет следом, а мальчишки уже вылезли на берег, уже бегут по траве, мелькая тощими спинами и белыми плоскими ягодицами. Они смеялись и что-то говорили друг другу, но что – было не слышно, потому что вода попала в уши.
– Что это он сделал? – спросила Кэрол.
– Да ничего.
Они выбрались на берег.
– Давай посидим в кустах, пока они не уйдут, – предложила Ева. – Вообще, они страшно противные. Просто до ужаса. Противные, правда?
– А то, – подтвердила Кэрол, и они остались ждать – не очень долго: мальчишки, все еще гомонящие и возбужденные, спустились к реке чуть выше по течению, туда, где оставили лодку. Было слышно, как они запрыгнули в нее и взялись за весла.
– Ну и пусть теперь пыхтят на обратной дороге, – сказала Ева, обхватив себя руками и трясясь от холода. – Нам-то что? Да и вообще. Это же не наша лодка.
– А вдруг они всем расскажут? – тревожилась Кэрол.
– А мы скажем, что это вранье.
Ева придумала этот выход только в тот самый момент, когда высказала его вслух, но, едва высказав, почувствовала, как вновь стало легко на душе. Выход простой и не без вредности – от этого они обе захихикали, а потом, хлопая по телу ладонями и разбрызгивая воду, принялись хохотать до упаду – припадок из тех, где, стоит одному притихнуть от изнеможения, другой фыркает и заходится по новой, и вот они строили друг другу беспомощные – вскоре уже без всяких дураков беспомощные – рожи, и сгибались пополам, и прижимали руки к животу, будто от самой невозможной боли.
Палачи
Перевод Александры Глебовской
- У Хелены-уродки
- Папаня нажрался водки.
И о чем тут плакать? Не знаю, плакала ли я, просто не помню. Я до мелочей изучила тротуары и землю под деревьями – безразличные предметы, на которые можно смотреть и не бояться, что кого-то заденешь взглядом. Я удивлялась, как это других ничто не пригибает к земле – даже тех, у кого глаза косые, или брат дебил, или живут они в грязном домишке у самой железной дороги. У меня такой стойкости не было; Робина называла меня «тонкокожей». Я постоянно чувствовала себя в чем-то виноватой.
- Гуляй, Хелена,
- Гуляй, Хелена,
- Гуляй, Хелена,
- Гуляй, Хелена.
Они сбивались в стайку у меня за спиной, когда мы спускались со школьного холма. Нежные голоса – почти неподдельная искренность, непрошибаемая невинность. Когда бы я знала, как поступить, когда бы могла обернуться! Но такому не научишься. Это дар, наподобие музыкального слуха.
Начать с того, что одета я была не как все. Темно-синяя курточка – наподобие тех, какие носят в частной школе (в которую мама меня и отправила бы, будь у нее на это деньги). Высокие белые чулки, летом и зимой, какую бы грязь ни развозило на нашей дороге. Зимой под ними проступали бугры длинного нижнего белья, которое меня заставляли надевать. На голове – большой бант, накрахмаленные кончики торчат в стороны. Волосы уложены завитками с помощью смоченной в воде расчески – больше так никто не причесывался. Впрочем, что бы я ни надела, им все было не так. Помню, у меня появилось новое зимнее пальто – мне оно казалось очень милым. Воротник был отделан беличьим мехом. «Крысий мех, крысий мех, ободрала с крысы мех!» – кричали мне вслед. И мех мне разонравился, дотрагиваться до него стало неприятно: было в нем что-то слишком мягкое, укромное, унизительное.
Я вечно искала, где бы спрятаться. В зданиях, в больших общественных зданиях я отыскивала темные уголки, где были бы окна под потолком. В старом Коммерческом банке была башня, которая мне особенно нравилась. Я представляла, как прячусь там в какой-нибудь из комнатушек наверху, под крышей, одна посреди города, никто не тронет, – незримая, всеми забытая. Только бы вот приходил кто-нибудь ночью и приносил поесть.
Про папу это была правда. Впрочем, домой он приезжал редко – все больше где-нибудь лечился, отдыхал в санатории, путешествовал. Еще до моего рождения он был членом парламента. В 1911 году, когда сместили Лорье[24], он потерпел сокрушительное поражение. Много позже, узнав про Договор о взаимности, я уяснила, что поражение это стало лишь малой толикой общенационального бедствия (для тех, кто склонен усматривать в этом бедствие), – но тогда, в детстве, я была твердо уверена, что отца моего лично, жестоко, позорно отвергли. Мама сравнивала происшедшее с Распятием на Голгофе. Папа вышел на балкон «Королевского отеля»[25], чтобы произнести речь, признать свое поражение, но толпа тори с пылающими метлами освистала его, не дав раскрыть рот. Я про все это слышала – но в те дни я понятия не имела, что в жизни политика такое случается. Мама считала, что с того дня и началось его падение. Впрочем, она никогда не уточняла, в чем именно это падение заключалось. Слово «алкоголик» в нашем доме не звучало; да в те времена оно и вообще было не в ходу. Говорили «пьяница», и то не у нас, а в городе. После Распятия мама ничего не покупала в этом городе, кроме продуктов: Робина заказывала их по телефону, а мама забирала. И с разными дамами, женами «трепачей и тори», мама тоже перестала знаться.
Ноги моей больше там не будет. Так она говорила про церковь, про магазины, про чужие дома.
– Он для них был слишком изыскан.
Говорить это ей было некому, кроме Робины. Впрочем, Робина, в принципе, подходила для таких разговоров. У нее имелся собственный список людей, с которыми она не разговаривала, и магазинов, в которые не заходила.
– Да они тут все такие – дремучие! Самих бы повымести поганой метлой.
И давай рассказывать об очередном случае, когда с ее братьями Джимми и Дювалем поступили несправедливо – обвинили в краже карманного фонарика, хотя они всего-то хотели посмотреть, как он работает.
За последним городским зданием мне нужно было пройти еще милю по прямой сельской дороге. В конце ее стоял наш дом – большой кирпичный дом с эркерами на первом и втором этаже. Мне они всегда казались неприятными – как выпученные глаза насекомых. Я обрадовалась, когда дом снесли – много лет спустя; участок купили под строительство городского аэропорта. Вдоль этой дороги стояло, кроме нашего, всего два-три дома. В одном жил Пень Трой.
Пень Трой был бутлегером; ноги ему оторвало у Райана на лесопилке – произошел несчастный случай. Поговаривали, будто Райан и все его семейство покупают у Пня незаконный алкоголь и вообще покрывают его, чтобы он не подал на них в суд. Может, и так – спиртным он торговал бойко, и никто его никогда не трогал. У него был сын Говард, который время от времени появлялся в школе – трудно сказать, по чьей прихоти; его засовывали в первый попавшийся класс, в котором находилось местечко, усаживали за какую-нибудь дальнюю парту, в стороне от всех, чтобы никто из мамаш потом не жаловался. Ни один школьный надзиратель – если тогда существовала такая должность – не счел нужным вмешаться. В те времена считалось само собой разумеющимся, а то даже и единственно правильным, чтобы люди оставались какими есть, без всяких улучшений и перемен в своем положении. Учителя подшучивали над Говардом Троем и в лицо, и за глаза, и никому это не казалось странным или жестоким. В остальном они просто не обращали на него внимания.
Однажды, заявившись в школу, он оказался в нашем классе, у меня за спиной, по диагонали, и я сделала ему одолжение – а потом, да, собственно, прямо тогда поняла, что сделала это зря. Мы переписывали текст с доски. Говард Трой ничего не переписывал. Он просто сидел и бездельничал – у него не было ни бумаги, ни карандаша. В школу он приходил с пустыми руками. Принести карандаш, бумагу, резинку, линейку для него было бы столь же противоестественно, как отрастить перья. Он смотрел прямо перед собой – может, на доску, пытаясь прочитать или разобрать, что же там написано, а может, и вовсе в никуда. О чем он думал? Гадать совсем не хотелось. Неприятно было ощущать, что вот он сидит там, позади меня, и смотрит из своего кокона – кокона глупости и уродства, который на него натянули, а он этот кокон принял и уверовал в его существование так крепко, что теперь уже неважно, есть он на самом деле или нет. Я не считала, что он мне в чем-то сродни, такое мне было не по уму, я просто боялась его так, как до того мне и в голову не приходило никого бояться.
Глаза его цветом были как у кота. Круглые, прозрачные, близко посаженные. Я открыла тетрадку посередине, чтобы вытянуть лист, не порвав ничего вокруг, и подала ему этот лист, а вместе с ним – заточенный карандаш. Он не протянул руки, чтобы их взять. Я положила их на парту. Он не поблагодарил, сделал вид, что вовсе ничего не заметил, но потом я увидела, что он все-таки водит карандашом по бумаге – может, списывает с доски, может, рисует, а может, просто вычерчивает круги и кренделя, понятия не имею. Зря я это сделала, потому что тем самым привлекла к себе его внимание. Мало того, по случайности – хотя мне-то это не казалось случайностью! – мы жили на одной дороге. Меня следует проучить. Так он, наверное, подумал. За наглость. За попытку его облагодетельствовать. А может, ему на миг приоткрылась новая, занимательная, неожиданная человеческая слабость.
Сугробы были высоченные, дорога шла между ними будто по туннелю. Под свежим снегом лежали комья старого снега, твердые, серые. Вдоль расчищенных тропок вились ленточки собачьей мочи. К дому Пня Троя вела подъездная дорожка, и снег с нее всегда был старательно счищен – ради кого бы это, спросила Робина. Вопросы она задавала голосом человека, который заранее знает ответ. Я шла, и в кармане у меня лежал нож – разделочный нож, который я стащила у Робины из кухни. Я сняла перчатку, потрогала его. Спрятавшись за сугробом у подъездной дорожки своего дома раз-два в неделю, когда именно – не угадаешь, меня подкарауливал Говард Трой. Он неожиданно возникал из-за сугроба – того и гляди встанет прямо передо мной, перегородит узкий проход.
- Ебнемся.
- Хочешь ебнуться?
Я проходила мимо, опустив голову и задержав дыхание, – так проходят через стену пламени. Только не смотреть на него, не убыстрять шаг, чувствовать под рукой лезвие. У меня не было мысли о том, что он может пойти следом. Раз уж он не сдвинулся с места в первый раз, так уже и не сдвинется. Опасность таилась в ауре непечатного слова.
Сейчас мне этого уже и не объяснить. Я слышу, как детишки лениво роняют «Еб твою мать», проезжая мимо меня на велосипедиках. Слышу, как какой-то папаша кричит отпрыску: «Да убери ты ебаную косилку, мне не проехать!» А раньше, если кто-то бросал тебе в лицо это слово, ты вставала как вкопанная. В слове содержалась угроза унижения, а может, и само унижение – оно было в звуке, в прерванном шаге, в осознании. Тебя душил стыд. В буквальном смысле. Только не в тот первый момент, когда главное было – не попасться в ловушку, пройти мимо, а после – душили волны сального страха, мутило от мерзких тайн. От уязвимости, которая сама по себе постыдна. Все мы созданы из стыда.
Я никогда никому об этом не рассказывала, не просила помощи. Я бы скорее вытерпела любое надругательство, смирилась с любым издевательством, с любым бесчестьем – но у меня язык не повернулся бы повторить такое или признать, что это прозвучало в мой адрес. Мне казалось, что никто не может помочь, что над этим никто не властен. И разумеется, я была убеждена в том, что одной только мне могут говорить подобные вещи, что Говард Трой просто первым понял, как меня изводить, что это некий знак для всех. И знак этот нужно скрывать и истреблять, вымарывать из головы – быстро, быстро! – но до конца вымарать не получалось, ручеек памяти и трезвого понимания все струился в глубине и пробивался наружу в другой части моего сознания.
Робина, бывало, брала меня к себе домой. Мы шли милю или полторы через перелесок за зданием нынешнего аэропорта к маленькой ферме среди полей, на которых высились груды вынутых из земли булыжников. Ходили мы туда и зимой, и Робина показывала мне волчьи следы – так она, по крайней мере, утверждала. Ей будто бы рассказывали, что однажды ребеночка посадили в санки и впрягли в них собаку, а собака заслышала в кустах волчий вой и припустила к волкам, а санки за нею. И когда собака увидела волков, она и сама обернулась волком, и все они вместе ребеночка-то и съели. Когда Робина шагала через кусты, властность ее возрастала – вернее, в ней появлялась новая властность, не та, что в маминой кухне, где Робина пребывала в совершенно ей не подходящем, не для нее придуманном звании прислуги. Долгое плоское тело как бы слегка развинчивалось, начинало покачиваться, будто дверь на петлях – вроде бы держится, но лучше не подходить, прихлопнет. Ей тогда, наверное, было лет двадцать, но мне казалось, что возрастом она – как моя мама, как строгие пожилые учительницы, как дамы, которые заправляют магазинами. Волосы у нее были коротко остриженные, темные, плотно прилизанные ко лбу и закрепленные невидимкой. Пахло от нее кухней и тканью, пропитавшейся застарелым потом. И еще был в ней привкус золы и пепла – в ее коже, волосах, одежде, запахе. Впрочем, все принимали этот запах как должное. Да и кто бы отважился выразить неприятие Робине, у кого хватило бы духу?
Нам нужно было перейти мостик, состоявший из трех неровно положенных жердин. Робина раскидывала руки, чтобы удержать равновесие. Один рукав, полупустой, полоскался над водою точно покалеченное крыло.
Главный ее рассказ был о том, как она вечно повсюду таскалась за своей мамой, а та, много лет назад, убирала в домах у городских дам. И в одном из этих домов была стиральная машина с отжимом – в те времена совсем новое изобретение. Робина, которой тогда сравнялось пять лет, стояла на стуле и подавала одежду в отжимной валик. (Я понимала, что даже тогда она не в состоянии была ничего пустить на самотек и не руководить любым процессом.) Руку затянуло в валик. Теперь рука заканчивалась между локтем и запястьем. Робина ее никогда никому не показывала. Всегда носила платья и блузки с длинными рукавами. Мне, правда, представлялось, что не от стыда: скорее чтобы раздуть тайну и собственную значимость. Когда она шла по дороге, ребятишки помладше бежали следом и кричали: «Робина, покажи руку!» Кричали беззлобно, даже почтительно. Она давала им накричаться, а потом отшугивала прочь, как цыплят. Она была безусловным лидером среди тех несгибаемых людей, о которых я говорила в самом начале, тех, что способны превратить физические недостатки в предмет зависти, а насмешку – в похвалу. Я была искренне убеждена, что и руки она лишилась по собственному выбору, обзаведясь навек знаком инакости и власти.
У меня была мечта посмотреть на эту руку. Мне представлялось, что там срез, как на распиленном бревне, и в нем видно кости, мышцы и кровяные сосуды во всей их путаной, волокнистой, укромной наготе. При этом я знала, что увидеть Робинину руку своими глазами для меня так же невозможно, как увидеть обратную сторону луны.
Остальные рассказы были из истории ее семьи.
– Дюваль, когда маленький был, целыми днями сидел на крыше, крыть ее помогал. А сидеть ему там было вовсе ни к чему, потому как кожа-то у него светлая, светлее, чем у всех у нас. Мы и так-то все светлокожие, кроме разве что меня да Финдлея, первой да последыша. И вот хоть кто бы подумал, что Дюваля там припечет, кто бы надел на него шляпу! Я-то бы, конечно, подумала, только меня тогда дома не было. Правда, шляпу на него надевай не надевай, все равно снимет, взрослые-то вокруг все без шляпы, так и ему оно не надо. И вот после ужина прилег он на кушетку, вроде как соснуть. А через некоторое время открывает глаза и говорит в полный голос: «Хватит мне уже в лицо перьями тыкать». А мы-то никаких перьев не видим. Удивились. А тут он вдруг сел, смотрит вроде как сквозь нас и будто вовсе не узнает. «Бабуля, – говорит, – налей мне попить. Ну пожалуйста, бабуля, – говорит, – налей водички». А бабули никакой нет. Померла уже бабуля. А его послушать – так она прямо рядом сидит, а нас в комнате никого и вовсе он нас не видит.
– У него был солнечный удар?
– У него было божественное видние.
Это она произносит безапелляционно и укоризненно.
О всех своих родственниках, от Дюваля и Джимми, которые родились следующими после нее, до пятилетнего Финдлея, Робина говорит с особым уважением и строгостью, как бы предупреждая, что ни к одному событию их жизни, к их пристрастиям, хворям, распрям, любимым словечкам или ежедневным приключениям нельзя относиться с легкомыслием. Сквозь них сквозит ее собственная значимость, а их значимость – сквозь нее. Я прекрасно понимала, что в сравнении с ними значу очень мало. Тем не менее я была дочерью хозяев в доме, где работала Робина; это придавало мне определенный вес. Так что я не испытывала зависти.
Иногда, шагая через перелесок, мы слышали, как вдали ударялся о землю орех или сосновая шишка, и тогда Робина говорила: «Небось Дюваль, или Джимми, или оба разом пошли дерево трясти». Меня всегда будоражила мысль, что мы от них неподалеку, на территории их вылазок и приключений. И я радовалась не меньше, чем Робина, когда вдалеке показывался некрашеный, слегка покосившийся дом, рядом – ни деревца, он словно плыл через заросшие сорняками поля, а зимой плыл по снегам – маячил у самой кромки кустарника, как какая-то неприкаянная лодка на поверхности пруда. Завидев нас, оттуда высыпали ребятишки – все белобрысые, кроме Финдлея, все босиком, пока земля не смерзнется окончательно. Они вопили, выделывались, свешивались с ручки насоса, нарочно поднимали на весь двор клубы пыли и куриных перьев.
Городскую школу они не посещали. Их школа находилась в миле-другой ходьбы через перелесок в другом направлении. Со слов Робины выходило, что они постоянно составляли в этой школе бльшую часть учеников. Я представляла себе, что для них школа – как бы продолжение дома, что они и там подставляют руки под насос, чтобы напиться, и сидят на крыше, любуясь окрестностями.
А значит, к ним я приходила свободной от прошлого, как человек странный и новый. С ними я была не такой, как с другими. Если на мне было пальто, они просили потрогать мех. Я задирала нос от гордости. И было это волшебство, наслаждение. «Слушайте», – говорила я им. И загадывала загадки. Учила играть в игры, на которые раньше только смотрела. Али-Баба. Жмурки. Угадалки. Эти дети, сорвиголовы и забияки, отчаянно боялись города; они были невоспитанны, но не завистливы и видели во мне вожака. Я не возражала. Мне это казалось естественным. Прятки. Морская фигура, замри. У них были качели – автомобильная покрышка на веревках. Они лазали повсюду, и я лазала с ними. Мы перебрасывали доску через колодец и ходили по ней. Я испытывала безоблачное счастье – точнее, теперь мне так кажется. Единственное, что мне там не нравилось, – это еда. Робина, которая на кухне у моей мамы стряпала такие замысловатые пудинги, такой сочный черный шоколадный кекс, неописуемые булочки, пышное картофельное пюре, здесь запросто выдавала каждому по ломтю хлеба с жирным куском бекона – да и тот был холодный и почти сырой. Все жадно жевали, проглатывали, просили еще; голодными они были постоянно. Я с радостью отдала бы любому свою порцию, но им полагалось отказываться от моего предложения.
Джимми и Дюваль были рослые, ростом со взрослых мужчин, но по-детски шкодливые и непредсказуемые. Бывало, они гонялись за нами, подхватывали, раскачивали за руки – мы так и летели вперед. Возились они с нами без единого слова, с очень суровым видом. А случалось, они подходили, вставали по бокам от меня и говорили:
– Ты не помнишь, это она тут не боится щекотки?
– Не знаю. А то я помню, она или нет.
– Вроде бы она. Она вроде бы.
И веско кивают, будто бы размышляя. А потом стоило им сделать одно движение в мою сторону – и я заходилась от восторженного визга. Визжала я не потому, что меня щекочут или вот сейчас могут пощекотать. Меня радовало, что меня держат за свою. Раз дразнятся, значит признают, значит хотя бы на время я в безопасности; я совсем не боялась Дюваля и Джимми, несмотря на их габариты. И когда торжественность их тона сообщала мне, что они надо мной насмехаются, меня это не обижало. Мне они представлялись добрыми, сильными и таинственными волшебниками – прямо как клоуны в цирке. Кстати, они, как и клоуны, умели делать разные трюки. Иногда устраивали беззвучные изумительные представления на пыльном дворе – ходили колесом, прыгали друг через друга. Робина утверждала, что с таким мастерством их взяли бы в любой цирк, но они никуда из дому не уедут, любят они свой дом. В школу они не ходили. Не ходили с тех пор, как учитель поколотил Джимми за то, что тот выбросил в окно тряпку, которой вытирают мел с доски, а потом Джимми с Дювалем вместе – так рассказывала Робина – поколотили учителя. Было это уже несколько лет назад.
– И чейная это подружка? – спрашивали они. Моя. Нет, моя. И они начинали в шутку бороться за меня, отбирали меня друг у друга, стискивали в объятиях. Мне очень нравился их запах, запах курятников, моторов и сигарет «Букингем».
Имелись у них и враги, с которыми не разберешься так просто, как с учителем. Например, продавцы в магазинах, неоднократно обвинявшие их в кражах. Или еще Пень Трой. Я знала его прежде всего как врага Джимми и Дюваля – и Робины, соответственно, тоже – еще задолго до того, как его сын Говард сделался моим врагом. Просто до того момента я не обращала на это особого внимания.
Робина сказала, что Пень Трой нажаловался в полицию, будто Джимми с Дювалем как-то в субботу под вечер слили бензин с одного из автомобилей, стоявших перед его домом. Они действительно слили бензин – для своей старой колымаги, которая обычно торчала, полуразобранная, во дворе на эстакаде, – но слили они бензин с машины мужика, который однажды не заплатил им за работу, а другого способа поквитаться с ним у них не было. Но еще и до этого, говорила Робина, Пень Трой рассказывал про них небылицы – и это он заплатил банде из Данганнона, чтобы те подкараулили и отлупили Джимми и Дюваля – потому что ведь даже Джимми и Дюваль больше чем с тремя каждый не справятся – перед танцклубом «Парамаунт». Теперь-то я полагаю, что Робинины братья могли быть конкурентами или отколовшимися партнерами Троя по бутлегерскому бизнесу. Мама моя осуждала любое употребление спиртного, что было совершенно естественно в ее положении, и у нас в доме Робина, по крайней мере на словах, разделяла эту точку зрения. Она утверждала, что вся их семья якобы дала зарок не пить – бабушка настояла. Вполне возможно, все было не совсем так. В любом случае Пень Трой уже устроил Джимми и Дювалю кучу неприятностей и мог в будущем устроить еще больше, и за это они его люто ненавидели.
– Они его просто ненавидят! Окажись они на улице темной ночью и окажись этот Пень у них на дороге, он очень пожалел бы, что связался с ними!
– Как же это он окажется на дороге?
– То-то и оно. Повезло ему.
– Джимми и Дюваль – ребята невредные, – говорила Робина. – Никому нехотят зла. Но если кто им подложил свинью, они обиды не спустят. До смерти от человека не отстанут.
Расплата. Я представляла себе, как наступаю Говарду Трою на глаза. Как всаживаю ему в глаза шипы. Шипами, длинными и острыми, утыканы подошвы моих ботинок. Его глазные яблоки выпирают, ничем не защищенные, огромные, как перевернутые миски, а я наступаю на них, прокалывая, втаптывая, заливая кровью – не ускоряя шага. Я не мечтала о чистом, незапятнанном волшебстве: произнес мысленно волшебное слово – и испепелил на месте. Мне хотелось, чтобы ему открутили голову, чтобы из живой мякоти капало, как из арбуза, чтобы ему поотрывали руки и ноги; моим оружием против него были бы топоры, пилы, ножи и молотки. Если застать его врасплох с этим моим ножом, если не просто полоснуть по телу, а воткнуть и сделать дыру вроде тех, которые делают на кленах, когда собирают сок, уж я бы вонзила нож поглубже, и оттуда хлынул бы весь гной и яд, какие только есть на свете, и вытекли бы до последней капли.
Огонь заполнил дом, как кровь заполняет гнойник. Казалось, что постройка того и гляди лопнет, однако кожа не поддавалась. Кожа – это крыша и стены дома Пня Троя. Бывает, что дерево кажется не прочнее кожи.
– Сейчас крыша рухнет! – говорили зеваки. – Хорошо хоть ветра нет!
Я не понимала, что в этом хорошего, что теперь вообще может быть хорошего. Дом, на который я раньше не решалась, не хотела смотреть, оказался в устройстве совсем простым, как домик на картинке: дверь в центре и с обеих сторон от нее по узкому окну, а над дверью – слуховое окошко. Оба окна были разбиты – это Говард Трой пытался пробраться внутрь. Его оттаскивали. Теперь он сидел на земле перед горящим домом. Он выглядел потерянным, бессильным что-то изменить – каким выглядел в школе.
Из города вызвали пожарную машину, но когда пожарные прибыли, им уже оставалось только одно – благодарить Бога за отсутствие ветра. Они вытащили лестницы, но приставлять их не стали. Некоторое время спустя им удалось добыть воды из крайнего гидранта – дом стоял за городской чертой – и облить полуразвалившиеся сараюшки, забор и уборную. Они направили воду и в пламя, но это выглядело как-то по-мальчишески глупо. «Вы бы уж тогда встали в ряд да поплевали туда!» – выкрикнула Робина, пребывавшая в сильнейшем возбуждении. Она сама была как горящая балка – вся подрагивала и потрескивала. Стояла она у калитки, где как раз расцвел огромный запущенный куст форзиции, а ведь снег едва-едва сошел. Меня она держала рядом. Моя мама, которая нас сюда привезла, сидела в машине на дороге, на некотором отдалении. Оттуда и наблюдала за пожаром, а с толпой смешиваться не захотела.
Это я первая увидела пожар из окна своей комнаты наверху – увидела изумительную вспышку в углу ночного пейзажа, яркое сияние на фоне мерцания городских огней, разливающийся омут тепла. Свет этот шел изнутри дома, через щели и окна.
Я подумала: Робине не по себе оттого, что она не может управлять пожаром. Не может отдавать команды пожарным. Она, надо сказать, попыталась, но они угрюмо продолжали делать свое дело, причем никуда не спеша. Ей оставалось только поправлять зевак, которые обменивались сведениями; это уже было кое-что.
– Хорошо еще, в доме никого нет, – сказал один из подошедших недавно.
И Робина откликнулась сурово:
– А то вы не знаете, что это за дом?
Похоже, некоторые не знали.
– А то вы не знаете, кто в нем живет? Пень Трой.
Это не всем и не все объяснило, поэтому она продолжила:
– Пень Трой, безногий! Сам-то он оттуда выйти не мог, верно? Значит, он и сейчас внутри.
– Господи! – благоговейно произнес какой-то мужчина. – Господи, он там заживо изжарится.
Огонь издавал совершенно неожиданный звук. Какой-то скрежет, будто доски или газонокосилку волокут по бетону. Я и не подозревала, что у огня вот такой голос. Хриплый, нетерпеливый – можно еще сказать «заполошный». И где-то там, в этом заполошном гуле, заходился криком Пень Трой – неужели он не звал на помощь? Если даже и звал, пламя ревело слишком громко и человеческий голос никто не слышал.
Не было еще и полуночи, так что к этому времени очень многие даже не ложились, а кто лег, встали снова – решили, что дело того стоит. Дорогу запрудили машины. Многие просто сидели и смотрели в окно, но много было и таких, что бродили между пожарными или стояли у забора, – лица озаряло пламя. Даже дети не бегали – внимание их было поглощено пожаром. Мне на глаза попались Робинины братишки и сестренки – некоторые из них, если не все. Они, надо думать, увидели огонь из своего дома – в небе уже стояло алое зарево – и пошли посмотреть через кусты, по темноте. Робина их тоже увидела и тут же закричала:
– Флоренс! Картер! Финдлей! А ну, хоть вы-то сюда не суйтесь!
Они и так не совались – мы стояли гораздо ближе, чем они.
Она почему-то не спросила, где Джимми и Дюваль, хотя те вряд ли добровольно пропустили бы такое зрелище. Вместо нее крикнула я:
– Флоренс! А где Джимми с Дювалем?
Робина выбросила вперед единственную свою целую руку и вмазала мне по лицу, прямо по губам, – удара такой силы я никогда не ощущала, ни до ни после. Я была так ошарашена, что даже подумала: удар как-то связан с пожаром (тем более что вокруг все твердили: «Поосторожнее! Сейчас рухнет, доски полетят во все стороны!»), и Робина наверняка просто выставила руку, чтобы отвести какой-то летящий в меня предмет. И в тот же миг крыша все-таки обрушилась, и все бросились врассыпную. Пламя взметнулось в небо. И почти в тот же миг с другого конца двора раздался вопль, а почему – я поняла только позднее. В тот момент мне от смятения почудилось: кричат из-за того, что Робина меня ударила. А на деле кричали из-за Говарда Троя, который сорвался с места и метнулся прямиком в пылающий, оседающий дверной проем – спасти никого уже было нельзя, если он кого-то хотел спасти, но и его не спасли тоже.
Впоследствии этому дали несколько объяснений. Одно заключалось в том, что на деле он хотел бежать в другую сторону, прочь от огня, но в помрачении рассудка бросился прямиком в пламя. Другое – что он услышал призывный крик отца и подумал, что успеет его вытащить. Или крик этот ему почудился. Вряд ли к тому моменту Пень Трой еще был в состоянии кричать. В свете этого объяснения Говард Трой выглядел героем, поэтому оно не получило широкого признания, хотя кое-какие чудаки так и остались при нем, в том числе и моя мама. Еще одно объяснение заключалось в том, что Говард Трой сам устроил поджог, возможно – после ссоры с отцом, а возможно – и вовсе без причины, чтобы показать, на что он способен; а до того он долго выжидал и готовился, так что люди совершенно справедливо относились к нему с опаской. У этой теории было вещественное подтверждение – пустая канистра из-под бензина. Те, кто считал, что поджог был преднамеренным, иногда высказывали предположение, что запалил дом сам Пень или кто-то по его распоряжению, потому что он хотел получить страховую выплату. Он, видимо, собирался выбраться из дома заранее или рассчитывал, что Говард его вытащит, но Говард струсил или упустил нужный момент. А потом, из-за угрызений совести или страха перед наказанием, бросился в пламя. Но на тот момент никаких объяснений вообще не было. Зеваки поспешно расходились, чтобы рассказать другим – тем, кто ничего не видел. Меня поступок Говарда не удивил. После пожара и удара по лицу меня уже ничто не удивляло. Я прижала руки к губам – как ни странно, зубы все были на месте; кровь шла только из ссадинки на внутренней стороне губы, которую я случайно прикусила.
Робине же пожар внезапно наскучил до смерти. Она потянула меня к калитке, потом к дороге. Маминой машины там уже не было.
– Похоже, уехала домой без нас, – сказала Робина. – И правильно сделала. Эти придурки могут торчать здесь хоть до утра. Знаю я, чего они дожидаются. Они дожидаются, когда будут выносить тело. Тела, – поправилась она. – Ну и пусть дожидаются.
Я не ответила, я не оглядывалась на пожар. Я шла вперед. Один раз Робина толкнула меня – иначе я свалилась бы в канаву. Я так и подпрыгнула от ее прикосновения.
– Идешь как лунатик. Я того тебя и ухватила, чтобы ты в канаву не навернулась.
Когда мы миновали ряд машин и места стало побольше, Робина пошла со мной рядом. Мне казалось, что она, если бы могла, охватила бы меня со всех сторон, одновременно спереди, сзади и по бокам. Она отгородила бы меня от мира и всматривалась бы в меня, пока не нашла бы то, что искала, и не переиначила бы по-своему. Пока же она просто сказала:
– Если ты будешь каждую этакую несуразность запускать к себе в душу, тяжко тебе будет жить на свете.
Я вовсе не пыталась расстроить Робину или проучить. Я честно собиралась ответить. Некоторое время я была уверена, что и ответила, – так случается, когда в полусне все твердишь себе, что нужно обязательно что-то сделать – закрыть окно, погасить свет, – и в итоге убеждаешь себя там, во сне, что дело сделано. А после такого сна никогда не скажешь наверняка, что сделано, а что нет, какие слова прозвучали въявь, а какие только приснились. И потом я так и не смогла определить, действительно ли Робина время от времени заговаривала со мной – мне казалось, что заговаривала, – то ли необычайно мягким и заботливым голосом, то ли угрожала, то ли что-то сулила, то ли запугивала, то ли утешала.
Не помню, сказала ли она:
– Послушай. Я покажу тебе свою руку.
Если и сказала – я ничего на это не ответила.
Учась в выпускном классе или приезжая из университета домой на выходные, я иногда встречала на главной улице Робину: рукав полощется на ветру, сама помахивает здоровой рукой, шагает, как всегда, будто бы вниз по склону холма. У нас она уже давно не работала. Когда отец окончательно вернулся домой, на кухне обосновалась сиделка и завела свои порядки; для Робины не осталось ни места, ни денег. Каждый раз, завидев ее, я невольно вспоминала свое детство, которое тогда казалось таким далеким, таким муторным и неприкаянным. А я к тому времени уже переменилась, и обстоятельства мои переменились, и я поверила в то, что, если призвать на помощь старание и везение, я хотя бы внешне смогу стать такой же, как все остальные. Так оно, собственно, в результате и вышло.
Теперь Робина казалась мне странноватой: нелепой, сумасбродной, немного неряшливой. Тем не менее я бы заговорила с ней, я была к этому готова. Но она всякий раз отворачивалась и молча шла мимо, показывая, что я теперь принадлежу к числу тех, кто нанес ей жестокое оскорбление.
Возможно, Робины уже нет в живых. Возможно, нет в живых и Джимми с Дювалем, хотя это и трудно себе представить. Мне еще остается несколько лет до пенсии. Я вдова, государственная служащая, живу на восемнадцатом этаже многоквартирного дома. Одиночество меня не тяготит. По вечерам я читаю, смотрю телевизор. Нет, неправда, не всегда так. Иногда я сижу в темноте, пью разведенный водой виски и бессмысленно, беспомощно, чуть ли не в утеху себе думаю о таких вот вещах, которые позабыла или о которых очень давно не решалась вспоминать.
Когда все, кто еще помнит тот пожар, уйдут из жизни, огонь, полагаю, наконец догорит и все в мире станет так, будто никто и не вбегал в горящий дверной проем.
Марракеш
Перевод Александры Глебовской
Дороти сидела на боковой веранде, в кресле с прямой спинкой, и ела орехи. В последнее время она пристрастилась покупать их из автомата в аптеке. Ела она орехи из белого бумажного пакета с нарисованной на нем белкой. В семьдесят лет ей пришлось бросить курить из-за болей в груди. В былые времена школьное начальство так и не смогло ее от этого отвадить, как ни старалось. Не помогла даже петиция родителей, направленная в школьный комитет. Эту петицию принес ей Горди Ломакс – теперь уже покойный. Дороти прочитала ее въедливо, будто диктант.
– Ответь им, что это мой единственный недостаток, – сказала она твердо, и Горди пошел и сказал:
– Она утверждает, что это ее единственный недостаток.
Виола предсказывала, что на орехах Дороти растолстеет, вот только Дороти не толстела, как не толстела никогда. А Виола просто завидовала – ей-то вот этак не полакомиться, ей вообще нельзя орехи и яблоки. Потому что у нее вставная челюсть.
В данный момент Дороти была одна. Виола отправилась на кладбище, а с нею и Жанет. Рано утром, еще до завтрака, они ободрали с клумбы все дельфиниумы, которые как раз были в самой поре и сияли всеми оттенками пурпура и синевы. Виоле требовался букет на могилу мужа, еще один – на могилу мужа Дороти (она взяла его под свою опеку, так как Дороти всегда обходила кладбище стороной) и последний – на могилу их родителей.
– Я подумала, не захочешь ли ты съездить к Смотрящим в Вечность, – сказала она Жанет за завтраком. Так когда-то называл кладбище ее муж, была у него такая шутка.
Жанет, понятное дело, не сообразила, что она имеет в виду. Виола произнесла эти слова задушевно, с оттенком кокетливости. Тут она ничего не могла с собой поделать. Перед кассиром в продуктовом магазине, механиком в автомастерской, подростком, который скашивал им траву, она с таким вот неуместным кокетством склоняла свою голову в гладких серебристых волнах и обиженным тоном бормотала слова, которые никто попросту не мог разобрать. Дороти это смущало. Чтобы уравновесить Виолину глупость, ей приходилось изъясняться исключительно кратко и по делу.
– Она кладбище имеет в виду, – пояснила Дороти.
– А, кладбище – это здорово, – с милой обворожительной улыбкой откликнулась Жанет.
– Что там здорового? – осведомилась Дороти, глядя в чашку с черным кофе точно в колодец.
– Ну, красиво, – примирительно сказала Жанет, – и старые надгробия там замечательные. Люблю читать надписи на старых надгробиях.
– Дороти считает меня мрачной особой, – не упустила случая ввернуть Виола.
– Никем я тебя не считаю, – отрезала Дороти и тут же просветлела, что-то вспомнив. – Стеклянные банки на кладбище приносить запрещено. – Она посмотрела на букеты, которые Виола расставила по банкам. – Придется все вытащить и переставить в пластмассовые контейнеры из-под мороженого.
– Запрещено? – удивилась Виола. – Это еще почему?
– Из-за вандализма, – удовлетворенно пояснила Дороти. – Я по радио слышала.
Жанет была внучкой Дороти. Жители городка, которые частенько видели Жанет с обеими пожилыми дамами – причем с Виолой, которая все еще водила машину, чаще, чем с Дороти, – этого не знали. Большинство, впрочем, догадывалось, что это какая-то молодая дальняя родственница. Дороти провела в городке и его окрестностях всю свою жизнь, и почти никто уже не помнил, что когда-то она осталась вдовой с маленьким сыном, которого звали Бобби: тот отучился здесь четыре года в старших классах, а потом, за несколько лет до начала войны, уехал искать работу в западной части страны. Все годы от кончины мужа до пенсии Дороти преподавала в седьмом классе городской школы, и поэтому, наверное, постепенно забылось, что и у нее когда-то была своя личная жизнь. Во многих, очень многих переменчивых, неприкаянных, беспокойных судьбах она стала своего рода неподвижной звездой. Встречая ее на улице, водители грузовиков, лавочники, матери с детскими колясками – а теперь иногда уже и бабушки с детскими колясками – вспоминали глобусы, арифметические пропорции, диктовки, толковую, рациональную обстановку у нее в классе. Сама она редко вспоминала классную комнату, в которой провела большую часть жизни, а наведаться туда она не смогла бы, даже если бы и захотела: пять лет назад старую школу снесли и вместо нее построили новое приземистое, безликое здание в пастельных тонах; однако для ее бывших учеников старая школа продолжала существовать в Дороти пожизненно, и ничего иного они в пожилой даме видеть не желали. Обращение «миссис» было ничего не незначащей данью вежливости, и только.
Ее сын Бобби умер еще до войны – погиб в автомобильной аварии в глухой Британской Колумбии. Впрочем, до аварии он успел жениться и родить дочку. Это и была Жанет. Мать Жанет, с которой Дороти так ни разу и не виделась, перебралась в Ванкувер, через пару лет снова вышла замуж и завела новую семью, со временем изрядно разросшуюся. В четырнадцать Жанет впервые приехала на восток, на поезде, чтобы провести с бабушкой месяц летних каникул. С тех пор она приезжала каждое лето – Дороти с отчимом Жанет оплачивали эти поездки пополам. Переписку Дороти вела именно с отчимом, который объяснил ей, что у девочки возникли вполне естественные трения с матерью и многочисленными материнскими отпрысками; очень полезно дать им отдохнуть друг от друга. Судя по всему, человек он был весьма здравый. Впрочем, и он уже умер. А Жанет практически оборвала все связи с матерью и сводными братьями-сестрами.
Зато она продолжала навещать Дороти, а когда к той переехала Виола, то уже Дороти и Виолу. Она выиграла несколько стипендий, что позволило ей закончить колледж. Потом получила степень магистра. Потом закончила аспирантуру. Получила доктора. Да так и осталась в колледже преподавать. Много путешествовала. Приезжала, как правило, не дольше чем на неделю, иногда всего на три-четыре дня. А потом – нужно успеть заехать к друзьям, есть всякие другие планы. Дороти подозревала, что внучке у них скучно.
Когда Жанет приехала к ним впервые, еще девочкой-подростком, волосы у нее были короткие, каштановые. Потом она стала блондинкой. Однажды летом появилась с высоким начесом, – казалось, что у нее на голове целая шапка из мыльных пузырей. В те дни она красила веки до самых бровей в синий цвет и носила платья в обтяжку – оранжевые и лиловые, желтые и алые. Этот изысканный и одновременно вызывающий стиль, сменивший продуманную невзрачность подросткового возраста, изумлял донельзя. Она отрастила волосы и либо заплетала их в косу, либо распускала бледные кудряшки по спине. Одевалась в джинсы и деревенские блузки, украшала себя бусами во много рядов и всякими безделушками из металла. Обувь надевала редко. А еще она любила платьица с набивным рисунком, короткие, совсем детские, открывавшие спину и разглашавшие тот факт, что бюстгальтеров она не признает. Да они ей были и не нужны. У этой женщины за тридцать была фигура одиннадцатилетнего ребенка.
– Как ты думаешь, она пытается быть хиппи? – вопрошала Виола вкрадчиво. – Интересно, что о ней думают ее студенты.
Виола была мастером по части улыбки на лице и ножа в спину. К этому ее приучила роль, которую она играла в свете, – роль жены банкира. Камешек был брошен в огород Дороти, ведь Жанет ее внучка.
Впрочем, Дороти и Виолу вполне устраивало совместное проживание. Так и дешевле, и дома ты не одна, и есть на кого рассчитывать в случае болезни или какого несчастья. А кроме того, взаимное общество доставляло им своего рода умиротворение, как вот оно бывает с капризными детьми или долго прожившими вместе сварливыми супругами, – умиротворение совершенно необъяснимое и по большей части незаметное, от которого на поверхность проступают лишь усталость, раздражение, необходимость постоянно быть начеку.
– В колледжах теперь все так одеваются, – заявила Дороти.
– Как, и преподаватели тоже?
– Все подряд.
– Интересно, выйдет она когда-нибудь замуж? – осведомилась Виола, и неспроста.
Дороти все чаще видела в журналах фотографии взрослых людей нового типа, которые, похоже, не желали взрослеть. Жанет стала первой их представительницей, которую Дороти довелось наблюдать вживую, да еще и вблизи. Раньше мальчишки и девчонки изо всех сил старались выглядеть взрослыми дядями и тетями, что вызывало один лишь смех. Зато теперь взрослые дяди и тети пытаются во всем походить на подростков – до того самого момента, пока не очнутся на пороге старости. Странно было видеть, как в лице Жанет иногда встречались дитя и старуха. Вот сейчас она на миг показалась моложе, чем была десять лет назад, – бледное ненакрашенное лицо, рот крупный и загадочный. Но вот что-то изменилось – освещение, или настрой, или гормональный баланс, – и то же лицо сделалось бугристым, синеватым, заостренным, с отчетливыми морщинками под глазами. Она будто перемахнула через изрядный кусок жизни.
С веранды, где сидела Дороти, улица казалась еще более знойной и обшарпанной, чем обычно летом. А все потому, что спилили деревья. Прошлой осенью явились рабочие и по приказу муниципалитета повалили все вязы – высокие, старые, с раскидистыми кронами, ветви которых раньше застили свет и шуршали о чердачные окна домов, а к осени покрывали лужайки толстым ковром из листьев. Все деревья были больны, некоторые стояли полумертвые, их было необходимо спилить до того, как зимою завьюжит и они превратятся в реальную опасность. Зимой было не так заметно, как переменилась улица, – зимой главными на ней были не деревья, а сугробы. Только летом Дороти осознала масштаб перемен. Нависавшие ветви скрывали дома, отчего дворики казались больше; а по узкому, латаному-перелатаному тротуару раньше текли, точно реки, изменчивые сплетения света и тени.
Жанет тут же запричитала.
– Деревья! – вскричала она, едва вылезла из своего кремового иностранного автомобильчика. – Наши дивные деревья! Кто их спилил?
– Муниципалитет, – ответила Дороти.
– Чего от него еще ждать.
– Выбора не было, – пояснила Дороти, обмениваясь с внучкой сухим поцелуем и сдержанным объятием. – Они подхватили графиоз ильмовых.
– И ведь повсюду так! – оборвала ее Жанет, явно не дослушав. – Всё вокруг разрушают. Страна скоро превратится в свалку.
С этим Дороти была не согласна. За всю страну она, конечно, говорить не могла, но их городок уж точно не превращался в свалку. Более того, члены «Добрососедского клуба» недавно осушили и расчистили большую пустошь у реки и разбили там совершенно замечательный парк – городу все сто лет его существования именно чего-то такого и не хватало. Насколько Дороти понимала, графиоз ильмовых за последний век сгубил все вязы в Европе и уже лет пятьдесят свирепствует на их континенте. Хотя ученые честно ищут спасительное средство, не отлынивают. Она сочла своим долгом довести все это до внучкиного сведения. Жанет бледно улыбнулась – да-да, но ты просто не понимаешь, что происходит, это касается всего, проникает повсюду, технический прогресс губит качество жизни.
Ну и ну, подумала Дороти; она подзабыла склонность Жанет видеть все в черном свете и собственный непроизвольный протест, толкавший ее на защиту того, в чем она совершенно не разбиралась и что совершенно не собиралась защищать. Качество жизни. Дороти не оперировала такими представлениями и не общалась с людьми, которые ими оперировали. Понять Жанет ей было непросто.
– У нее прекрасная машина, – любила толковать Виола, – у нее образование, у нее работа, а деньги ей тратить не на кого, кроме как на себя, и она объездила весь свет – мы с тобой о таком и мечтать не мечтали, – и все же она несчастлива.
Виола, понятное дело, считала, что Жанет несчастна и озлоблена потому, что не сумела убедить ни одного мужчину на ней жениться. Дороти так не думала, а кроме того, на ее взгляд, определения «несчастная» и «озлобленная» к Жанет совершенно не подходили. Ей лично в голову приходило слово «незрелая», однако и оно мало что объясняло.
Дороти и сама в ранней молодости – это она помнила отчетливо – бухнулась однажды в траву рядом с отцовской фермой и заревела как белуга – а почему? Потому что отец с братьями вздумали заменить забор, старый полуразвалившийся, замшелый дощатый забор – на колючую проволоку! Разумеется, никто не обратил на ее протесты ни малейшего внимания, и, проревевшись, она умыла лицо и постепенно привыкла к колючей проволоке. Как она в те времена ненавидела любые перемены, как цеплялась за старые вещи, старые, замшелые, полуистлевшие красивые вещи. Теперь-то она переменилась: прекрасно знала, что такое красота, замечала игру теней на траве, на сером тротуаре, однако понимала и то, что рано или поздно ко всему привыкаешь. Теперь это уже не имело для нее особого значения. Как, впрочем, и привычность вещей. Вон те дома простояли напротив сорок лет, да и раньше, видимо, там стояли, а значит, успели стать для нее привычными, потому что этот город был Городом ее детства, она часто проезжала по этой улице вместе с родителями, когда они всей семьей наведывались сюда из деревни и неизменно ставили лошадь в сарай рядом с методистской церковью. Но если дома завтра снесут, истребят живые изгороди, виноградники, грядки, яблони и что там еще, а на их месте возведут торговый центр, она не станет возмущаться. Не станет, будет просто сидеть, как вот сейчас, и смотреть – смотреть не пустым взглядом, а с сильнейшим любопытством – на машины, на мостовую, на мигание вывесок, на плоские крыши складов и на огромную, дугообразную, царящую надо всем громаду супермаркета. Смотреть она согласна на что угодно: красивая это вещь или уродливая, ей уже не важно, потому что в любой вещи можно открыть что-то новое. Это понимание пришло к ней с возрастом, и это было вовсе не безропотное, всеприемлющее понимание, которое, как считается, обретают старики; напротив, оно вызывало раздраженную, обескураженную сосредоточенность, пригвождало к месту.