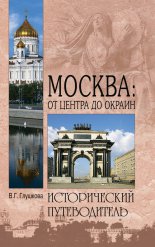Давно хотела тебе сказать (сборник) Манро Элис

Перевод Ирины Комаровой
Иногда я вспоминаю о маме в больших универсальных магазинах. Сама не знаю почему – ведь с ней я в таких магазинах не бывала. Просто мне кажется, что ей бы понравилась атмосфера деловой суеты, изобилие и разнообразие товаров. И разумеется, я вспоминаю о ней, если вижу на улице человека с симптомами болезни Паркинсона. И еще – в последнее время все чаще – когда гляжусь в зеркало. И конечно, на вокзале Юнион в Торонто, куда я впервые попала вместе с мамой и младшей сестренкой. Дело было летом, во время войны; в Торонто у нас была пересадка, и мы довольно долго должны были ждать следующего поезда. Мы все втроем ехали на мамину родину, в долину Оттавы[38].
Во время пересадки нас обещала приехать повидать мамина родственница, но она почему-то не приехала. «Наверно, не смогла отпроситься», – предположила мама. Она сидела в кожаном кресле в тогдашней дамской комнате отдыха – стены там были обшиты темными деревянными панелями; теперь это помещение закрыто и вход наглухо забит досками. Мамина родственница служила секретаршей в какой-то юридической конторе, а по маминым словам – «занимала ответственный пост при главном партнере ведущей адвокатской фирмы города». Помню, она один раз приезжала к нам погостить, в большущей черной шляпе и черном костюме, с кроваво-красным лаком на ногтях и такой же губной помадой. Приезжала она одна, без мужа. Муж у нее был алкоголик. Моя мама не упускала случая упомянуть, что он алкоголик, – обычно сразу после слов о ведущей адвокатской фирме и о том, какой важный пост там занимает наша родственница. Эти факты соседствовали не случайно – они как бы уравновешивали друг друга, между ними прослеживалась неизбежная, почти зловещая связь. О каком-нибудь знакомом семействе мама могла сказать: у них есть все и даже больше, денег куры не клюют, а единственный сын – эпилептик. Или передавала слова родителей единственной знаменитости, вышедшей из нашего городка, – пианистки Мэри Ренвик: те якобы повторяли, что готовы променять всю славу своей дочери на крохотные детские ручонки. На детские ручонки?! Счастье, в мамином представлении о мире, всегда бывало чем-нибудь омрачено.
Мы с сестренкой пошли побродить по вокзалу, похожему сразу и на городскую улицу – из-за ярко освещенных магазинчиков, – и на церковь, из-за высокого сводчатого потолка и огромных окон в противоположных концах зала. Казалось, что невидимые поезда гремят и грохочут прямо тут, за стеной, а откуда-то сверху гремел усиленный динамиком раскатистый голос, перечислявший разные пункты отправления и прибытия, только названий было все равно не разобрать. Я купила иллюстрированный журнал про кино, а сестренка – шоколадный батончик (мама дала нам немножко денег). Я хотела сказать сестренке: «Дай мне тоже откусить, а то я тебя назад к маме не отведу», – но она была потрясена размерами вокзала и понимала, что полностью зависит от меня, поэтому сама, не дожидаясь просьбы, отломила и протянула мне кусочек шоколадки.
В поезд на Оттаву мы сели ближе к концу дня. Вагон был весь забит военными. Сестренку маме пришлось взять к себе на колени. Один солдат – он сидел перед нами – повернулся и стал надо мной подшучивать. Мне показалось, что он очень похож на Боба Хоупа[39]. Он спросил, из какого я города, а потом сказал: «Как там, второй этаж уже надстроили?»[40] И сказал он это без улыбки, с таким же непроницаемым видом и таким же нахальным тоном, как настоящий Боб Хоуп. Я подумала: может, он и взаправду Боб Хоуп, просто переоделся в военную форму, чтоб его не узнали, и едет куда-то по своим делам. Для меня в этом не было ничего невероятного. Мне вообще казалось, что за пределами нашего городка – а к тому времени мы уже довольно далеко от него отъехали, – всякие разные знаменитости живут как вольные птицы, путешествуют инкогнито и могут неожиданно возникнуть где угодно.
Тетя Доди встретила нас на станции. Уже стемнело, когда она посадила нас в машину и повезла к себе – жила она за много миль от города. Приземистая, с резкими чертами лица, она без умолку тараторила и каждую фразу сопровождала смешком. Автомобиль у нее был старый, с плоским квадратным верхом и длинной подножкой.
– Ну-с, как там ее величество? Соизволила осчастливить вас своим присутствием?
Она имела в виду секретаршу из адвокатской фирмы, которая, между прочим, приходилась ей родной сестрой. С мамой они были двоюродные, так что тетя Доди была нам не родная тетка. А со своей собственной сестрой она была в ссоре, и они не общались.
– Нет, она не смогла прийти. Наверно, была занята, – ответила мама.
– Занята! – фыркнула тетя Доди. – Знаем мы ее занятия – куриный помет с башмаков соскребать! Что, не так?
Она рулила рывками, машина без конца подпрыгивала на промоинах и рытвинах. Мама обвела рукой окружавшую нас с обеих сторон темноту:
– Смотрите, дети! Дети, это долина Оттавы!
Вообще-то долины никакой не было. Поутру, проснувшись, я ожидала увидеть горы, на худой конец холмы, но перед глазами тянулись только поля и перелески, а под окном стояла тетя Доди и поила из ведра теленка. Теленок так нетерпеливо тыкался головой в ведро, что расплескивал молоко, а тетя Доди смеялась, пошлепывала его и уговаривала не жадничать. И обзывала засранцем: «Ну ты смотри, какой засранец!»
Она была одета для дойки – во что-то бесформенное, многослойное и многоцветное, трепыхавшееся на ветру; в таких отрепьях могла бы выйти на сцену нищенка в школьном спектакле. На голову – неизвестно зачем – она нахлобучила старую мужскую шляпу с дырявой тульей.
Мамино воспитание не подготовило меня к тому, что мы окажемся в родстве с людьми, которые способны так одеваться или употреблять слова вроде «засранец». Мама всегда повторяла: «Я терпеть не могу грязь». Но тетю Доди она спокойно терпела. Говорила, что они росли вместе и всегда были как сестры. (Бернис, адвокатская секретарша, была старше на несколько лет и давно уехала из родительского дома.) И еще мама обычно добавляла, что в жизни у тети Доди случилась трагедия.
Дом у нее был очень бедный, прямо голый. Самый бедный из всех, где мне доводилось гостить. По сравнению с ним наш собственный дом (который я тоже считала бедным, потому что мы жили далеко от города, без водопровода и ватерклозета, и могли только мечтать о такой роскоши, как жалюзи на окнах) показался бы вполне благоустроенным: у нас было пианино, много книг, приличный столовый сервиз и даже ковер – покупной, а не самодельный, какой можно связать крючком из лоскутков. А в доме у тети Доди, в самой большой комнате, не было ничего, кроме ветхого кресла, набитого конским волосом, и полки со старыми брошюрками из воскресной школы. Тетя Доди держала коров и продавала молоко. Возиться с обработкой земли, да еще в одиночку, смысла не имело. Каждое утро, закончив дойку и пропустив молоко через сепаратор, она загружала полные бидоны в свой грузовичок и ехала за семь миль на сыроварню. Жила она в постоянном страхе перед санитарным инспектором, который регулярно объезжал все фермы в окрге, обследовал коров и в любой момент мог выявить у них туберкулез – просто из вредности или в угоду владельцам крупных молочных хозяйств. Тетя Доди уверяла, будто они хотят пустить по миру мелких фермеров и нарочно подкупают санинспектора.
Трагедия ее жизни состояла в том, что перед самой свадьбой ее бросил жених. Она так и сказала нам с сестрой:
– Вы слыхали, что мой жених сбежал из-под венца?
Мама строго-настрого запретила нам касаться этой больной темы, а тут пожалуйста – она сама! Мы были на кухне втроем, я с сестрой и тетя Доди: тетя мыла тарелки, я вытирала, а сестренка убирала на полку (мама прилегла отдохнуть). И тетя задала этот вопрос с оттенком гордости, как человек, который мог бы спросить: «Вы слыхали, что я переболел полиомиелитом?» – или похвастаться еще какой-нибудь серьезной и опасной болезнью.
– Представляете, уже испекли свадебный пирог, – продолжала она. – И я надела подвенечное платье.
– Белое? Атласное?
– Нет, не белое, но тоже красивое – темно-красное, из дорогой тонкой шерсти: свадьба-то была поздняя, осенняя. Священника пригласили сюда, домой, все было готово, ждали только жениха. Папаша то и дело выбегал на дорогу посмотреть, не едет ли мой суженый. А потом на дворе совсем стемнело, тогда я встала и говорю: ну все, пора браться за вечернюю дойку! Сняла я свое красное платье, да так больше его и не надела. Отдала кому-то. Другие на моем месте глаза бы выплакали, а я хоть бы что, только смеялась.
Наша мама, рассказывая ту же историю, заканчивала ее иначе: «Года через два я приехала домой и несколько раз ночевала у Доди. И каждую ночь слышала, как она плачет. Каждую ночь».
- Я у церкви поджидала молодца,
- Ждла молодца,
- Ждла молодца,
- А он, обманщик, улизнул из-под венца –
- Уж как я тогда гореваала![41]
Тетя Доди спела нам эту песенку, не прекращая мыть посуду. Стол на кухне был круглый, покрытый отскобленной добела клеенкой, а сама кухня большая, как дом, с двумя дверьми, одна напротив другой, так что через кухню всегда продувал ветерок. Холодильник у тети был самодельный – я раньше ничего подобного не видела: просто шкафчик, а в нем большущая глыба льда. Лед она привозила в детской тачке из ледника во дворе. Ледник тоже был очень интересный: глубокий погреб, вырытый в земле, с покатой крышей; там все лето хранился пересыпанный опилками лед, который зимой вырубали из замерзшего озера.
– Только не у церкви я стояла, – уточнила тетя Доди. – Венчаться мы должны были дома.
За полем, на соседней ферме, жил мамин родной брат, дядя Джеймс, и его жена, тетя Лина. У них было восемь человек детей. В этом доме выросла моя мама. Он был больше, чем тети-Додин, и мебели там было намного больше, но снаружи дом тоже был некрашеный, просто обшитый серым тесом. Из мебели имелись кровати – высокие, деревянные, с резными изголовьями и пухлыми перинами. Под кроватями стояли ночные горшки, которые опорожнялись явно не каждый день. Мы с мамой ходили туда одни, без тети Доди. Они с тетей Линой не жаловали друг друга и не разговаривали. Тетя Лина вообще мало с кем разговаривала. По словам моей мамы и тети Доди, дядя Джеймс женился на ней, едва ей минуло шестнадцать, и вытащил ее из захолустья (помню, я задумалась, что такое Холустье и где оно находится). Ко времени нашего приезда они были женаты уже лет десять-двенадцать. Тетя Лина была прямая, высокая и плоская, как доска, сзади и спереди одинаково – притом что к Рождеству она ждала девятого ребенка. Лицо с темными пятнами веснушек, глаза тоже темные, тревожные, чуть воспаленные, похожие на звериные. Все дети унаследовали глаза от матери: у дяди Джеймса глаза были совсем другие, бледно-голубые, безмятежные.
– Когда твоя мать слегла, – рассказывала тетя Доди нашей маме, – эта идиотка без конца ее дергала. Как сейчас слышу: это полотенце не трогай! Это не бери! Утирайся своим! Она думала, что раком можно заразиться, как корью. Ну что с нее взять? Дура дурой.
– Никогда ей этого не прощу, – отзывалась мама.
– И ребятишек к бабушке близко не подпускала. Пришлось мне самой туда ходить – и мыть больную, и обихаживать. Видела все своими глазами.
– В жизни ей этого не прощу!
Тетя Лина жила в постоянном тревожном напряжении – как я поняла много позже, ее всю жизнь преследовал страх. Она не позволяла детям купаться в озере из страха, что они утонут; зимой не разрешала им кататься с горок на санях из страха, что они свернут себе шею; не разрешала им учиться бегать на коньках из страха, что они переломают ноги и навсегда останутся калеками. И при этом нещадно их колотила из страха, что они вырастут лентяями, или привыкнут врать, или не научатся бережно обращаться с вещами и будут все ломать и портить. В лени упрекнуть их было нельзя, но с вещами они и правда обращались как попало, сплошь и рядом что-то разбивали и ломали, потому что наперегонки носились по дому и выхватывали все друг у дружки. И разумеется, чуть ли не с пеленок дети привыкли врать. Врали все как один, даже самые маленькие, врали упоенно, изобретательно, часто без всякой надобности, просто для практики, а возможно – и для собственного удовольствия. Все они непрерывно ябедничали и доносили друг на дружку, у всех были свои секреты; между ними то и дело заключались и распадались временные союзы. С малых лет у них проявлялись инстинкты безжалостных, циничных политиков. Когда их пороли, они вопили во весь голос. О сохранении собственного достоинства речь не шла – о нем они давным-давно забыли, а скорее и не догадывались. Надо орать, если мать тебя бьет, иначе она вообще не остановится. Руки у тети Лины были длинные и по-мужски сильные, лицо во время порки принимало выражение глухой безудержной ярости. Но проходило пять минут или три – и дети начисто обо всем забывали. Окажись на их месте я, подобное унижение запомнилось бы мне надолго, может быть, навсегда.
У дяди Джеймса сохранился ирландский акцент, от которого наша мама избавилась полностью, а тетя Доди наполовину. Голос у него особенно теплел, когда он называл детей по имени: Мэ-э-ри, Ро-о-нальд, Ру-у-ти. Он произносил это нараспев, с такой нежной грустью и ласковым укором, словно не понимал, откуда в его жизни взялись детские имена и даже сами дети и не разыгрывает ли его кто-нибудь. Но он никогда не заступался за них, не пытался уберечь от побоев, не противоречил жене. Могло показаться, будто все это его не касается. Могло показаться, что и сама тетя Лина не имеет к нему никакого отношения.
Самый младший из детей спал в одной постели с родителями, пока на свет не появлялся очередной младенец, который занимал его место.
– Твой брат раньше частенько наведывался ко мне, – рассказывала тетя Доди маме. – Нам с ним было что вспомнить, было над чем посмеяться. Поначалу он и ребятишек приводил, то двоих,то троих, потом перестал. И я поняла почему: боялся, что матери наябедничают. А со временем и сам перестал появляться. В доме-то она всему голова. Но он тоже своего не упустит – согласна?
Вместо ежедневной газеты тетя Доди получала только еженедельную, которая печаталась в городке, где мы сошли с поезда.
– Смотри-ка, тут пишут про Аллена Дюрана! Помнишь, кто это?
– Аллен Дюран? – повторила мама с сомнением в голосе.
– Ну да. Он теперь важный человек в Холстейне[42]. Женился на девице из Вестов.
– А что о нем пишут?
– Что-то в связи с Ассоциацией консерваторов. Держу пари – он рассчитывает, что его выдвинут. Точно, вот увидишь.
Она сидела в старой качалке, скинув башмаки, и посмеивалась. Мама сидела рядом, прислонившись спиной к деревянному столбу, на котором держалась крыша веранды. Они резали стручковую фасоль, чтобы закрутить в банки на зиму.
– Я вспоминаю, как мы его лимонадом напоили, – сказала тетя Доди и, повернувшись ко мне, пояснила: – Он тогда был совсем молоденький, приезжал на заработки, проводил у нас на ферме пару недель. Обычный парень, французский канадец.
– Ничего в нем французского не было, кроме фамилии, – сказала мама. – Он и говорить-то по-французски не умел.
– Теперь его не узнать. Он и религию сменил – в нашу церковь ходит, Святого Иоанна.
– Он всегда был неглуп.
– Да уж, это точно. Неглуп-то неглуп, но с лимонадом мы тогда над ним здорово подшутили. Вообрази себе, – тут тетя обратилась ко мне, – разгар лета, жарища несусветная. Нам-то ничего, мы с твоей мамой самую жару могли в доме пересидеть. А вот Аллену приходилось тяжко: он на сеновале вкалывал. Мой папаша возил сено с поля, а растрясать и ворошить должен был Аллен. По-моему, и Джеймса тогда звали помочь.
– Джеймс работал на погрузке, подавал сено снизу, – уточнила мама. – А твой отец нагружал подводу, утрамбовывал и отвозил.
– Вот я и говорю – Аллена определили на сеновал. Ты представить себе не можешь, что там творится в такое пекло. Просто ад кромешный. Вот мы с твоей мамой и решили отнести ему лимонаду. Нет, погоди, я что-то забегаю вперед. Сперва надо сказать про комбинезон. В середине дня мужчины делали перерыв, и вот, когда все уже садились за стол обедать, подходит ко мне Аллен, протягивает свой рабочий комбинезон и просит его подлатать – что-то там порвалось или по шву разъехалось. Так или иначе, ему с утра до самого обеда пришлось работать в старых брюках от костюма и в рубашке, он чуть не помер. Ну, рубашку-то он, наверно, во время работы мог скинуть. Ясное дело, в комбинезоне способней, все-таки воздух хоть чуть холодит. Видно, парню уже совсем стало невмоготу, если он решился меня попросить, он вообще-то был страшно застенчивый. Это сколько же ему тогда было?
– Семнадцать, – сказала мама.
– А нам с тобой по восемнадцать. Да, точно, ты на другой год уехала учиться. Короче, я взяла его балахон и стала зашивать, там была какая-то ерунда, на пару минут работы. Сижу я за швейной машинкой, там же на кухне, в углу, а ты обед подаешь. И тут меня осенило. Помнишь, я тебя окликнула, попросила подойти подержать мне материю ровно. А на самом деле я хотела тебе показать, что придумала. Только смеяться вслух было нельзя, мы даже переглянуться боялись – помнишь?
– Помню, помню.
– Потому что я надумала… зашить ему ширинку! Наглухо! Ну вот, все отобедали, снова взялись за работу, и тут нам пришла в голову идея насчет лимонада. Приготовили мы целых два ведра. Одно отнесли мужчинам на покос – поставили под дерево и крикнули им, чтобы пили, – а со вторым поднялись на сеновал и вручили Аллену. На этот лимонад мы извели все лимоны, какие были в доме, и еще уксуса добавили для крепости. Но даже если вышло слишком кисло, он бы все равно не заметил, до того ему хотелось пить. В жизни не видела человека, у которого была бы такая зверская жажда. Он зачерпывал ковшик за ковшиком, выпивал одним глотком, а под конец поднял ведро, запрокинул голову и допил все до дна, до последней капельки. А мы обе стояли и смотрели. И как мы только удержались, ничем себя не выдали?
– Ума не приложу, – откликнулась мама.
– Так вот, забрали мы пустое ведро, отнесли домой, выждали пару минут, а потом тихонько прокрались и спрятались в сарае рядом с сеновалом. Там тоже было пекло, не знаю, как мы не задохнулись. Короче говоря, уселись мы на мешки с комбикормом, вплотную к стене, нашли себе каждая по щелочке между досок или по дырке от сучка и давай смотреть во все глаза. Мы знали, что по малой нужде мужчины ходят в один и тот же угол амбара. Там к стене был приколочен желоб для дождя, вот они им и пользовались – это если работали наверху. А когда работали внизу, в коровнике, то скорее всего писали прямо в канаву для навоза. И вот проходит несколько минут – смотрим, Аллен направляется в тот самый угол. Бросил вилы и прямиком шагает в ту сторону, а рукой держится за причинное место. С нас обеих пот лил ручьем – и жара, и смех душит, а смеяться-то нельзя. Такие две заразы бессердечные! Аллен поначалу не особо спешил, но потом его, видать, совсем приперло, невтерпеж стало. Он засуетился, стал тянуть, дергать туда-сюда, никак не возьмет в толк, чт там заело. Но я сработала на совесть, застрочила все крепко-накрепко. Кстати, как ты думаешь, когда до него наконец дошло?
– Думаю, быстро. Он ведь был не дурак.
– Да уж, ума ему было не занимать. Сообразил, что к чему, понял, чьи это проделки: не зря его девчонки лимонадом поили! Только одного не мог предположить: что мы спрячемся в сарае и будем оттуда шпионить за ним. Иначе он бы, наверно, не посмел.
– Точно бы не посмел, – решительно подтвердила мама.
– А впрочем… кто его знает? Может, он просто до ручки дошел, когда уже на все плевать. Короче, рванул он на себе этот несчастный комбинезон, содрал его к чертовой бабушке – и такую струю пустил! А нам открылась вся картина.
– Неправда! Он к нам спиной стоял!
– Нетушки. Не спиной, а вполоборота. И все его хозяйство оказалось на виду. Целиком и полностью. Все как на ладони.
– Что-то я не помню…
– А я так очень даже помню. Такое не скоро забудешь.
– Доди! – укоризненно сказала мама, хотя, честно говоря, с предупреждением она безнадежно опоздала. (У нее было еще одно любимое присловье: «Я не выношу непристойностей».)
– Да уж помолчала бы! Что ж ты сидела, как приклеенная? Тебя силком было не оттащить от стенки!
Мама переводила взгляд с тети Доди на меня и обратно, и на лице у нее появилось непривычное выражение беспомощности. Она изо всех сил старалась подавить смех, но было видно: еще чуть-чуть – она не выдержит и расхохочется.
Начало болезни мало заметно; могут пройти годы, прежде чем пациент или его близкие обратят внимание на признаки недомогания. Болезнь выражается в постепенном повышении мышечного тонуса (естественного напряжения), сопровождающемся дрожанием головы и конечностей. Наблюдаются также тик, подергивание, мышечные спазмы и другие неконтролируемые симптомы. Слюноотделение увеличивается, нередко отмечается слюнотечение из углов рта. Научное название болезни – paralysis agitans; более известна как болезнь Паркинсона, или дрожательный паралич. Типичным для болезни является дрожание, начинающееся с пальцев рук и переходящее на всю руку, затем на ногу с той же стороны, позднее на другую руку и ногу. Лицо теряет обычную подвижность, мимика ослабевает или исчезает полностью, лицо становится маскообразным. Болезнь поражает по преимуществу людей пожилого возраста, от шестидесяти лет и старше. Случаи полного выздоровления неизвестны. Лечение симптоматическое, проводится с целью устранить или уменьшить дрожание и чрезмерное слюноотделение. Однако стойкого эффекта лекарственная терапия не дает. («Энциклопедия медицины и здоровья Фишбейна».)
В то лето маме было едва за сорок, сорок один или сорок два, примерно столько же, сколько сейчас мне самой. И у нее только начиналось это самое дрожание. Дрожали в основном пальцы левой руки, меньше сама рука, от кисти до локтя. Большой палец все время постукивал по ладони. Мама пыталась спятать его, складывала пальцы в кулак, а локоть поплотнее прижимала к телу.
После ужина дядя Джеймс пил портер – темное пиво, чуть горьковатое на вкус: он и мне дал попробовать. Тут я нашла еще одно противоречие. Мама мне когда-то говорила: «Перед тем как выйти замуж, я взяла с твоего отца обещание, что он капли в рот не возьмет. И он свое слово сдержал». Но муж – одно, а брат – совсем другое, так что дядя Джеймс мог пить в свое удовольствие и ни перед кем не отчитываться.
В субботу мы всей компанией съездили в город: мама и сестренка с тетей Доди в ее машине, а меня посадили в машину к дяде Джеймсу, вместе с тетей Линой и всеми их отпрысками. Дети немедленно предъявили на меня свои права. Я была уже большая девочка, старше их всех, и они наперебой соперничали за мое внимание, как за военный трофей, толкаясь и перекрикивая друг дружку.
Автомобиль у дяди Джеймса был большой, старый, с квадратной крышей, как тети-Додин. По дороге домой всем стало жарко, пришлось опустить оконные стекла, и тут дядя Джеймс вдруг запел.
Голос у него был замечательный – печальный, задушевный. Как сейчас помню мелодию песни и самый звук дядиного голоса, разносившийся далеко в темноту. Но слова в памяти не удержались. Остались отдельные, не связанные между собой отрывки, хотя я много раз пробовала вспомнить всю песню – так она мне тогда понравилась. Кажется, вначале говорилось про какие-то горы, где бродит герой, потом шла жалоба – его за что-то посадили в тюрьму, а под конец перечислялись разные людские пристрастия: кому-то по нраву одно, кому-то другое… Самые последние строчки звучали решительно, но в то же время грустновато:
- Один рыбак, другой игрок, у третьих бой в чести,
- А мне милее вечерок за кружкой провести.
В машине, пока он пел, стояла тишина. Ребята перестали ерзать и получать подзатыльники, кое-кто успел задремать. Тетя Лина с грудным младенцем на коленях превратилась в безмолвный темный силуэт. Автомобиль несся вперед, подпрыгивая на рытвинах, и казалось, что дороге нет конца, что мы будем ехать и ехать в полной тьме, видя перед собой только зыбкую полосу света от фар. На дорогу внезапно выскочил кролик и тут же пустился наутек, но никто не крикнул, не свистнул ему вслед, никто не посмел прервать песню, нарушить ее нежную, унывную печаль:
- А мне милее вечерок за кружкой провести…[43]
В церковь мы приехали загодя, потому что хотели успеть зайти на кладбище. Церковь Святого Иоанна была недалеко от шоссе – белая, деревянная, а за ней церковный погост. Мы постояли у двух могильных плит; на одной сверху было написано «Мать», на другой «Отец», а ниже шли имена и даты жизни покойных маминых родителей. Две небольшие плоские плиты, наполовину скрытые травой, напоминали каменные плитки, которыми мостят улицы.
Мы с сестренкой пошли дальше и обнаружили памятники поинтереснее – траурные урны, фигуры в молитвенных позах, барельефы с изображением ангелов.
Вскоре к нам присоединились и мама с тетей Доди. Тетя Доди махнула рукой в сторону пышных надгробий:
– Кому нужны все эти финтифлюшки?
Сестренка, которая в то время училась читать, стала разбирать надписи на памятниках: Приидет день… Не умер, но почил… In pacem…[44]
– А что значит pacem?
– Это латынь, – уважительно пояснила мама.
– Я знаю одно: люди хотят перещеголять друг друга, платят огромные деньги, а потом годами не могут с долгами развязаться. Многие еще участок под могилу не успели выкупить, а за сам памятник выплачивать вообще не начинали. Вот взгляни-ка на это чудо.
И она указала пальцем на огромный гранитный куб, серовато-синий, с белыми вкраплениями, как на эмалированной кастрюле. Он каким-то непостижимым образом держался на одном углу.
– Современный стиль, – рассеянно заметила мама.
– Вдова Дейва Маккола поставила. Утес, а не могильный камень. Кстати, ее предупредили: если срочно не рассчитается за землю, останки выкопают и выкинут прямо на шоссе.
– Разве это по-христиански? – возмутилась мама.
– Кое-кто христианского обращения не заслуживает, вот что я тебе скажу.
И тут я почувствовала, что у меня под платьем лопнула резинка от трусиков. Я еле успела подхватить их руками – на бедрах они бы не удержались, бедер у меня тогда практически не было.
– У тебя есть английская булавка? – сердито шепнула я маме.
– Зачем тебе английская булавка? – поинтересовалась мама – и не шепотом, а в полный голос, даже громче обычного. Увы, в подобных ситуациях мама вела себя на удивление бестактно.
Я молчала и только кидала на нее испуганные, умоляющие взгляды.
– У нее, наверно, резинка на трусах лопнула! – со смехом предположила тетя Доди.
– Действительно лопнула? – строго спросила мама, по-прежнему не понижая голоса.
– Да.
– Ну так сними их совсем!
– Только не здесь, – вмешалась тетя Доди. – Сбегай в уборную.
За церковью, как на задах сельской школы, стояли два деревянных домика известного назначения.
– Но тогда же на мне ничего не будет! – вознегодовала я. Как можно войти в церковь в нарядном платье из голубой тафты – и без трусиков?! Сесть на церковную скамью, прямо на прохладные доски, потом вставать, когда начнут петь гимны, садиться снова – и все это без трусов? Стыд-то какой!
Тем временем тетя Доди рылась у себя в сумочке.
– Я бы тебя выручила, одолжила булавку, да вот нету у меня ни одной. Давай беги быстренько, сними их от греха подальше, никто ничего не заметит. Хорошо хоть ветра сегодня нет.
Я упрямо стояла и не двигалась с места.
– Вообще-то булавка у меня есть, – сказала мама с сомнением в голосе. – Но она мне самой нужна. Я утром торопилась одеться, одна бретелька на комбинации оборвалась, я ее приколола булавкой. И как же я теперь отколю?
В то воскресенье на маме было платье из тонкой, почти прозрачной светло-серой материи в мелкий цветочек – цветочки на светлом фоне казались выпуклыми, как вышитые, – а под низ она надела комбинацию, тоже серенькую, чтобы платье не просвечивало. Шляпка на ней была бледно-розовая, украшенная искусственными розочками под цвет самой шляпки. Длинные перчатки были тоже розовые, а туфли белые, с открытыми носами. Весь этот праздничный убор мама привезла с собой из дома и, я думаю, долго и тщательно подбирала одно к другому, чтобы появиться в знакомой церкви при полном параде. Может быть, ей заранее виделось вот такое солнечное воскресное утро и слышался перезвон колоколов, которые в эту минуту звонили над нами. Должно быть, она все спланировала заблаговременно, представила, какое впечатление произведет: я сама теперь нередко планирую свой выход «в свет», прикидываю, что лучше надеть и как я буду выглядеть.
– Понимаешь, не могу я просто взять и отколоть булавку: комбинация вылезет из-под платья, неудобно.
– Народ уже заходит в церковь, – напомнила тетя Доди.
– Не упрямься, добеги до туалета, сними ты эти несчастные трусики. А нет, так иди посиди в машине, подожди, пока кончится служба.
Я повернулась и направилась к машине. Но не успела я пройти и полдороги до ворот, как мама меня окликнула и сделала знак идти за ней. Мы вместе закрылись в деревянной уборной, и там, не говоря ни слова, она просунула руку под ворот платья, отстегнула булавку и подала мне. Я была так поглощена своей бедой и так уверена в законности своих требований, что даже спасибо ей не сказала, а просто повернулась спиной и дрожащими руками сколола верхний край трусиков. Мама вышла наружу, я за ней, мы обогнули церковь и заспешили к главному входу. И все равно опоздали: люди уже успели зайти внутрь. Пришлось ждать, пока церковный хор в полном составе, в сопровождении священника, чинно проследует по проходу между рядами скамей.
Наконец певчие заняли свои места, священник повернулся к прихожанам, и тут мама решительно двинулась вперед, к тому месту, где сидели тетя Доди и моя сестренка. Торопясь следом за мамой, я заметила, что серая комбинашка с одного боку торчит из-под платья на добрых полдюйма. Это и правда выглядело неряшливо.
После службы мама встала и повернулась ко всем. Завязался оживленный разговор. Люди спрашивали, как зовут меня и сестренку, спорили, кто из нас больше похож на маму; один дяденька заметил: «А вот эта девчушка в свою бабку пошла!» Спрашивали, сколько лет мне, сколько сестре, в каком я классе учусь, скоро ли в школу младшей. Когда этот вопрос задали ей самой, она под общий смех заявила: «Я в школу ходить не буду!» (Ее слова вообще часто принимали за шутку, хотя она вовсе не думала шутить, а просто не по возрасту самоуверенно высказывалась на разные темы, не всегда понимая, о чем речь. И сейчас она всерьез считала, что ходить в школу ей не придется: ближайшую к нам начальную школу недавно снесли, и мы еще не успели объяснить сестренке, что она будет ездить на автобусе в другую.)
Раза два-три незнакомые обращались ко мне: «Угадай-ка, кто меня учил, когда я сам в школу ходил? Твоя мама!»
– Лично меня она мало чему смогла научить, – признался какой-то потный дядька, с которым маме явно не хотелось здороваться за руку, – но одно скажу: такой красивой учителки у меня в жизни не было!
– Ну как? Заметна была комбинация?
– Нет, конечно. Тебя же спинка скамейки заслоняла.
– А раньше? Когда я по проходу шла?
– Никто ничего не заметил, успокойся. Все стояли лицом к алтарю и пели.
– Все-таки кто-то мог…
– Да брось ты. Меня другое удивило: почему Аллен Дюран не подошел, не поздоровался хотя бы?
– А он там был?
– Ты что, не видела? Сидел на семейной скамейке Вестов, прямо под новым витражом, они его подарили церкви в память о жениных родителях.
– Нет, не видела. И жена с ним была?
– А как же! Ее-то трудно было не заметить. Разодета в пух и прах. Вся в голубом, а шляпа что у телеги колесо. Кстати, и ты сегодня здорово прифрантилась – любой дашь сто очков вперед!
Сама тетя Доди тоже принарядилась: на голову водрузила темно-синюю соломенную шляпу с поникшими матерчатыми цветами и надела свое лучшее платье из искусственного шелка с застежкой спереди.
– Может быть, он меня не узнал. Или просто не заметил.
– Как он мог тебя не заметить? Ты что?
– Ну мало ли…
– Прямо красавец стал, такой высокий, статный. Если идешь в политику, на внешность смотрят первым делом. Особенно на рост. Коротышек на важные посты не выбирают.
– А Маккензи Кинга[45] забыла?
– Я имею в виду здешних политиков, местных. Между прочим, если бы Маккензи Кинг выдвигался в наших округах, мы бы его нипочем не выбрали.
– У твоей мамы был удар. Небольшой. Она не признаётся, но я-то вижу. У меня глаз наметан. Не с ней первой такое приключается. Удар небольшой, это верно, но он может повториться – и раз, и второй. А в один прекрасный день глядишь – и хватит настоящий удар. И тогда, учти, тебе придется самой за ней ходить, как за ребенком. У меня так и было. Моя мать слегла, когда мне было десять. А умерла, когда мне стукнуло пятнадцать. И за эти пять лет чего я только с ней не натерпелась! Ее всю раздуло по-страшному, у нее была такая хворь – водянка. Один раз со «скорой» приехали, так из нее прямо ведрами откачивали.
– Что откачивали?
– Жидкость. Она старалась по силе возможности сидеть, часами просиживала в кресле, ложилась, когда делалось совсем невмоготу. А лежать надо было все время на правом боку, чтобы жидкость ей на сердце не давила. Разве это жизнь? У нее начались пролежни, мучилась она просто ужасно. И один раз утром попросила: Доди, пожалуйста, поверни меня на другой бок, не могу я больше лежать на одном, поверни хоть ненадолго, устала, мочи нет. Уж так она меня просила, умоляла. Ну, я и уступила. Взяла ее за плечи, с трудом сдвинула – она была тяжеленная, неподъемная. Повернула я ее, положила на левый бок, где сердце, – и в тот же миг она умерла. Ну и чего ты плачешь, дурочка? Я не хотела тебя расстраивать. Выходит, ты еще маленькая и глупая, если боишься слушать про жизнь.
Она смеялась надо мной, пыталась меня развеселить. А я молча смотрела на ее смуглое, с резкими чертами лицо, на широко раскрытые, пылавшие горячечным огнем глаза. Голову она в тот день повязала разноцветной косынкой и внезапно показалась мне похожей на цыганку: коварная и обольстительная, она грозилась обрушить на меня тайны, справиться с которыми мне было бы тогда не по плечу.
– Мам, у тебя был удар? – спросила я угрюмо.
– Что?
– Тетя Доди говорит, что у тебя был удар.
– Да ничего подобного. Я же ей объясняла. И доктор подтвердил: не было никакого удара. А твоя тетя Доди – она все знает лучше всех. Разбирается лучше любого доктора.
– А когда-нибудь потом у тебя будет удар?
– С какой стати? У меня давление низкое, а удары случаются при высоком давлении.
– А чем-нибудь еще ты не можешь заболеть? – продолжала я допытываться. Я обрадовалась, что удар маме не грозит, и сразу успокоилась: значит, мне не придется за ней ходить, как за ребенком, мыть ее, обтирать, кормить с ложечки прямо в постели, как было у тети Доди с ее матерью. Во мне всегда сидела уверенность, что мама все решает сама и самостоятельно может выбрать, чем ей болеть. И всю ее жизнь, до последнего дня, наблюдая за происходившими в ней переменами, услышав медицинский диагноз ее недуга, я пребывала в убеждении, что она сама дала согласие, сама сделала выбор. Из каких-то своих соображений. Не знаю, что именно ею руководило. Желание порисоваться? Кого-то проучить? Или просто хотелось заставить всех теряться в догадках?
На мой вопрос в тот день она не ответила и продолжала как ни в чем не бывало идти вперед. Мы шли от дома тети Доди к дяде Джеймсу – шли короткой дорогой, через пастбище, изрытое коровьими копытами: так можно было добраться быстрее.
– А рука у тебя перестанет дрожать? – не унималась я, отчаянно добиваясь ответа. Я надеялась, что она обернется и пообещает сделать так, как я прошу.
Но она не обернулась. Она осталась непреклонна, впервые в жизни не пожелала мне уступить. И по-прежнему шагала вперед, словно и не слышала моих слов. Знакомая до мелочей мамина фигура вдруг начала отдаляться, отделяться от меня, постепенно темнея, теряя очертания, превращаясь во что-то чужое, безразличное. Но в то же время я видела, что мама продолжает идти по тропинке, которую они с тетей Доди протоптали через пастбище еще девчонками, когда вместе росли и постоянно бегали друг к дружке. Удивительно, что за столько лет она не заросла.
Однажды вечером мама с тетей Доди сидели на веранде и вспоминали стихи, которые учили в школе. Не помню, с чего все началось; вероятно, кто-то вспомнил известную хрестоматийную строчку, кто-то другой подхватил… Дядя Джеймс тоже присутствовал – стоял, прислонившись к перилам, и курил трубку. По случаю нашего визита он нарушил запрет и пришел сам.
- И смерти нет почетней той, –
продекламировала тетя Доди бодрым голосом, –
- Чем ты принять готов
- За пепел пращуров твоих,
- За храм твоих богов[46].
- Так целый день гром битвы грохотал, –
продолжила мама, –
Тут мамин голос подозрительно дрогнул, и я обрадовалась, когда тетя Доди ее перебила:
– Боже, до чего они печальные, все эти стихи из старых школьных учебников!
– А я что-то ничего оттуда не помню, – заметил дядя Джеймс. – Хотя, пожалуй… – И тут же прочел без запинки:
- Оделась роща за рекой
- В багряный с золотом наряд,
- И крики сойки день-деньской
- В притихшем воздухе звучат.
– Молодец! – похвалила его тетя Доди, и все трое – она, мама и дядя Джеймс – хором закончили:
- Тускнеет солнце, вянет луг,
- Туман клубится вдоль болот,
- И стаи птиц, спеша на юг,
- Вершат осенний перелет[50].
– По правде говоря, тут тоже чувствуется какая-то печаль, – подвела итог тетя Доди.
Если бы я задалась целью сочинить рассказ по всем правилам, то скорее всего закончила бы эпизодом на пастбище, когда мама не удостоила меня ответом, а просто шла и шла вперед. Тут бы и поставить точку. Но мне хотелось вспомнить как можно больше, отыскать какие-то отгадки, порыться в памяти, вытащить на свет все, что хранилось там все эти годы. И теперь, бросая последний взгляд на то, что получилось, я вижу набор моментальных снимков, сделанных старым фотоаппаратом, какой был у моих родителей: на коричневатом фоне, с фестончиками по краям. На этих снимках все семейство – и тетя Доди, и дядя Джеймс, и даже тетя Лина с ребятишками – получилось вполне узнаваемо. (Все они уже на том свете, кроме детей, которые, кстати, выросли порядочными, работящими людьми: насколько мне известно, среди них нет ни преступников, ни неврастеников.) Осталась одна-единственная загадка: моя мама. А мне, разумеется, важнее всего именно она. Разобраться, добраться до нее – это и была цель моего долгого путешествия в прошлое. Чего я хотела? Отделить ее от других, описать, высветить, воспеть – и наконец избавиться от памяти о ней. Но у меня ничего не вышло: она по-прежнему на первом плане, она, как раньше, заслоняет и оттесняет всех, подавляет всё и вся своей тяжестью. И в то же время ее трудно рассмотреть, контуры размываются, тают. И я понимаю: она не утратила связь со мной, она не желает меня отпускать, и я могу сколько угодно биться, использовать все испытанные приемы, изобретать все новые и новые уловки – и ничего не изменится, все останется так же, как было.