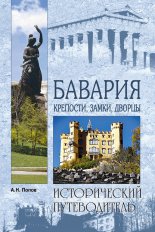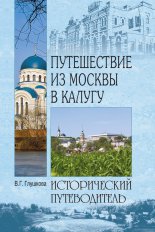Жизнь Шарлотты Бронте Гаскелл Элизабет

Все вместе составляет двадцать два тома.
Ш. Бронте, 3 августа 1830 годаПоскольку каждый том содержит от шестидесяти до ста страниц и размер приведенной здесь страницы намного меньше среднего, общий объем сочинений оказывается очень велик, особенно если мы припомним, что все это было написано примерно за пятнадцать месяцев. Это то, что касается количества. Что же до качества, то оно представляется мне удивительным для девочки тринадцати-четырнадцати лет. Я позволю себе привести отрывок из четырехтомных «Рассказов об островитянах», как образчик стиля ее прозы этих лет и фрагмент, открывающий нам картину тихой домашней жизни, которую вели эти дети.
12 марта 1829 года
Игра в «Островитян» началась в декабре 1827 года, и произошло это следующим образом. Однажды вечером, в то время когда мокрый снег и унылый ноябрьский туман чередовались с метелями и пронизывающие ночные ветры доказывали, что зима уже пришла, мы все сидели вокруг ярко горевшей печи на кухне. Мы только что поспорили с Тэбби о том, следует или нет зажечь свечу, и она вышла из этого спора победительницей: свеча зажжена не была. Последовало продолжительное молчание, которое наконец прервал Брэнвелл, сказавший лениво: «Не знаю, чем заняться». То же, как эхо, повторили Эмили и Энн.
Тэбби. А в кровать отправиться ты не хочешь?
Брэнвелл. Нет, я бы чем-нибудь другим занялся.
Шарлотта. Тэбби, почему ты сегодня такая сердитая? Давайте-ка мы представим, что у каждого из нас есть собственный остров.
Брэнвелл. В таком случае я бы выбрал остров Мэн.
Шарлотта. А я бы – остров Уайт.
Эмили. Мне бы подошел остров Арран.
Энн. А я хочу Гернси.
Затем мы выбрали тех, кто будут самыми главными на наших островах. Брэнвелл выбрал Джона Буля, Эстли Купера и Ли Ханта; Эмили – Вальтера Скотта и мистера Локхарта; Энн – Майкла Сэдлера, лорда Бентинка, сэра Генри Халфорда. Я же выбрала герцога Веллингтона и его двух сыновей, Кристофера Норта с компанией и мистера Эбернети53. Здесь разговор был прерван печальным для нас боем часов, отсчитывавших семь, и мы отправились спать. На следующий день мы добавили еще многие имена в наш список, пока не перебрали почти всех известных людей королевства. После этого в течение долгого времени ничего примечательного не происходило. В июне 1828 года мы построили на вымышленном острове школу аж на тысячу учеников. Строительство осуществлялось следующим образом. Периметр острова составлял пятьдесят миль, и весь он был скорее результатом колдовства, чем реальностью…
Две вещи поражают меня больше всего в этом отрывке: во-первых, удивительная наглядность, с которой описано и время года, и вечерний час в доме, и ощущение, что снаружи холодно и темно, завывания ночного ветра, проносящегося по занесенным снегом вересковым пустошам и приближающегося к деревне, и, наконец, дрожание двери в комнату – вот она распахивается, открывая взгляду темную, безвидную пустыню, – и контраст, который эта картина составляет с ярким, пылким, радостным сиянием, охватившим кухню, где собрались эти чудесные дети. Тэбби расхаживает по кухне в своем странном деревенском наряде, бережливая, властная, примечающая малейшую ошибку, но при этом, будьте уверены, никогда не позволяющая другим ругать своих подопечных. И еще одно примечательное обстоятельство – это то, с какой сознательной политической симпатией они выбирают «великих людей»: почти все названные деятели известны твердой приверженностью партии тори. Более того, дети не ограничиваются симпатиями к местным героям. Их выбор гораздо шире, и они слышали о тех, кто обычно не попадает в сферу внимания ребенка. Маленькая Энн – ей едва исполнилось восемь лет – выбирает в качестве правителей своего острова современных политиков.
От того же времени сохранился еще один листок бумаги, на котором весьма неразборчивым почерком сделана запись, способная дать представление об источнике их симпатий.
ИСТОРИЯ 1829 ГОДАОднажды папа дал моей сестре Марии книгу. Это была старая книга по географии. Она написала в ней на чистой странице: «Папа дал мне эту книгу». Книге было сто двадцать лет. Сейчас она лежит передо мной. Я пишу эти строки на кухне в пасторском доме в Хауорте. Тэбби, наша служанка, моет посуду после завтрака, а Энн, моя самая младшая сестра (Мария была самая старшая), стоит на коленках на стуле и смотрит на пироги, которые Тэбби печет для нас. Эмили сейчас в гостиной, она подметает ковер. Папа и Брэнвелл уехали в Китли. Тетушка наверху, в своей комнате, а я сижу за столом на кухне и пишу. Китли – это маленький городок в четырех милях отсюда. Папа и Брэнвелл отправились за газетой «Лидс интеллидженсер» – это самая лучшая газета тори, ее редактирует мистер Вуд, а ее владелец – мистер Хеннеман. Мы получаем две, а просматриваем три газеты в неделю. Мы получаем «Лидс интеллидженсер» – газету тори, а также «Лидс меркюри» – газету вигов, которую редактируют мистер Бейнс, его брат, его зять и два его сына, Эдвард и Тэлбот. А просматриваем мы «Джон Буль» – истинное издание тори, очень резкое в суждениях. Нам ее одалживает мистер Драйвер вместе с «Блэквудс мэгэзин» – самым популярным здесь журналом54. Ее редактор – мистер Кристофер Норт, старик семидесяти четырех лет, у него день рождения 1 апреля, а его компания – это Тимоти Тиклер, Морган О’Догерти, Макрабин Мордекай, Муллион, Уорнелл и Джеймс Хогг, удивительно гениальный человек, он шотландский пастух. Мы поставили следующие пьесы: «Молодые люди» (июнь 1826 г.), «Наши друзья» (июль 1827 г.), «Островитяне» (декабрь 1827 г.). Это три наши самые лучшие пьесы, которые мы ни от кого не скрываем. Еще у меня и у Эмили есть «кроватные» пьесы, которые поставлены 1 декабря 1827 года, а другие в марте 1828 года. «Кроватные» пьесы – значит секретные, они очень хорошие. Все наши пьесы очень странные. Я их не буду описывать на бумаге, потому что я их никогда не забуду. «Молодые люди» – пьеса, которая получилась из деревянных солдатиков, они есть у Брэнвелла. «Наши друзья» – из Эзоповых басен. А «Островитяне» – от разных событий. Я попробую описать происхождение наших пьес поподробнее. Во-первых, «Молодые люди». Папа купил Брэнвеллу в Лидсе деревянных солдатиков. Когда папа вернулся домой, была уже ночь и мы лежали в постелях. А на следующее утро Брэнвелл принес к нашей двери коробку с солдатиками. Мы с Эмили выскочили из кроватей, я их схватила и воскликнула: «Это герцог Веллингтон! Вот этот будет герцогом!» Когда я это сказала, Эмили тоже взяла одного из солдатиков и объявила, что этот будет ее герой. Тогда подбежала Энн и тоже сказала, что один из солдатиков будет ее героем. Но мой самый красивый из всех, самый высокий, самый лучший во всей коробке. А у Эмили какой-то печальный, и мы назвали его Печалькиным. А у Энн солдатик маленький и чудной, как она сама, и мы его назвали Ждущим Мальчиком. А Брэнвелл тоже выбрал себе солдатика и назвал его Буонопарте.
Этот отрывок показывает, что именно читали маленькие Бронте. Но их жажда знаний не ограничивалась чтением газет и распространялась на многие другие вещи, о чем свидетельствует найденный мной «Список художников, чьи работы я хотела бы увидеть», составленный Шарлоттой, когда ей было тринадцать лет: «Гвидо Рени, Джулио Романо, Тициан, Рафаэль, Микеланджело, Корреджо, Аннибале Каррачи, Леонардо да Винчи, фра Бартоломео, Карло Чиньяни, Ван Дейк, Рубенс, Бартоломео Раменги».
Маленькая девочка в далеком йоркширском пасторате, которая, по всей вероятности, ни разу в жизни не видела ничего достойного называться живописью, изучает жизнеопсания старых итальянских и фламандских мастеров, чьи работы она хотела бы когда-нибудь, в отдаленном туманном будущем увидеть! Сохранилась рукопись, содержащая записи на память и критические замечания, касающиеся гравюр в «Предложении дружбы» за 1829 год55. Они показывают, как рано сформировались у Шарлотты те способности к пристальному наблюдению и терпеливому анализу причин и следствий, которые впоследствии сослужили верную службу ее гению.
То обстоятельство, что мистер Бронте приобщил детей к своим политическим интересам, помогло им избежать умственной ограниченности, которой отмечены все, кто занят одними только местными сплетнями. Я приведу единственный сохранившийся личный фрагмент из «Рассказов островитян»: он помещен во введении ко второму тому и содержит извинение за то, что истории не получили своевременного продолжения, поскольку писатели были в течение долгого времени слишком заняты, а в последнее время слишком увлеклись политикой.
Началась сессия парламента, где был поставлен великий католический вопрос56 и были раскрыты меры, предпринятые герцогом, – и все обернулось клеветой, насилием, предвзятостью и смятением. Ах, эти шесть месяцев, со времени королевской речи и до конца! Никто не мог писать, думать или говорить ни о чем, кроме католического вопроса, герцога Веллингтона и мистера Пиля. Я припоминаю день, когда вышел номер «Интеллидженс экстродинари» с речью мистера Пиля: ставились условия, при которых католики могли быть допущены. Папа нетерпеливо разорвал конверт, мы все сгрудились вокруг него и стали слушать, затаив дыхание. Подробности дела раскрывались и объяснялись одна за другой превосходнейшим образом. Когда все было прочитано, тетушка сказала, что все устроилось просто замечательно и при таких мерах безопасности католики не смогут навредить. Помню также, что нас одолевали сомнения: будет ли этот закон утвержден палатой лордов, и кое-кто предсказывал, что не будет. Когда же пришла газета, в которой содержалось решение, то беспокойство, с каким мы слушали ее чтение, было поистине ужасным. Вот открываются двери, наступает тишина. Входят члены королевской семьи в своих мантиях и великий герцог в камзоле с зеленой орденской лентой. Все собравшиеся встают. Он произносит речь – папа говорит, что его слова были как драгоценное золото. И наконец большинством голосов – один к четырем (sic!) – принимается билль. Но это было отступление…
Шарлотта написала это, когда ей не исполнилось еще четырнадцати лет.
Думаю, читателям было бы интересно узнать, чем отличались в это время ее чисто художественные, то есть представляющие собой плод воображения, произведения. Как мы уже убедились, описания реальных вещей и событий получались у Шарлотты подробными, наглядными и весьма убедительными. Когда же она давала волю воображению, ее фантазия и язык становились необузданными, дикими и странными, доходя временами чуть ли не до галлюцинаций. Чтобы в этом удостовериться, достаточно привести один пример. Вот письмо, которое она направила редактору «Литл мэгэзин».
Сэр!
Как известно, Гении провозгласили, что если они не будут ежегодно выполнять некоторые из своих тяжких обязанностей – таинственных обязанностей! – то все миры в небесных сферах будут сожжены, после чего соберутся в один могущественный шар, который в величественном одиночестве начнет вращаться в огромной пустой Вселенной, населенной только четырьмя принцами Гениев, до тех пор, пока время не уступит свое место Вечности. Дерзость этого заявления сопоставима только с другим их утверждением, а именно что с помощью своих чар они способны обратить весь мир в пустыню, чистейшие Воды – в потоки синевато-багрового яда, яснейшие озера – в стоячие болота, смертоносные пары которых лишат жизни все живые существа, за исключением кровожадных лесных зверей и ненасытных горных птиц. Однако посреди этого опустошения воздвигнется сверкающий дворец Верховного Гения, и леденящий кровь военный клич будет разноситься по всей земле и утром, и в полдень, и ночью. Каждый год они станут справлять тризну над костями мертвых и каждый год праздновать победы. Я думаю, сэр, что нечестие этих дел не нуждается в пояснениях, и потому спешу подписаться…
14 июля 1829 года
Не исключено, что приведенное письмо могло иметь некий аллегорический или политический смысл, скрытый от нас, но вполне понятный тем чудным выдумщикам, которым адресовался. Политика явно входила в число их главных интересов, а герцог Веллингтон был их кумиром. Все к нему относящееся несло на себе отпечаток героической эпохи. Если Шарлотте требовался для ее писаний странствующий рыцарь или преданный возлюбленный, то маркиз Доуро или Чарльз Уэлсли всегда были к ее услугам57. Едва ли можно найти какое-либо ее прозаическое сочинение того времени, в котором они не оказались бы главными героями и где их «августейший отец» не появлялся бы как Юпитер-громовержец или как «бог из машины».
Чтобы показать, насколько Уэлсли занимали ее воображение, я перепишу несколько названий ее произведений из разных журналов:
«Замок Лиффи» – рассказ лорда Ч. Уэлсли;
«Пути к реке Арагуа» – сочинение маркиза Доуро;
«Необыкновенная мечта» – сочинение лорда Ч. Уэлсли;
«Зеленый карлик, рассказ совершенного вида» – сочинение лорда Чарльза Альберта Флориана Уэлсли;
«Странные события» – сочинение лорда Ч. А. Ф. Уэлсли.
Жизнь в далекой деревне, в уединенном доме не дает многих впечатлений, которые могли бы запасть в память ребенка, чтобы дать пищу для долгих размышлений. Порой здесь ничего не происходит в течение многих дней, и тогда какое-нибудь мелкое происшествие из недавнего прошлого приобретает загадочное и таинственное значение. Поэтому дети, растущие в глуши и уединении, часто оказываются задумчивыми и мечтательными. Впечатления, которые производят на них необычные виды земли и неба, случайные встречи с людьми, обладающими странными лицами и фигурами, – встречи редкие в этих отдаленных местах – подчас преувеличиваются ими так, что приобретают смысл почти сверхъестественный. Эту странность я очень ясно вижу в произведениях Шарлотты, написанных в то время, и если принять во внимание обстоятельства, в которых они создавались, то странность исчезнет и покажутся черты, общие для всех персонажей – от халдейских пастухов («одиноких пастырей, по половине летнего дня возлежащих на зеленом дерне») до одинокого монаха, – детские впечатления, растущие и оживающие в воображении, воплощающиеся в образы, становящиеся сверхъестественными видениями, сомневаться в реальности которых было бы кощунством.
Однако наряду с подобными склонностями Шарлотта обладала и прекрасным здравым смыслом, он уравновешивал тягу к сверхъестественному и склонял следовать практическим требованиям быта. Шарлотта должна была не только делать уроки, прочитывать необходимое количество страниц и извлекать из книг определенные идеи, но и убирать комнаты, бегать с поручениями, помогать на кухне, служить по очереди товарищем в играх и старшей ученицей для своих младших сестер и брата, шить и штопать, а также учиться экономии у своей хозяйственной тетушки. Поэтому хотя ее воображение и было чрезвычайно сильно развито, однако прекрасное понимание практической стороны жизни очищало его от фантазий и не давало им воплощаться в реальности. Вот что записала она однажды на клочке бумаги.
22 июня 1830 года, 6 часов вечера
Хауорт, близ Бредфорда
Нечто странное случилось 22 июня 1830 года: в этот день папа чувствовал себя очень плохо и оставался в постели; он был так слаб, что не мог подняться без посторонней помощи. Мы с Тэбби были вдвоем в кухне около половины десятого утра. Вдруг мы услышали стук в дверь. Тэбби поднялась и отворила ее. На пороге стоял старик, который не стал входить внутрь. Он заговорил и спросил у Тэбби:
Старик. Здесь живет пастор?
Тэбби. Да.
Старик. Он мне нужен.
Тэбби. Ему не по себе, он не встает с постели.
Старик. У меня к нему послание.
Тэбби. От кого?
Старик. От Господа.
Тэбби. От кого?
Старик. От Господа. Он велел мне сказать, что жених грядет, и что нам следует готовиться встретить его, и что узы скоро порвутся, и что золотой кувшин будет разбит, как разбит глиняный кувшин у колодезя.
На этом он закончил свою речь, развернулся и ушел своей дорогой. Когда Тэбби закрыла дверь, я спросила, знает ли она этого старика. Она ответила, что никогда ни его, ни даже никого похожего раньше не видела. Хотя я и была уверена, что это какой-то фанатик – может быть, и благонамеренный, но совершенно не представляющий истинной набожности, – однако, услышав его слова, которые прозвучали столь неожиданно, не смогла сдержать слез.
Дата написания приводимого ниже стихотворения не может быть установлена с точностью, однако мне кажется, что лучше всего напечатать его именно здесь. Скорей всего, оно написано до 1833 года, но насколько раньше – узнать нельзя. Я привожу его как образец замечательного поэтического таланта, который проявляется во многих миниатюрах, написанных Шарлоттой в описываемое время, по крайней мере в тех, которые я смогла прочесть.
- Я шла вчера лесной тропой,
- Вдруг – руку протяни —
- Олень израненный лежит
- Под деревом в тени.
РАНЕНЫЙ ОЛЕНЬ
- Сквозь ветви скудный, тусклый свет
- Страдальца освещал,
- Совсем один в густой траве
- Он предо мной лежал.
- Наполнен болью каждый член,
- Венец его разбит,
- Горячая слеза из глаз
- На землю пасть спешит.
- О, где теперь твои друзья,
- Подруга игр твоих?
- Как тяжко кровью истекать
- Тебе, не видя их.
- Глядит совсем как человек,
- Заброшен, одинок.
- Как вскрикнул он, когда стрела
- Ему пронзила бок!
- Что он почувствовал тогда?
- Была ли боль сильней
- Мучений от сердечных ран,
- Предательства друзей?
- Нет, это не его судьба,
- Так только человек
- На смертном ложе может свой
- Окончить тяжкий век.
Глава 6
Наверное, пришло время дать описание личности и внешности мисс Бронте. В 1831 году она была тихой, задумчивой пятнадцатилетней девочкой, миниатюрной – «чахлой», как она сама о себе говорила. Однако ее голова, руки и ноги были вполне пропорциональны по отношению к ее тоненькому, хрупкому телу – и даже речи не могло идти о физическом уродстве. Она была шатенкой с мягкими густыми волосами и удивительными глазами. Я много раз всматривалась в них впоследствии, но мне очень трудно описать их. Они были большие, очень красивой формы, красновато-карие, хотя, вглядываясь в ее зрачок, можно было обнаружить множество оттенков. Обычно эти глаза выражали спокойствие и готовность к пониманию собеседника, но по временам, в моменты живого интереса или справедливого негодования, они вспыхивали так, словно в глубине этих выразительных глаз зажигался какой-то нездешний свет. Никогда я не видела ничего подобного ни у кого другого. Что касается черт лица, то они были обыкновенны, несколько великоваты и не очень красивы. Однако они не привлекали внимания, так как глаза и выразительная мимика компенсировали мелкие недостатки – несколько искривленный рот и большой нос. В целом лицо Шарлотты обращало на себя внимание наблюдателя и обязательно привлекало к ней тех, кого она сама хотела привлечь. Ее руки и ноги были самими миниатюрными из всех, что мне приходилось видеть. Когда она пожимала мне руку, казалось, что какая-то птичка легко касалась моей ладони. Длинные изящные пальцы были необыкновенно чувствительны – и в этом таилась одна из причин того, почему все, что создавали ее руки, будь то письмо, шитье или вязание, оказывалось сделано очень тщательно. В одежде она была необыкновенно опрятна и при этом отличалась вкусом в выборе обуви и перчаток.
Как мне кажется, то исполненное достоинства серьезное выражение лица, которым Шарлотта отличалась в годы нашего знакомства и которое придавало ей сходство со старыми венецианскими портретами, не было приобретением поздних лет жизни, а возникло уже в юности, когда Шарлотта вдруг стала старшей сестрой для лишившихся матери младших детей. Но девочку-подростка с таким выражением лица должны были считать «старообразной». И в 1831 году, в тот период, о котором я сейчас рассказываю, ее следует представлять маленькой, малоподвижной, как бы преждевременно состарившейся девочкой, очень тихой и очень старомодно одетой. Помимо убеждений ее отца о том, что жены и дочери деревенского священника должны одеваться как можно проще58, надо учесть и то, что ее тетушка, на которую в основном и ложились обязанности следить за гардеробом племянниц, ни разу не была в обществе с тех пор, как восемь или девять лет назад покинула Пензанс, и потому пензанские моды старого времени оставались близки ее сердцу.
В январе 1831 года Шарлотту снова отправили в школу. На этот раз она училась у мисс Вулер59, жившей в Роу-Хеде, очень милом просторном деревенском доме, стоявшем в поле, несколько в стороне от дороги из Лидса в Хаддерсфилд. Два ряда старинных полукруглых окон этого дома выходили на длинный зеленый склон-пастбище, за которым начинался старинный парк сэра Джорджа Эрмитейджа60, именуемый Кирклис. Расстояние между Роу-Хедом и Хауортом не превышает двадцати миль, однако выглядят они совершенно по-разному, словно находятся в разных климатических зонах. Холмы вокруг Роу-Хеда образуют мягкие подъемы и спуски, которые кажутся легкими и воздушными, а расположенные внизу долины пронизаны солнцем и манят путника теплом и зеленью. Именно такие места любили выбирать для своих монастырей монахи, и следы времен Плантагенетов61 можно обнаружить здесь повсюду, бок о бок с фабриками современного Уэст-Райдинга. Здесь мы находим парк с его солнечными лужайками и глубокими тенями от старых тисов, саму усадьбу Кирклис – огромное серое здание, некогда принадлежавшее «сестрам во Христе», а также рассыпающийся камень в лесной чаще, под которым, по легенде, лежит Робин Гуд. Неподалеку от парка стоит старый дом с остроконечной крышей – теперь в нем находится придорожный трактир, однако называется он «Три монахини» и имеет на своей вывеске соответствующую картину. Этот старинный дом посещают одетые в бумазейные блузы рабочие близлежащих шерстяных фабрик, благодаря им проложена дорога из Лидса в Хаддерсфилд, на которой возникли здешние деревни. Таковы контрасты – и в образе жизни, и в приметах истории, и в природных условиях, поджидающих путешественника на дорогах Уэст-Райдинга. Мне кажется, что нет другого места в Англии, где разные века соприкасались бы так тесно, как в районе, где расположен Роу-Хед. На расстоянии пешей прогулки от дома мисс Вулер, слева от дороги из Лидса, находятся развалины Хаули-холла, ныне принадлежащего лорду Кардигану, а ранее бывшего собственностью одной из ветвей рода Сэвилов. Возле него расположен «источник леди Энн»: эта леди, согласно легенде, сидела у ручья, когда на нее напали волки. Рабочие с шерстяных фабрик в Бёрсталле и Бэтли, где они занимаются окраской тканей, приходят сюда в Вербное воскресенье, когда воды источника приобретают замечательные целительные свойства. Кроме того, существует поверье, что в шесть утра в этот день вода начинает играть странными цветовыми оттенками.
Участок земли держит в аренде фермер, живущий в том здании, что осталось от Хаули-холла, а вокруг него возвышаются современные каменные дома, населенные людьми, зарабатывающими себе пропитание работой на шерстяных фабриках. И вот новые соседи постепенно вытесняют владельцев старинных домов. Эти старые дома видны повсюду – очень живописные, с остроконечными крышами, с каменными украшениями в виде гербов. Они принадлежат пришедшим в упадок семействам, которые под влиянием жизненных обстоятельств вынуждены уступать свои наследственные земли, поле за полем, богатым фабрикантам.
Густой дым окутывает дома бывших йоркширских сквайров, чернит и губит старые деревья. Пройти к ним теперь можно только по тропинкам, усыпанным шлаком. Землю вокруг распродают под строительство, однако местные жители, хотя и вынуждены покориться изменившимся обстоятельствам, все еще помнят, что их предки находились в зависимости от владельцев здешних холмов, и сохраняют величавые традиции прошедших веков. Взять, к примеру, Оаквелл-холл. Он стоит в чистом поле, на обычном пастбище, в четверти мили от большой дороги. Только это расстояние отделяет его от шумных паровых машин на шерстяных фабриках Бёрсталла, и если вы пройдетесь от бёрсталлской станции до Оаквелл-холла в обеденное время, то встретите множество измазанных синей краской рабочих, которые жадно и торопливо поедают принесенную с собой еду, сидя на обочине большой дороги. Повернув направо, вы подниметесь по холму через пастбище и вскоре окажетесь на тропе, которую называют Кровавой: говорят, здесь бродит привидение некоего капитана Бэтта, негодяя, владевшего близлежащим поместьем в век Стюартов62. Кровавая тропа, вдоль которой растут старые деревья, выведет вас на пастбище, где и расположен Оаквелл-холл. Среди местных жителей он известен еще как «Филд-хэд», или «жилище Шерли»63. Другие места действия располагаются неподалеку; по соседству имели место и подлинные события, которые легли в основу романа.
В одной из спален Оаквелл-холла вам покажут кровавый отпечаток ступни и расскажут историю, связанную и с этим следом, и с тропой, по которой вы пришли в поместье. Владелец имения капитан Бэтт находился в долгой отлучке, а семья его оставалась дома. И вот однажды зимним вечером, в сумерках, все услышали, как по тропе кто-то идет твердой поступью. Это был капитан: он открыл дверь, поднялся по лестнице, зашел в свою комнату, где бесследно исчез. Впоследствии узнали, что в день своего появления, 9 декабря 1684 года, он был убит в Лондоне на дуэли.
Камни, из которых сложен старый дом, некогда составляли часть бывшего на этом месте пастората: предок капитана Бэтта захватил его во времена Реформации. Этот предок, Генри Бэтт, присваивал чужие дома и деньги без всяких угрызений совести и дошел до того, что утащил к себе большой колокол бёрсталлской церкви. За такое святотатство на его земли был наложен штраф, который и по сей день выплачивает владелец поместья.
Однако уже в начале прошлого столетия Бэтты выпустили из своих рук Оаквелл. Дом переходил из рук в руки, и каждый владелец оставлял какой-то след своего пребывания в этом месте. В большом зале прибиты к стене огромные оленьи рога, а под ними висит табличка, удостоверяющая, что 1 сентября 1763 года состоялось большое соревнование охотников, во время которого и был убит этот олень. В охоте участвовало четырнадцать джентльменов, и затем они отобедали своей добычей вместе с Фэрфаксом Фернли, эсквайром, владельцем поместья. Выписаны и имена четырнадцати охотников – все они, без сомнения, были «мужами силы», однако в настоящий момент, в 1855 году, мне о чем-то говорят только фамилии генерального прокурора сэра Флетчера Нортона и генерал-майора Бёрча.
За Оаквеллом дома попадаются и справа и слева от дороги. Каждый из них был хорошо известен мисс Бронте в годы учебы в Роу-Хеде: это гостеприимные дома ее соучениц. От дороги тропинки поднимаются к пустошам, где в выходные можно славно погулять, а затем вы окажетесь у белых ворот, за которыми начинается тропа, ведущая непосредственно к Роу-Хеду.
Комната с эркером на первом этаже, откуда открывается этот приятный вид, – гостиная. Вторая комната там же – класс. Окно столовой выходит на дорогу.
Число учениц в этой школе в годы пребывания здесь мисс Бронте менялось от семи до десяти. Для такого количества не нужен был весь дом, и потому третий этаж пустовал, если не считать поверья о некой леди, шуршанье шелкового платья которой можно услышать, тихонько остановившись на лестничной площадке второго этажа.
Любящая материнская душа мисс Вулер и небольшое количество учениц придавали этому сообществу характер скорее семьи, чем школы. Кроме того, учительница, как и многие ее ученицы, была уроженкой здешних мест. Возможно, что Шарлотта, приехавшая из Хауорта, жила дальше всех от школы. Дом ее соученицы Э. находился в пяти милях64, а две другие подруги (изображенные под именами Розы и Джесси Йорк в «Шерли») жили еще ближе65. Две или три девочки приехали из Хаддерсфилда, одна или две из Лидса.
Теперь я обращусь к выпискам из письма, любезно присланного мне Мэри, одной из этих подруг детства мисс Бронте. Выразительное и наглядное, это письмо дает представление о том, что происходило в Роу-Хеде при первом появлении здесь Шарлотты 19 января 1831 года.
Впервые я увидела ее, когда она выходила из закрытой кареты. Одета Шарлотта была весьма старомодно и казалась совсем замерзшей и несчастной. Она приехала учиться в школу мисс Вулер. Когда Шарлотта появилась в классе, она переоделась, но и это, другое, платье было таким же старым. Девочка выглядела маленькой старушкой и была так близорука, что казалось, будто она постоянно что-то ищет, наклоняясь к вещам. По характеру она была робкой и нервной, а говорила с сильным ирландским акцентом. Когда ей давали книгу, она склоняла к ней голову так, что чуть ли не касалась страниц носом. Ей приказывали выпрямиться, и она поднимала голову, продолжая по-прежнему держать книгу у самого носа, и окружающие не могли удержаться от смеха.
Таково было первое впечатление, которое Шарлотта произвела на девочку, впоследствии ставшую ее близкой подругой. Другая бывшая ученица вспоминает, как Шарлотта в свой первый день пребывания в школе стояла у окна классной комнаты, глядя на заснеженный пейзаж, и плакала, в то время как другие весело играли. Э. была моложе Шарлотты, и ее нежное сердце тронуло положение, в котором оказалась эта странно одетая и странно выглядевшая девочка тем зимним утром, когда она «рыдала от тоски по дому» в новом месте, среди незнакомых людей. Слишком явные проявления доброты напугали бы маленькую дикарку из Хауорта, но Э. (чьи черты приобретет Каролина Хелстоун в «Шерли») сумела завоевать ее доверие и деликатно выразить сочувствие.
Вновь обращусь к письму, которое прислала мне Мэри: «Мы считали, что она совсем невежественна, поскольку ей никогда не приходилось учить грамматику и в очень малой степени географию».
Это мнение о невежественности Шарлотты разделяли и другие ее соученицы. Однако мисс Вулер была дамой весьма умной и в то же время деликатной и добросердечной: доказательством этого служит ее обращение с Шарлоттой. Девочка была весьма начитанна, но не получила систематических знаний. Мисс Вулер отвела ее в сторонку и сказала, что, по-видимому, ей придется некоторое время поучиться в младшем (втором) классе, пока она не догонит своих сверстниц по грамматике и другим предметам. Бедную Шарлотту это известие расстроило до слез. Тогда доброе сердце мисс Вулер смягчилось, и она мудро рассудила, что такую девочку лучше поместить в старший (первый) класс, одновременно давая ей отдельные уроки по тем предметам, где ее знания были слабы.
Она приводила нас в замешательство, демонстрируя знания, далеко выходившие за пределы нашего кругозора. Шарлотта узнавала стихотворные отрывки, которые мы заучивали наизусть, могла с ходу назвать их авторов и поэмы, из которых они были взяты, а иногда могла прочитать несколько идущих дальше страниц и пересказать нам сюжет. У нее была манера писать печатными буквами: она объясняла это тем, что издавала дома рукописный журнал. Он выходил раз в месяц, и его издатели желали, чтобы он как можно больше походил на настоящий. Шарлотта пересказала нам один рассказ, помещенный там. У журнала не было никаких читателей или авторов, за исключением ее самой, ее брата и двух сестер. Шарлотта обещала мне показать номера этого журнала, но потом взяла свои слова обратно, и мне так и не удалось ее переубедить. В часы, отведенные для игр, она сидела или стояла на одном месте с книгой. Однажды мы с подругами заставили ее поучасвовать в игре в мяч на стороне нашей команды. Шарлотта отказывалась, ссылаясь на то, что она никогда в это не играла и не знает, как это делается. Мы уговорили ее попробовать, и вскоре поняли, что она не видит, куда летит мяч, и оставили ее в покое. Шарлотта уступала нашим усилиям вовлечь ее в игры, однако к самим играм относилась безразлично и всегда была готова их бросить. Она предпочитала просто стоять под сенью деревьев рядом с площадкой для игр и пыталась объяснить нам, как приятна тень, когда солнце появляется в просветах облаков. Нам же эти радости были недоступны. По ее словам, в Кован-Бридж она любила стоять возле ручья, на большом камне, и созерцать течение воды. На это я сказала, что не лучше ли было заняться там ловлей рыбы? Шарлотта отвечала, что у нее никогда не возникало подобного желания. Физически она была совсем слабенькая. Я не помню, чтобы она ела в школе пищу животного происхождения. Как-то раз я заметила ей, что она совсем некрасива. Однако спустя несколько лет извинилась за подобную грубость. Ответ Шарлотты был таков: «Ты сделала мне добро своими словами, и не надо раскаиваться». Зато она рисовала быстрее и лучше всех и знала все о прославленных картинах и художниках. Если Шарлотте попадалась картина или гравюра, она принималась тщательно ее рассматривать: подносила очень близко к глазам и вглядывалась долго и пристально, а мы спрашивали, что она там видит? Видела она очень многое и прекрасно разъясняла увиденное. Шарлотта пробудила во мне интерес к поэзии и рисованию, и я приобрела привычку, оставшуюся до сих пор, – мысленно сверяться с ее мнением во всех вопросах искусства, хотя и не только в них. Описывая ей определенные вещи, я начинаю припоминать то, что, казалось бы, совсем забыла.
Чтобы дать читателю почувствовать всю силу последних слов и показать, какое живое впечатление производила мисс Бронте на тех, кто был способен ее оценить, следует упомянуть, что постоянно ссылающаяся на мнение Шарлотты автор этого письма, датированного 18 января 1856 года, не видела свою подругу одиннадцать лет и провела эти годы на другом континенте, в совершенно иных условиях, можно сказать, среди антиподов.
Мы были захвачены интересом к политике, что неудивительно для 1832 года. Шарлотта помнила фамилии членов двух кабинетов министров – и того, что ушел в отставку, и того, что пришел на его место и провел «Билль реформы»66. Она боготворила герцога Веллингтона, но про сэра Роберта Пиля говорила, что он не заслуживает доверия, поскольку не верит в принципы, как другие, а действует из соображений практической выгоды. Я разделяла взгляды крайних радикалов и потому отвечала: «Да как кто-либо из них вообще может доверять другому? Они же все негодяи!» Затем она принималась воздавать хвалы герцогу Веллингтону, описывая его деяния. Здесь мне нечего было возразить, поскольку я мало что о нем знала. Шарлотта признавалась, что стала интересоваться политикой уже в возрасте пяти лет. Свое мнение она формулировала не столько на основе суждений отца, сколько черпая сведения из газет и других изданий, которые он читал.
Чтобы проиллюстрировать правдивость этих слов, приведу отрывок из письма Шарлотты к брату (написано в Роу-Хеде 17 мая 1832 года).
Еще недавно мне казалось, что мой интерес к политике утерян. Однако бурная радость, которую я испытала при известии, что «Билль реформы» отвергнут палатой лордов, а также от новости об изгнании или отставке графа Грея и проч., убедила меня в том, что моя склонность к политике никуда не исчезла. Я чрезвычайно довольна тем, что тетя согласилась выписать «Фрейзерс мэгэзин»67. Судя по твоему описанию, он в целом малоинтересен по сравнению с «Блэквудом», но все же получать его лучше, чем оставаться весь год в неведении, лишенными всякого доступа к периодическим изданиям. А именно таков и был бы наш случай: в затерянной среди пустошей деревеньке, где мы живем, нет библиотеки, где можно взять номер газеты. Надеюсь, установившаяся ясная погода поспособствует укреплению здоровья дорогого папы и напомнит тете о целебном климате ее родных мест.
Однако вернемся к письму Мэри.
Она, случалось, вспоминала своих старших сестер Марию и Элизабет, умерших в Кован-Бридж, и после ее рассказов они казались мне чудесами доброты и таланта. Однажды утром Шарлотта поведала мне только что приснившийся ей сон: как будто ей сказали, что ее ждут в гостиной, и там оказались Мария и Элизабет. Я просила ее продолжать, но она объявила, что это все. «Но тогда ты должна продолжить! – вскричала я. – Придумать продолжение. Ты же умеешь это делать». Однако Шарлотта отказалась: ей не понравился сон, сестры в нем изменились и казались совсем другими. Они были модно одеты, высказывали недовольство гостиной и т. д.
Эта привычка «придумывать», присущая детям, которые чего-то лишены в действительной жизни, была в ней в высшей степени сильна. Вся семья любила придумывать истории, героев и события. Я ей иногда говорила: вы как проросшие картофелины в погребе. И она с грустью отвечала: «Да-да, именно так».
Кто-то из учениц сказал ей, что она «всегда говорит об умных людях – Джонсоне, Шеридане и т. д.». На это Шарлотта возразила: «Вы не понимаете смысла слова „умный“. Шеридан, возможно, и был умен. Да, определенно, он был умен, плуты часто бывают умными. Но у Джонсона не было и искорки ума». Никто не оценил ее высказывания, некоторые произнесли пару банальных замечаний по поводу «умственных способностей», и Шарлотта замолчала.
В этом эпизоде отразилась вся ее жизнь. И в нашем доме ее тоже некому было слушать. Мы не отличались такой нетерпимостью, как школьницы, но ставили практический ум выше поэзии. Ни она, ни мы не догадывались, что чувствительные люди мыслят одинаково с остальными, и вот мы продолжали состязаться в наших спорах.
Когда Шарлотта училась в школе, она еще не знала, что будет делать во взрослой жизни, за исключением того, что диктовали обстоятельства. Она понимала, что должна зарабатывать на пропитание и выбрать какое-то занятие – по крайней мере, начать об этом думать. Уже в школе она была занята самосовершенствованием: она воспитывала в себе определенные вкусы. Всегда говорила, что жизнь заставит нас усвоить немало практических и полезных знаний и что самое необходимое – это смягчить и очистить душу и ум. Она подбирала мельчайшие крупицы сведений, относящихся к живописи, скульптуре, поэзии, музыке и т. п., словно это были частицы золота.
Все, что известно о школьных годах мисс Бронте из других источников, подтверждает правдивость этого замечательного письма. Она была прилежнейшей ученицей, все время читала и заучивала необходимое. У нее было твердое и весьма необычное для пятнадцатилетней девочки убеждение в ценности образования. Шарлотта не теряла зря ни минуты и даже выражала недовольство тем, что в школьном расписании полагались часы для отдыха и игр, – последнее отчасти объясняется ее неловкостью, которая, в свою очередь, была вызвана близорукостью. Однако, несмотря на склонность к одиночеству, Шарлотта была любима своими соученицами. Она всегда шла навстречу их желаниям, не сердилась, когда ее называли неловкой и не брали в спортивные игры. Зато по ночам она была незаменимой рассказчицей, пугавшей девочек чуть ли не до обморока. Однажды эффект оказался таким сильным, что одна из слушательниц громко вскрикнула. Мисс Вулер, поднявшись по лестнице, обнаружила, что у этой девочки сильное сердцебиение, – так взволновал ее рассказ Шарлотты.
Замечая, что ученица тянется к знаниям, мисс Вулер постоянно увеличивала для нее задания по чтению, и в конце второго года пребывания в Роу-Хеде Шарлотта впервые получила плохую отметку. Ей задали прочесть большой кусок из книги Блэра «Лекции по изящной словесности»68, и она не смогла ответить на некоторые вопросы учительницы. Шарлотта Бронте получила «двойку»! Это расстроило мисс Вулер, и она пожалела, что так перегружала свою усердную воспитанницу. Сама Шарлотта горько рыдала. А ее подруги были не просто расстроены – они негодовали. Девочки объявили, что даже столь небольшое наказание несправедливо по отношению к Шарлотте Бронте: кто же старался больше, чем она? – и продолжали протестовать до тех пор, пока мисс Вулер, сама желавшая поскорей забыть о первой ошибке хорошей ученицы, не вычеркнула плохую оценку. Тогда все девочки принялись относиться к своей наставнице с прежней любовью. Исключением стала только та, кого я называю Мэри: она полагала, что мисс Вулер поступала несправедливо, давая Шарлотте столь большие задания, что та не успевала их готовить. И потому Мэри решила не подчиняться школьным правилам в остававшиеся до конца полугодия несколько недель.
Учениц было так мало, что посещать занятия в определенные часы, принятые в других школах, не требовалось: приготовив урок, девочки просто сообщали об этом мисс Вулер. Она обладала необыкновенным умением прививать ученицам вкус к учебе и делать любые задания интересными для них, так что они брались за учение не из-под палки, а со здоровым интересом и жаждой знаний. И по окончании школы, когда учеба становилась необязательной, они не бросали читать. Их учили думать, анализировать, отвергать, оценивать. Шарлотта была очень довольна своей второй школой. Была здесь и разумная свобода в том, как проводить время вне класса. Девочки играли на поле по соседству с домом. По субботам – неполным учебным дням – они отправлялись на прогулки по тенистым лесным дорожкам, взбирались на холмы и осматривали окрестности, причем учительница рассказывала им о прошлом и настоящем этих мест.
Мисс Вулер превосходно владела искусством, которое французы называют conter: у нее был дар рассказчицы. Ее ученицы вспоминают истории, услышанные во время долгих прогулок: и об этом старом доме, и об этой новой мельнице, и о том, как влияло состояние общества на изменения, происходившие с годами в облике того или иного здания. Мисс Вулер хорошо помнила те времена, когда в ночи вдруг слышались отдаленные слова воинской команды и раздавался дружный топот марширующих: это тысячи отчаявшихся рабочих занимались военными упражнениями, готовясь к великому дню, о котором мечтали, – дню, когда они вступят в бой и одержат победу, когда народ Англии – рабочий люд Йоркшира, Ланкашира и Ноттингемшира – заставит услышать свой устрашающий голос, раз его законные и непрекращающиеся требования упорно игнорируются парламентом. Сейчас мы уже забыли, сколь стремительно совершились перемены к лучшему и сколь ужасными были условия жизни в момент окончания войны на Пиренейском полуострове69. Остались в памяти только какие-то анекдоты об их недовольстве, а истинные причины страданий забыты. А между тем эти люди были доведены до отчаяния, и вся страна, как ясно видно теперь, находилась на грани гибели и была спасена только благодаря быстрым и решительным действиям, предпринятым некоторыми силами в правительстве. Мисс Вулер рассказывала о тех временах: и о таинственных ночных учениях, когда тысячи людей маршировали по вересковым пустошам, и о ропоте недовольства, раздававшегося из уст угнетенных, и, наконец, о предпринятых бунтовщиками действиях, среди которых немаловажным событием было сожжение фабрики Картрайта70. Все эти рассказы прочно запали в память по крайней мере одной из ее слушательниц.
Мистер Картрайт был владельцем фабрики «Роуфолдс», расположенной неподалеку от Роу-Хеда, в Ливерседже. Этот человек рискнул приобрести машины, помогающие очищать шерстяную пряжу, что было крайне непопулярной мерой в 1812 году, когда сошлось воедино множество обстоятельств, в итоге сделавших жизнь фабричных рабочих сплошным невыносимым страданием от голода и нищеты. Мистер Картрайт был в своем роде человек замечательный. У него была толика иностранной крови, что оказывалось приметно по высокому росту, темным глазам, цвету кожи и особой, хотя и вполне благородной манере себя вести. Он много времени провел за границей, хорошо говорил по-французски – и это само по себе в те дни вызывало подозрения у нетерпимых и фанатичных людей. К тому же он был непопулярен еще и до того, как предпринял опрометчивый шаг и закупил машины, вместо того чтобы нанять новых рабочих. Мистер Картрайт был осведомлен о том, что его не любят, и предвидел последствия. Он подготовил свою фабрику и дом, находившийся на ее территории, к нападению: двери на ночь баррикадировались. А на случай, если восставшие все-таки ворвутся внутрь, на каждой ступени лестницы был укреплен валик с торчащими во все стороны острыми иглами – так чтобы попасть наверх было невозможно. Вечером 11 апреля 1812 года произошло нападение. Несколько сотен изголодавшихся рабочих собрались рядом с Кирклисом на склоне, ведущем вниз от того дома, который впоследствии заняла школа мисс Вулер. Вожаки вооружили этих людей пистолетами, топорами и дубинками. Часть оружия была отнята ночными разбойниками, рыскавшими в тех краях, у обитателей одиноко стоящих домов, лишив их средств самообороны. Посреди ночи молчаливая, хотя и озлобленная толпа двинулась к Роуфолдсу и там разразилась криками и угрозами. Мистер Картрайт проснулся и понял, что давно ожидавшееся наконец началось. У него было большое преимущество – крепкие стены фабрики, но сотням разъяренных бунтовщиков он мог противопоставить всего четырех рабочих, сохранивших верность хозяину, и пять пришедших ему на помощь солдат. Однако эти десять человек так метко стреляли из мушкетов и столь храбро отражали нападение, что смогли отбить все отчаянные попытки толпы высадить двери и ворваться в здание. После двадцатиминутной стычки поле боя осталось за мистером Картрайтом. Но он был настолько ошарашен и утомлен случившимся, что забыл о мерах, которые сам же и предпринял, и напоролся ногой на утыканные острыми шипами валики, лежавшие на ступенях лестницы. Собственный дом хозяина находился рядом с фабрикой. Восставшие объявили, что если он не сдастся, то они ворвутся туда и убьют его жену и детей. Это была ужасная угроза, поскольку для обороны жилого дома мистер Картрайт был вынужден оставить всего двух солдат. Супруга хозяина понимала, что ей угрожает смерть, и ей уже казалось, что она слышит приближение восставших. Тогда она схватила двух своих маленьких детей и, поместив их в корзину, подняла на веревке по большой дымовой трубе – обычной примете старых йоркширских домов. Выжившая благодаря этому дочь супругов Картрайт впоследствии с гордостью показывала нам следы мушкетных пуль на опаленных порохом стенах отцовской фабрики. Мистер Картрайт был первым, кто оказал сопротивление наступлению луддитов, ставших впоследствии столь многочисленными, что они уже напоминали взбунтовавшуюся армию. Поступок этого фабриканта восхитил его соседей, и они объявили подписку в его пользу, собрав в конечном итоге целых три тысячи фунтов.
Не прошло и двух недель после нападения на Роуфолдс, как случилось еще одно преступление. Другой фабрикант, рискнувший закупить несносные машины, был убит среди бела дня, когда проходил через Кроссландскую пустошь, – с ней соседствовала роща, где прятались злоумышленники. Читатели «Шерли», конечно, узнают эту историю, которую много лет спустя рассказали мисс Бронте люди, жившие в тех самых местах и хорошо помнившие времена, когда никто не мог быть уверен в сохранности своей жизни и собственности и преступления совершались людьми, движимыми жестоким голодом и слепой ненавистью.
Мистер Бронте жил среди этих людей: в 1812 году он был священником в Хартсхеде, отстоящем всего на три мили от Роуфолдса. Как я уже писала, именно в это опасное время он начал носить с собой заряженный пистолет. Будучи не только сторонником тори в политике, но и человеком, всегда ратующим за верховенство закона, мистер Бронте презирал трусость местных властей, которые из страха перед луддитами отказывались вмешиваться в конфликты и защищать от разорения частные владения. Оказалось, что самыми храбрыми людьми в округе были священнослужители.
Среди них выделялся и оставил память о себе мистер Роберсон71 из Хилдс-холла, близкий друг мистера Бронте. Он жил в Хекмондуайке – большом грязном селе, растянувшемся вдоль дороги в двух милях от Роу-Хеда. Население села составляли ткачи, изготавливавшие шерстяные одеяла на дому. Хилдс-холл, жилище преподобного Роберсона, был самым крупным домом в деревне. Этот священник построил за свой счет красивую церковь на Ливерском кряже, прямо напротив своего дома, и это строительство оказалось первой попыткой угнаться за ростом населения в Уэст-Райдинге. Мистер Роберсон был человек твердых, старомодных, консервативных взглядов как в религии, так и в политике, всегда готовый пожертвовать личным во имя общественного. Малейшие признаки анархии вызывали его гнев. Всеми фибрами своей души он был предан церкви и королю и в любой момент с радостью пожертвовал бы ради того, что считал правым делом, своей жизнью. В то же время он был еще и человеком весьма властным, беспощадно подавлявшим всякое сопротивление, так что народная память придала ему даже какие-то демонические черты. Он дружил с мистером Картрайтом и, как гласит предание, узнав о готовящемся нападении на фабрику, вооружил себя и всех своих домочадцев, чтобы по первому сигналу прийти на выручку другу. Все это весьма правдоподобно: несмотря на свою мирную профессию, мистер Роберсон был человеком весьма воинственным.
Поскольку в имевшем тогда место противостоянии он принял враждебную народу сторону, в легендах сохранились одни преувеличения, восходящие к определенным чертам его характера. Рассказывают, что, приехав на другое утро после нападения поздравить с победой своего друга Картрайта, он запретил подавать воду раненым луддитам, остававшимся во дворе фабрики. Более того, этот суровый и бесстрашный священник якобы пускал к себе на постой солдат, присланных подавлять восстание, что вызвало еще большую ненависть рабочих, перепуганных видом красных мундиров. Не будучи судьей, мистер Роберсон тем не менее взялся за расследование упомянутого выше убийства фабриканта и, не пожалев усилий, проделал эту работу с такой решительностью и энергией, что в народе распространился слух, будто священнику помогает нечистая сила. Жители деревни, проходившие в сумерки по полям, окружавшим Хилдс-холл, впоследствии рассказывали, что видели, как пастор отплясывает в окружении кружащихся вокруг него чертей. Мистер Роберсон содержал также большую школу для мальчиков, и ученики не только уважали его, но и боялись. Помимо сильной воли, он отличался еще и своеобразным черным юмором, проявлявшимся в странных до нелепости наказаниях для нерадивых школьников: он заставлял их стоять на одной ноге в углу классной комнаты и при этом держать в каждой руке по тяжелой книге. Однажды, когда мальчик не выдержал такого наказания и сбежал домой, священник приехал к нему верхом, отобрал его у родителей и, привязав веревкой к стремени, заставил бежать рядом с лошадью много миль, вплоть до самого Хилдс-холла.
Вот еще одна иллюстрация свойств его характера. Мистер Роберсон узнал, что у его служанки Бетти есть «преследователь», и, выждав удобный момент, когда этот парень по имени Ричард появится на кухне, вызвал его в столовую, где собрались ученики школы. Мистер Роберсон спросил у Ричарда: правда ли, что он домогается Бетти? Парень сознался, и тогда священник дал команду: «Ату его, ребята! Тащите к водокачке!» Бедного влюбленного выволокли на двор и стали окатывать водой. После каждого вылитого ведра его спрашивали: «Обещаешь ли больше не домогаться Бетти?» Ричард долго не сдавался, и после каждого отказа следовала команда: «Еще ведро, ребятки!» В конце концов мокрый «преследователь» вынужден был уступить и отказаться от Бетти.
Йоркширский характер мистера Роберсона не будет ясен читателю в полной мере, если я не упомяну о его страсти к лошадям. Он прожил долгую жизнь, умерев в глубокой старости уже где-то на рубеже тридцатых и сороковых годов, и даже в возрасте восьмидесяти лет получал огромное удовольствие, объезжая норовистых жеребцов. В случае необходимости он мог держаться на спине коня по полчаса, пока не приводил его к покорности. По этому поводу тоже сохранилась легенда: однажды он в порыве страсти застрелил и закопал в карьере любимую лошадь своей жены. Спустя несколько лет земля якобы разверзлась и открыла на всеобщее обозрение скелет. На самом деле мистер Роберсон убил эту бедную старую клячу из жалости, чтобы избавить от мучительной смерти, и закопал в месте, где земля впоследствии просела от интенсивных разработок угольных пластов, в результате чего и показались наружу кости. Раскраска, которой подвергает действительный факт легенда, наглядно демонстрирует саму природу той памяти, которой иногда обладают люди. Однако есть и совсем другие воспоминания. Соседние священники помнят гордую фигуру человека с орлиным взором, в широкополой шляпе, верхом на красивой белой лошади: таким мистер Роберсон отправлялся по воскресеньям в церковь исполнять свой долг, подобно верному солдату, умирающему в полной амуниции. Эти люди воздают должное его преданности религиозному долгу и голосу совести и свято чтут его память. Однажды, когда мистер Роберсон был уже совсем стар, коллеги-священнослужители устроили ему чествование, чтобы выразить свое уважение.
Таков пример сильного характера, который нередко выказывают представители йоркширского духовенства, принадлежащие к официальной церкви. Мистер Роберсон был другом отца Шарлотты Бронте и жил всего в паре миль от Роу-Хеда в те времена, когда она там училась. До нее, несомненно, доходили слухи о его, тогда еще совсем недавних, словах и поступках.
Теперь следует поговорить немного о прихожанах диссентерской церкви, населявших окрестности Роу-Хеда. Шарлотте, безусловно, доводилось спорить со своими соученицами, происходившими из подобных семей, отличавшихся радикализмом в политике72. Она, дочь англиканского священника и сторонника тори, начавшая «интересоваться политикой уже в возрасте пяти лет», несомненно, хотела узнать получше тех, чьи мнения так не совпадали с ее собственными.
Большинство местного населения составляли диссентеры, в основном приверженцы «независимой» ветви этого церковного направления. В селе Хекмондуайк, в самом конце которого стоит школа Роу-Хед, было две большие церкви, принадлежавшие их общине, а также одна методистская. Все они заполнялись до отказа во время воскресных служб, а кроме того, по будням проводились разнообразные, тоже многочисленные, молитвенные собрания. Деревенские жители были не только усердными прихожанами, но и придирчивыми критиками проповедей, которые им доводилось выслушивать, настоящими тиранами по отношению к своим пастырям и яростными радикалами в политике. Одна моя подруга, хорошо знающая те места, где провела свои школьные годы Шарлотта Бронте, так описывает их жизнь:
Вот сцена, имевшая место в Нижней церкви Хекмондуайка, которая даст вам представление о тогдашних нравах. Когда молодожены после венчания впервые появлялись в церкви, было принято в конце службы, следом за последней молитвой, когда паства уже покидает здание, петь свадебный гимн. Хор, исполнявший этот гимн, получал денежные пожертвования, а затем устраивал пьяную гулянку на всю ночь, – по крайней мере, так рассказывал тамошний священник. Именно он и решил положить конец безобразному обычаю. В этом его поддержали многие из клира и прихожан. Однако демократическое начало в приходе было столь сильно, что возникла яростная оппозиция, участники которой дошли до того, что оскорбляли священника, встретив его на улице. Наступил день, когда в церковь должна была явиться молодая пара, и пастор объявил хористам, что запрещает им петь свадебный гимн. Те ответили, что все равно споют, и тогда он запер дверь, дающую доступ на ту большую скамью, где обычно сидели певцы. Однако они сломали замок и заняли свои места. Священник объявил с кафедры, что сегодня пения гимна не будет, а вместо этого он прочтет фрагмент Писания. Однако не успел он произнести первое слово, как хористы встали со своих мест – возглавлял их регент, высокий, свирепого вида ткач, – и затянули гимн. Они старались петь как можно громче, и в этом им помогали находившиеся среди паствы приятели. Те прихожане, которые не одобряли поведения хористов и приняли сторону священника, не встали со своих мест во время исполнения гимна. Затем пастор снова начал читать Писание, а по окончании чтения произнес проповедь. Он собирался уже заключить службу молитвой, как вдруг опять поднялись с мест хористы и снова грянули гимн. Безобразные сцены повторялись несколько недель, и противостояние среди паствы достигло такого накала, что прихожане едва удерживались от потасовок, встретив врагов вблизи церкви. В конце концов священник оставил свое место, и вместе с ним церковь покинули наиболее сдержанные и уважаемые члены конгрегации. Таким образом, хористы восторжествовали.
При выборах пастора в церкви Хекмондуайка страсти накалились так, что пришлось зачитать на церковном собрании «Акт о бунте»73.
Разумеется, soi-disant74 христиане, лет десять назад силой изгнавшие мистера Редхеда из Хауорта, имели много общего со своими братьями-язычниками, soi-disant христианами из Хекмондуайка, хотя первые принадлежали к официальной церкви, а вторые были диссентерами.
Письмо, цитату из которого я привела выше, написано жительницей тех мест, где провела свои школьные годы Шарлотта Бронте, и описывает ситуацию, относящуюся ко времени ее ученичества в Роу-Хеде. Вот что пишет она далее:
Привыкнув к почтительному обращению со стороны сельского населения, я была поначалу удивлена и даже встревожена той свободой, которой пользовался рабочий класс Хекмондуайка и Гомерсала по отношению к лицам, стоявшим выше их на социальной лестнице. Обращение «девчушка» было здесь столь же общепринятым по отношению к молодой леди, как слово «девица» в Ланкашире. Крайне неопрятный вид деревенских жителей в первое время вызывал шок, хотя ради справедливости надо признать, что хозяйки домов, как и сами их жилища, не были так уж грязны и даже имели цветущий, хотя и грубоватый, вид (за исключением периодов, когда дела приходили в упадок), что редко встретишь в сельских районах. Рядом со входом в дом обычно можно было увидеть кучу угля с одной стороны и приспособления для варки домашних напитков – с другой, а в самом жилище вас встречал запах солода и хмеля – «домашнее пиво» варилось повсеместно. Не было и нехватки гостеприимства – одного из главных достоинств йоркширцев. Гостей обильно и назойливо потчевали овсяными лепешками, сыром и пивом.
Был в Хекмондуайке и ежегодный праздник, полурелигиозный и полусветский, под названием «Чтение». Мне кажется, что традиция его празднования восходит еще ко времени нонконформистов75. Накануне праздника приглашенный священник читал проповедь в Нижней церкви, а на следующий день сразу две проповеди читались, одна за другой, в Верхней. Разумеется, служба длилась очень долго, и, поскольку это происходило в июне, в жаркое время, мы с подругами получали мало удовольствия, оттого что проводили все утро в церкви. Затем начиналось собственно празднование: в село стекалось множество приезжих. Ставили палатки для торговли игрушками и особыми имбирными коврижками, имевшими название «ярмарочных». Обычно к празднику дома белили и красили, чтобы придать им нарядный вид.
Деревня Гомерсал (где жила с родителями Мэри, подруга Шарлотты) была куда красивее Хекмондуайка. В ней привлекал внимание очень странный дом, построенный из неотесанных, выпиравших во все стороны камней, на которых были вырезаны ухмыляющиеся рожи. На камне, венчавшем входную дверь, большими буквами значилось: «Дом злобы». Это сооружение один из жителей деревни возвел прямо напротив дома своего врага, который только что выстроил себе превосходный особняк с прекрасным видом на долину, – именно этот вид и заслонил дом-урод.
Девять юных учениц мисс Вулер прогуливались среди жителей деревни без всякого страха – они ведь были со всеми знакомы. Сама учительница родилась и выросла среди этих грубых, сильных, подчас свирепых людей и хорошо знала, какая доброта и верность таятся под личиной дикости и непокорства. Девочки обсуждали то, что видели вокруг, и у каждой из них было свое мнение, их ожесточенные дискуссии напоминали споры взрослых. Среди них прожила два года уже всеми любимая (если кое-кто иногда над ней все еще посмеивался, то только в лицо), близорукая, странно одетая, прилежная девочка по имени Шарлотта Бронте.
Глава 7
Мисс Бронте покинула Роу-Хед в 1832 году, заслужив искреннюю любовь как своей учительницы, так и соучениц. Две подруги, приобретенные в эти годы, остались близки к ней в течение всей жизни. Та, которую я называю именем Мэри, к сожалению, не сохранила писем Шарлотты. Однако другая, обозначенная здесь как Э., любезно согласилась поделиться со мной всей оставшейся у нее корреспонденцией. Просмотрев самые ранние письма, я была поражена их безнадежным тоном. В том возрасте, когда девочки обычно радостно смотрят в будущее, и считают свои чувства, равно как и чувства подруг, вечными, и не медлят обнаружить эти чувства, Шарлотта выражает удивление тем, что Э. держит слово и пишет ей письма. Когда я познакомилась с мисс Бронте, меня поразило, что она не надеется на лучшее и вообще не верит в будущее. Узнав о несчастьях, которые ей довелось претерпеть, я поспешила заключить, что именно память о перенесенном горе лишила ее жизнерадостности и надежд. Но письма свидетельствуют о другом: грусть была присуща ей изначально. Хотя не исключено и то, что причиной послужила острая боль после смерти двух старших сестер в соединении с телесной слабостью Шарлотты. Если бы вера в Бога была в ней не так сильна, это могло бы породить постоянную депрессию. Однако, как мы еще увидим в дальнейшем, мисс Бронте старалась везде и всюду «вручать свою судьбу милости Божьей».
Вернувшись домой из Роу-Хеда, Шарлотта стала учительницей для младших сестер, которых она теперь намного превышала в знаниях. Течение жизни в пасторском доме описано в ее письме от 21 июля 1832 года.
Отчета об одном дне достаточно для описания всей моей жизни. Утром с девяти до половины первого я занимаюсь обучением сестер, а также рисованием. Затем мы гуляем до обеда. После обеда и до чая я шью, а после чая либо пишу и читаю, либо что-нибудь выдумываю, либо снова рисую в свое удовольствие. Таким приятным, хотя и несколько монотонным, образом проходит моя жизнь. С тех пор как я вернулась домой, я только дважды была в гостях. Мы ждем посетителей сегодня вечером, а в следующий вторник мы приглашаем всех учительниц из воскресной школы на чай.
Здесь будет уместно привести отрывок из письма, которое я получила от Мэри после публикации предшествующих изданий этой книги.
Вскоре после того, как Шарлотта покинула школу, она призналась, что читала что-то из Кобетта76. По ее словам, он ей не понравился, но «все, что попадает в сеть, – рыба». Как она сама писала в то время, чтение и рисование были ее единственными развлечениями, однако запас книг в доме был очень мал для нее. О своей тетушке она никогда не рассказывала. Сама я видела мисс Брэнвелл, и она произвела на меня впечатление весьма аккуратной и педантичной дамы, хотя выглядела странно: вся ее одежда была очень старомодной. Она одернула одну из нас, услышав слово «плевок» или «плевать». Брэнвелл был ее фаворитом. Она научила племянниц шить (не знаю, с определенной целью или нет) и не поощряла их занятия, имевшие отношения к культуре. Заставляла девушек шить одежду для раздачи бедным и убеждала меня, что это приносит добро не получающим, а дающим. «Им следует этим заниматься», – говорила она.
Никогда, насколько мне известно, Шарлотта не бывала в приподнятом, восторженном настроении. Если она чувствовала себя хорошо, то разговаривала довольно охотно, а если пребывала в унынии, действительно могла вовсе не вступать в беседу. Она делилась тем, что было у нее на сердце, только в самом лучшем расположении духа, в других состояниях ей не хватало смелости и она высказывалась расплывчато и неопределенно. <…>
Шарлотта говорила, что может общаться с любым человеком, у которого есть шишка на затылке (она имела в виду честность). Я в этом отношении мало отличалась от нее, за исключением того, что она слишком терпимо относилась к глупым людям, если находила в них оть крупицу доброты.
В то время мистер Бронте нанял своим детям учителя рисования, который оказался человеком талантливым, но нетвердым в моральных принципах. Хотя младшие Бронте и не стали профессиональными художниками, они немало почерпнули из его уроков, – по-видимому, им хотелось научиться воплощать те образы, которые порождало их воображение, в зримых формах. Шарлотта рассказывала мне, что в тот период рисование и прогулки с сестрами составляли главные радости ее жизни.
Три девочки обычно шли наверх, к «черно-лиловым» пустошам, однообразная поверхность которых перемежалась то там, то здесь каменными карьерами. Если у них хватало времени и сил на дальний переход, они добирались до водопада – места, где ручей низвергался со скалы на каменистое дно. Вниз, в деревню, они спускались редко: стеснялись встретить кого-нибудь даже из числа знакомых и не решались заходить без приглашения в чужие дома, даже самые бедные. Они прилежно преподавали в воскресной школе, этому занятию особенно предана была Шарлотта, и она продолжала учить детей уже в те годы, когда осталась одна. Но сестры Бронте никогда не вступали в общение с другими по собственной инициативе, предпочитая одиночество и свободу вересковых пустошей.
В сентябре того же года Шарлотта впервые побывала в гостях у своей подруги Э. Она снова оказалась в окрестностях Роу-Хеда и с радостью встретилась с прежними соученицами. После этой поездки мисс Бронте и ее подруга договорились переписываться по-французски, чтобы улучшить знание языка. Однако это улучшение едва ли было велико и привело только к увеличению словарного запаса, поскольку никто не мог объяснить им, что дословный перевод английских идиом еще не составляет французского текста. Само по себе это стремление тем не менее было похвальным. Оно показывало, насколько обе девушки хотели продолжать обучение, начатое в школе мисс Вулер. Я приведу фрагмент из этой переписки. Что бы мы ни думали о языке, этот пример рисует весьма выразительную картинку: старшая сестра возвращается к младшим после двухнедельного отсутствия.
J’arrivait Haworth en parfaite sauvet sans le moindre accident ou malheur. Mes petites soeurs couraient hors de la maison pour me rencontrer aussitt que la voiture se fit voir, et elles m’embrassaient avec autant d’empressement, et de plaisir, comme si j’avais t absente pour plus d’an. Mon Papa, ma Tante, et le monsieur dont mon frre avoit parl, furent tous assembls dans le Salon, et en peu de temps je m’y rendis aussi. C’est souvent l’ordre du Ciel que quand on a perdu un plaisir il y en a un autre prt a prendre sa place. Ainsi je venoit de partir de trs chrs amis, mais tout l’heure je revins des parens aussi chers et bons dans le moment. Mme que vous me perdiez (ose-je croire que mon depart vous tait un chagrin?) vous attendites l’arrive de votre frre, et de votre soeur. J’ai donn mes soeurs les pommes que vous leur envoyiez avec tant de bont; elles disent qu’elles sont sres que Mademoiselle E. est trs aimable et bonne; l’une et l’autre sont extremement impatientes de vous voir; j’espre qu’en peu de mois elles auront ce plaisir77.
Но прежде чем подруги смогли встретиться, должно было пройти некоторое время, и они договорились обмениваться письмами раз в месяц. Эта корреспонденция, как правило, не описывает событий, происходивших в Хауорте. Спокойные дни, занятые преподаванием и хозяйственными делами, не давали пищи для рассказа, и поэтому Шарлотта делилась впечатлениями от прочитанных книг.
Книги были разных видов и жанров и в зависимости от своих качеств располагались в доме в разных местах. Отличавшиеся хорошими переплетами выстраивались рядами в святилище – кабинете мистера Бронте. Покупка книг была для пастора не только роскошью, но и необходимостью, и перед ним часто возникал вопрос, переплести ли заново старую книгу или приобрести новое издание знакомого тома, который жадно прочли все члены семейства и для которого самым подходящим местом теперь оказывалась полка в спальне. В доме было довольно много солидных собраний сочинений. Произведения сэра Вальтера Скотта, стихотворения Вордсворта и Саути78 числились среди литературы для легкого чтения. Были здесь и книги, принадлежавшие ранее Брэнвеллам и носившие на себе отпечаток характера этих корнуолльских последователей праведного Джона Уэсли. А были и книги, о которых можно сказать, как о чтении Каролины Хелстоун в «Шерли»: «Там было несколько старых дамских альманахов, в свое время совершивших со своей владелицей морское путешествие, повидавших бурю и потому испещренных пятнами соленой воды; несколько сумасшедших методистских журналов, наполненных всяческими чудесами, видениями, сверхъестественными пророчествами, зловещими снами и безудержным фанатизмом; такие же сумасшедшие „Письма миссис Элизабет Роу от мертвых к живым“…»79
Мистер Бронте поощрял в дочерях страсть к чтению, хотя тетушка Брэнвелл и держала эту страсть в узде, постоянно предлагая сестрам разнообразные занятия по хозяйству и занимая ими добрую часть дня. Им разрешалось также брать книги из передвижной библиотеки в Китли. До городка было четыре мили, и сестры провели немало часов, шагая по дороге со связкой новых книг и, разумеется, заглядывая в них. Далеко не все эти книги были новыми. В начале 1833 года Шарлотта и ее подруга Мэри почти одновременно принялись читать «Кенилворт»80. Вот что писала об этом мисс Бронте:
Я очень рада, что тебе понравился «Кенилворт», хотя он больше напоминает любовный, чем исторический, роман. Мне кажется, это одно из самых интересных произведений, когда-либо выходивших из-под пера великого сэра Вальтера. Варни, безусловно, олицетворение абсолютного зла. Рисуя этого зловещего и хитроумного человека, Скотт показывает удивительное знание человеческой натуры и поразительное искусство передачи чувств. Он просто заставляет своих читателей перенять это знание.
Может показаться, что этот отрывок содержит только общие места, однако я считаю его примечательным в нескольких отношениях. Во-первых, вместо того, чтобы пересказать сюжет произведения, Шарлотта анализирует исключительно характер Варни. А во-вторых, эта девушка, не знающая ничего о действительности (из-за юного возраста и уединенности от внешнего мира), уже не доверяет «человеческой натуре» до такой степени, что считает злобу и хитроумие ее неотъемлемыми качествами.
Поначалу переписка мисс Бронте с Э. носила довольно церемонный и натянутый характер, однако тон постепенно менялся. Барышни побывали друг у друга в гостях, и после этого в письмах стали мелькать подробности, касавшиеся интересовавших их людей и мест. Летом 1833 года Шарлотта приглашает подругу в гости.
Тетушка считает, что было бы лучше отложить твой приезд до середины лета: не только зима, но и весна в наших горах бывает очень холодной и пасмурной.
Первое впечатление, которое произвели на Э. сестры ее школьной подруги, было следующим. Эмили – высокая, длиннорукая девушка, уже сейчас переросшая старшую сестру, ведущая себя весьма сдержанно. Есть разница между робостью, которую можно разыграть так, что она понравится окружающим, и сдержанностью, когда человеку безразлично, нравится он или нет. Энн, подобно Шарлотте, была робкой, Эмили – сдержанной.
Брэнвелл был красивым мальчиком с «золотистыми» волосами, хотя сама мисс Бронте определяла этот цвет не столь поэтически. С точки зрения Э., все Бронте были очень умны, оригинальны и совершенно не похожи на других ее знакомых. Ее визит обрадовал всех, и Шарлотта впоследствии писала подруге:
Если я правдиво опишу тебе впечатление, которое ты произвела на наших, то ты решишь, что я льщу. Папа и тетя постоянно приводят тебя в качестве примера того, как мне надо себя вести. Эмили и Энн утверждают, что в жизни не видели никого приятнее тебя. И Тэбби, которую ты совершенно очаровала, изливает целые потоки разной чепухи, но я не решусь ее повторить. Однако уже так темно, что я не могу писат дальше, – и это несмотря на способность видеть в темноте, которую приписывали мне юные леди в Роу-Хеде.
Посетителю пастората было непросто заслужить благоволение Тэбби: служанка, с ее йоркширской прямотой и резкостью, привечала далеко не всех.
Деревня Хауорт была построена без соблюдения каких-либо санитарных правил. Большое кладбище располагалось выше всех домов, и страшно подумать, как загрязнялись из-за этого источники питьевой воды. Зимой 1833/34 года, особенно дождливой и промозглой, в деревне умерло множество людей. Для обитателей пастората это было безотрадное время: пустоши превратились в болота, и гулять по ним, как прежде, было нельзя. То и дело раздавался мрачный похоронный звон. Он еще не успевал затихнуть, как уже слышалось: «вжик! вжик!» – это каменотес в стоявшем неподалеку сарае вырезал надписи на могильных плитах. В обитателях пастората должно было давно утвердиться равнодушное отношение к смерти, ведь их дом соседствовал с кладбищем и зрелища и звуки, связанные с последним прибежищем, им приходилось видеть и слышать ежедневно. Но у Шарлотты такого отношения не возникало. Одна из ее подруг пишет: «Помню, как она побледнела и чуть не упала в обморок в хартсхедской церкви, когда кто-то из нас заметил, что мы ступаем по могилам».
Где-то в начале 1834 года Э. впервые отправилась в Лондон. Намерение подруги посетить столицу подействовало на Шарлотту самым странным образом. Последствия этого визита, надо полагать, виделись ей такими, какими их можно представить по изданиям «Британских эссеистов», «Рэмблера», «Миррора» и «Лаунджера»81, которые наверняка стояли среди других книг на полках пасторского дома. Шарлотта, очевидно, воображала, что после посещения громадного города у человека полностью меняется характер, причем к худшему, и была рада увидеть, что ее подруга Э. осталась самой собой. Когда уверенность в этом вернулась, воображение Шарлотты захватили картины тех чудес, которые можно увидеть в столь громадном и знаменитом городе.
Хауорт, 20 февраля 1834 года
Твое письмо доставило мне истинное удовольствие, смешанное, однако, с немалым удивлением. Мэри еще раньше написала о твоем отъезде в Лондон, и я не решалась рассчитывать, что ты найдешь время прислать весточку, когда тебя окружает великолепие этого великого города, который называют торговой столицей Европы. По моему мнению, деревенская девушка, впервые попавшая в мир, где все вызывает интерес и привлекает внимание, должна позабыть, по крайней мере на время, обо всех оставшихся вдали знакомых и полностью отдаться обаянию того, что предстало ее взору. Однако твое милое, интересное и приятное послание показало, что я ошибалась и заслуживаю осуждения за свои предположения. Меня поразил беззаботный тон, с которым ты описываешь Лондон и его чудеса. Разве не чувствовала ты трепет, глядя на собор Сент-Пол и Вестминстерское аббатство? Разве не чувствовала живого интереса при виде Сент-Джеймсского дворца, в котором жило столько английских королей, чьи изображения можно видеть на стенах? Не надо бояться показаться провинциалкой; величие Лондона заставляло изумляться и опытных путешественников, повидавших чудеса и красоты мира. Довелось ли тебе увидеть кого-нибудь из тех великих деятелей, которых сейчас удерживает в Лондоне сессия парламента: герцога Веллингтона, сэра Роберта Пиля, графа Грея, мистера Стэнли, мистера О’Коннела? На твоем месте я не тратила бы много времени на чтение во время пребывания в городе. Не лучше ли дать глазам другое задание: смотреть вокруг – и отложить на время те очки, которыми вооружают нас писатели?
В постскриптуме было добавлено:
Будь добра, сообщи мне, пожалуйста, сколько участников в королевском военном оркестре?
В том же духе написано и другое письмо.
19 июня
Моя дорогая, милая Э.,
теперь я могу с полным правом называть тебя так. Ты уже вернулась или возвращаешься из Лондона, великого города, который кажется мне столь же легендарным, как Вавилон, Ниневия или Древний Рим. Ты удаляешься от мирской суеты, и твое сердце – насколько позволяют судить твои письма – остается столь же простодушным, естественным и правдивым, как и до поездки. О, я совсем, совсем не спешу поверить в доказательства противного! Я знаю свои чувства, свой склад ума, но внутренний мир других людей – это для меня запертая на замок книга или свиток, покрытый иероглифами, и мне не отпереть замка и не прочесть рукописи. Однако время, усердие и долгое знакомство помогут одолеть эти трудности; и в твоем случае, мне кажется, они уже славно поработали, сделав ясным тот тайный язык, все те сложности и темные места, которые приводили в недоумение исследователей, пытавшихся разгадать человеческую душу. <…> Я чрезвычайно благодарна тебе за то, что ты не забываешь о столь ничтожном существе, как я, и надеюсь, удовольствие, которое я чувствую от этого, не совсем эгоистично. Хотя бы отчасти оно происходит от сознания, что характер моей подруги оказался более возвышенным и непреклонным, чем я думала раньше. Немногие девушки способны на такое: увидев весь блеск, все ослепительное великолепие Лондона, остаться верной себе, сохранить от пагубных влияний свое сердце. В твоих письмах не видно никакого жеманства, никакого легкомыслия, никакого фривольного презрения к простоте, никакого следа восхищения поверхностными людьми и вещами.
В наше время, когда дешевые железнодорожные билеты значительно облегчили передвижение, кажется забавной сама мысль, что короткая поездка в Лондон может оказать сколько-нибудь глубокое влияние на человека – как на его нравственные, так и на умственные качества. Но в воображении Шарлотты Лондон, этот огромный апокрифический город, был тем «градом», каким его представляли столетие назад: местом, куда суетные дочери тащат своих сопротивляющихся отцов, где можно встретить неблагоразумных друзей, чье влияние пагубно скажется на душевных качествах или приведет к разорению. Другими словами, это была та «ярмарка тщеславия», о которой говорится в «Путешествии пилигрима»82.
Однако заслуживает восхищения то чувство, с которым она относится к данному предмету.
Хауорт, 4 июля 1834 года
В последнем письме ты просишь меня указать на твои недостатки. Ну разве можно быть такой глупенькой! Нет, я не буду указывать на твои недостатки, потому что я их не вижу. И кем надо быть, чтобы, получив чувствительное и доброе письмо от любимой подруги, приняться в качестве ответа за список ее изъянов! Только вообрази, что я этим занялась, и подумай, каких эпитетов в таком случае я заслужила бы. Высокомерная и лицемерная зазнайка – вот, наверное, самые мягкие из них. Милая моя, у меня никогда не было ни времени, ни желания размышлять в твое отсутствие о твоих недостатках. К тому же твои милые письма, подарки и все прочее постоянно напоминают мне о твоих достоинствах. И вокруг тебя довольно рассудительных родственников, которые лучше, чем я, исполнят столь малоприятную просьбу. Полагаю, они никогда не отказывают тебе в советах, так зачем же мне предлагать еще свои? Если ты не послушаешься их, то никто, даже воскресший из мертвых, не сможет научить тебя. Прошу, если ты только меня любишь, прекратим этот несносный разговор. Мистер ***83 собирается жениться – правда ли это? Что ж, его будущая жена кажется умной и любезной дамой, насколько я могу судить по нашему короткому знакомству и по твоим рассказам. А теперь, после столь лестного отзыва, не набросать ли мне список ее недостатков? Ты пишешь, что размышляешь о том, не уехать ли тебе из ***?84 Мне очень жаль: *** – очень милое место, настоящий старый английский дом, окруженный лужайками и лесами. Дом, хранящий память о прошлом и внушающий (мне, по крайней мере) счастливые чувства. М. считает, что ты мало выросла? Я же не подросла совсем и осталась такой же коротышкой, как и раньше. Ты просишь рекомендовать тебе книги для чтения. Попробую перечислить несколько. Если тебе нравится поэзия, то вот что я поставила бы в первый ряд: Мильтон, Шекспир, Томсон, Голдсмит, Поуп (если захочешь, но у меня он восторга не вызывает), Скотт, Байрон, Кэмпбелл, Вордсворт и Саути. Не пугайся имен Шекспира и Байрона. Оба они великие люди, и их труды подобны им самим. Ты научишься выбирать добро и избегать зла; лучшие фрагменты – это всегда самые чистые; плохие всегда вызывают отвращение, тебе не захочется их перечитывать. Отбрось комедии Шекспира и «Дон-Жуана» (а может быть, и «Каина») Байрона, хотя это и величественная поэма, а прочее читай без страха. Только развращенный ум может научиться злому, прочитав «Генриха VIII», «Ричарда III», «Макбета», «Гамлета» и «Юлия Цезаря». Чудесная, дикая, романтическая поэзия Вальтера Скотта тоже не причинит тебе вреда85. То же можно сказать о Вордсворте, Кэмпбелле, Саути (по крайней мере о большей части его творчества; другая часть весьма спорна). Для знания истории читай Юма, Роллена, а также, если сумеешь, «Всеобщую историю» – сама я не смогла ее одолеть86. Из прозы читай исключительно Вальтера Скотта: с его романами не сравнятся никакие иные. Из биографий прочитай «Жизнь поэтов» Джонсона, «Жизнь Джонсона» Босуэлла, «Жизнь Нельсона» Саути, «Жизнь Бёрнса» Локхарта, «Жизнь Шеридана», «Жизнь Байрона» Мура и «Реликвии» Чарльза Вулфа87. В выборе духовной литературы положись на советы своего брата. Я же скажу только одно: придерживайся традиционных авторов и избегай новых.
Из этого списка видно, что в распоряжении Шарлотты была изрядная библиотека и она могла выбирать себе чтение по вкусу. Становится ясно и то, что две юные леди живо интересовались вопросами, которые занимали людей весьма религиозных. Моральность Шекспира для чувствительной Э. нуждалась в подтверждении со стороны Шарлотты. А чуть ниже она спрашивает, позволительно ли танцевать на вечерах, где проводишь по несколько часов и где присутствуют девушки и юноши. На это Шарлотта отвечает:
Не без колебаний выражу точку зрения, расходящуюся с мнением мистера *** и твоей чудесной сестры. Дело представляется мне следующим образом. Позволительно несомненно, поскольку грех состоит вовсе не в самом действии «дрыганья ногами» (как говорят шотландцы), а в часто сопровождающих его последствиях, а именно: фривольности и пустом времяпрепровождении. Однако, когда этим занимаются так, как ты описываешь, – ради физического упражнения и забавы в течение часа среди молодых людей (чья веселость, безусловно, не нарушает никаких Божьих заповедей), этих последствий можно не опасаться. Ergo88 (такое заключение диктует моя манера рассуждения), подобное развлечение совершенно невинно.
Расстояние между Хауортом и Б. составляло всего семнадцать миль, и пройти этот путь пешком, не нанимая двуколки или иной повозки, было тяжело. Поэтому каждая поездка Шарлотты к подруге требовала приготовлений. Хауортская двуколка не всегда была свободна, а мистер Бронте часто не желал способствовать встречам в Бредфорде или где-то еще – встречам, которые могли принести хлопоты другим людям. И отца, и дочь отличала некая гордость, заставлявшая их избегать одолжений. Всякий раз, бывая у кого-то в гостях, они боялись «засидеться». Мистер Бронте был мнителен и при этом кичился знанием человеческой природы. Сама же Шарлотта всегда боялась слишком открыто выражать привязанность, чтобы не утомлять тех, кого любишь. Она часто сдерживала свои теплые чувства и всегда проявляла осторожность, даже когда ее присутствие безусловно радовало истинных друзей. Поэтому, когда Шарлотту приглашали в семейство Э. погостить на месяц, она приезжала не более чем на две недели. Радушные хозяева с каждым разом относились к ней все лучше и лучше, принимая ее с такой радостью, словно она была сестрой Э.
Интерес к политике, возникший еще в детстве, по-прежнему оставался в силе. В марте 1835 года Шарлотта писала:
Что ты думаешь о направлении, которое принимают политические дела? Задаю этот вопрос, полагая, что теперь они тебя живо интересуют, хотя раньше ты была ими не слишком занята. Как видишь, Б. торжествует. О, ничтожный! Всем сердцем ненавижу его. Нет на свете человека, к которому я относилась бы хуже. Между тем оппозиция разделена – «раскаленные докрасна» и «теплые», а герцог (лучше так: Герцог) и сэр Роберт Пиль не подают признаков обеспокоенности, хотя их уже дважды побеждали. «Courage, mon amie!»89 – как говаривали в старину рыцари перед битвой.
В середине лета 1835 года в пасторском доме собрался большой семейный совет. Обсуждали важный вопрос: к какому занятию следует готовить Брэнвелла? Ему уже исполнилось восемнадцать лет, и пришло время принять решение. Юноша был, несомненно, очень умен, более того, его считали самым талантливым в этой совсем не обделенной дарованиями семье. Впрочем, сестры не спешили признавать собственные таланты – ни каждая свои, ни друг друга, но это не распространялось на обожаемого брата. Отец, ничего не знавший о многочисленных проступках сына, также гордился даровитым отпрыском, и достижения Брэнвелла охотно демонстрировались всем желающим. Восхищение окружающих льстило молодому человеку. В результате он оказывался желанным гостем на всех «арвиллах» и других деревенских гулянках: йоркширцы умели ценить ум и талант. Хозяин таверны «Черный бык» неизменно рекомендовал своим заезжим посетителям, заскучавшим в одиночестве над кружкой, разделить компанию с этим молодым человеком: «Не желаете ли, чтобы кто-нибудь помог вам прикончить эту бутылку, сэр? Если желаете, я пошлю за Патриком». (Жители деревни называли его до самой смерти по первому имени.) И пока мальчишка бегал за Брэнвеллом, хозяин развлекал гостя рассказами о поразительных талантах юноши, о его необыкновенно рано развившемся уме, способности поддерживать разговор – обо всем, что составляло гордость всей деревни.
Приступы нездоровья, которым был подвержен в поздние годы мистер Бронте, заставляли его обедать в одиночестве (во избежание соблазнов разделить с кем-то нездоровую для себя пищу), а следующие за трапезой часы проводить в полном покое. Эта необходимость, а также пасторские обязанности были причиной того, что мистер Бронте почти ничего не знал о том, как проводит внеклассное время его сын. Собственная юность будущего священника прошла среди людей, занимавших примерно то же место в обществе, что и товарищи Брэнвелла; однако мистер Бронте обладал большой силой воли, характером, решительностью в достижении поставленных целей – именно теми качествами, которых недоставало его сыну.
Просто удивительно, с какой охотой все члены семейства занимались рисованием. Мистер Бронте приложил немалые усилия, чтобы его дети получили хорошие уроки, однако девочки и так любили все связанное с этим искусством. Их увлекали любые описания знаменитых картин или сделанные с них гравюры, а за неимением гравюр довольствовались случайными оттисками или рисунками: внимательно изучали их, обращая внимание на то, какая идея вложена в композицию картины, что это произведение должно было внушить зрителю по замыслу художника и что на самом деле внушает. Так же девочки относились к плодам собственного воображения: им, правда, не хватало мастерства, но они никогда не испытывали недостатка в идеях. Одно время Шарлотта подумывала о том, чтобы зарабатывать на жизнь рисунками, и испортила себе глаза, вырисовывая каждую деталь так же тщательно, как это делали предшественники Рафаэля, – хотя и без их достоверности, поскольку ее рисунки исходили по большей части из воображения, а не из природы.
В таланте Брэнвелла как живописца никто не сомневался. Мне довелось видеть его картину, которая была написана маслом приблизительно в то время. Она изображала его сестер в полный рост, в три четверти. По технике исполнения картина немногим превосходила вывески, однако сходство было схвачено удивительно. Я могу судить об этом, поскольку видела, как похожа была на свое изображение Шарлотта, державшая это полотно в тяжелой раме и, соответственно, стоявшая вплотную к нему. Прошло десять лет с момента написания, но сходство оставалось замечательным, и можно предположить, чт столь же похожими на свои портреты были и две другие сестры. Картину разделяла почти посредине большая колонна90. С освещенной солнцем стороны этой колонны стояла Шарлотта, одетая в характерное для той эпохи платье с рукавами «жиго ягненка» и с широким отложным воротником. С другой, затемненной стороны стояла Эмили – ее плечо было скрыто нежным личиком Энн. Лицо Эмили поражало своей скрытой силой, лицо Шарлотты – озабоченностью, а лицо Энн – нежностью. Младшие сестры были изображены с короткими волосами и в детских платьицах: они еще явно не достигли взрослых лет, хотя Эмили на картине ростом уже выше Шарлотты. Я помню, как вглядывалась в эти печальные, серьезные, чем-то омраченные лица и пыталась найти в них знаки, мистическим образом предсказывающие раннюю смерть. И мной владела суеверная надежда на то, что эта колонна, отделяющая судьбы двух сестер от судьбы третьей, стоящей несколько в стороне, является знаком того, что Шарлотта выживет. Мне было по душе, что светлая сторона колонны обращена именно к ней и что на нее падает свет на этом портрете. Я оказалась бы более проницательной, если бы смогла угадать в ее изображении – нет, в ее живом лице – то, что она умрет в расцвете сил. Сходство, повторяю, было удивительным, хотя техника исполнения оставляла желать лучшего. Думаю, семья предрекала Брэнвеллу, что он мог бы стать великим художником, и, наверное, он стал бы им, если бы не недостаток способностей и, увы, моральных качеств.
Лучший способ подготовить его к художественному поприщу был, разумеется, отъезд в столицу и поступление в Королевскую академию искусств. Полагаю, сам юноша страстно желал пойти по этому пути прежде всего потому, что тогда он попал бы в Лондон – тот великий Вавилон, который, похоже, буквально заполонил воображение молодых членов уединенно живущего семейства. А для Брэнвелла этот город был больше чем воображаемой картиной – он уже превращался в своего рода действительность. Молодой человек внимательно изучал карты и прекрасно знал весь город, включая самые укромные закоулки, словно долго жил в нем. Бедный юноша! Эта жажда увидеть Лондон, это стремление к славе так и не были удовлетворены. Ему было суждено рано умереть, прожив несчастную жизнь. Но в тот год, о котором мы говорим, – 1835-й, – домашние только и думали, как бы помочь Брэнвеллу осуществить его мечты. Что именно входило в планы семейства, пусть объяснит Шарлотта. Сестры Бронте были не первыми в мире, кто жертвовал своими судьбами в пользу брата, – они сотворили из Брэнвелла кумира. Однако пусть Господь сделает так, чтобы они стали последними, кто получил в ответ так мало!
Хауорт, 6 июля 1835 года
Я надеялась иметь счастье увидеть тебя в Хауорте этим летом, но человек не может предсказать развитие событий, и наши решения должны согласовываться с внешними обстоятельствами. Мы все собираемся разъехаться в разные стороны. Эмили отправится в школу, Брэнвелл – в Лондон, а я стану гувернанткой. Это последнее решение я приняла сама, понимая, что такой шаг неизбежен и лучше сделать его «раньше, чем позже», как говорят шотландцы. Кроме того, я рассудила, что папин, и без того небольшой, доход еще уменьшится, если Брэнвелл поступит в Королевскую академию, а Эмили – в Роу-Хед. Ты спросишь, и где же я собираюсь поселиться? Всего в четырех милях от тебя, в месте, весьма знакомом нам обеим: не где-нибудь, а в том самом Роу-Хеде, о котором я только что упомянула. Да! Я собираюсь стать учительницей в той же школе, где училась сама. Мисс Вулер предложила мне место, и я предпочла его двум другим местам гувернантки в частных домах, которые мне предлагали раньше. Мне грустно, и очень грустно, от мысли, что придется покинуть родной дом. Однако долг и необходимость – это две суровые госпожи, которых нельзя не послушаться. Разве не говорила я тебе много раз, что ты должна быть благодарна судьбе за свою независимость? Могу только повторить это сейчас с большей настойчивостью. Если что и радует меня, так это то, что я окажусь поблизости от тебя. Разумеется, вы с Полли станете навещать меня – в этом не может быть никаких сомнений, ведь вы всегда были так добры ко мне. Мы с Эмили отправляемся 27 числа сего месяца. То обстоятельство, что мы будем с ней вместе, нас несколько утешает, и, по правде говоря, мне следует отнестись к происходящему с большей легкостью. «Межи мои прошли по прекрасным местам»91. Я и люблю, и уважаю мисс Вулер.
Глава 8
Шарлотта, которой было чуть больше девятнадцати лет, 29 июля 1835 года приступила к выполнению обязанностей учительницы в школе мисс Вулер. С ней приехала и Эмили – поступила в школу в качестве ученицы. Однако вскоре младшая Бронте в буквальном смысле слова заболела тоской по дому, она не могла приспособиться к новой жизни и спустя всего лишь три месяца, проведенные в Роу-Хеде, вернулась в пасторат, к своим любимым пустошам.
Мисс Бронте так объяснила причины, почему Эмили не смогла остаться у мисс Вулер:
Моя сестра Эмили очень любила наши пустоши. Цветение вереска казалось ей ярче роз, и синевато-серый склон горы преображался в ее воображении в настоящий Эдем. Наше бедное захолустье было исполнено для нее многими радостями, не последней из них была свобода. Свобода – это воздух, которым дышала Эмили, без нее она бы погибла. И переезд из родного дома в школу означал конец того тихого, уединенного, но в то же время ничем не ограниченного и естественного образа жизни, который она привыкла вести раньше, а строгой дисциплины (хотя и под покровительством самых благожелательных наставниц) Эмили не могла вынести. Весь склад ее души противился здешней жизни. Каждое утро, пробуждаясь ото сна, она видела родной дом и вересковые поля, и весь предстоящий день казался ей темным и грустным. Никто, кроме меня, не понимал, что ее угнетало. Но я-то знала это очень хорошо. Под влиянием происходившей в ней внутренней борьбы здоровье Эмили вскоре оказалось подорвано: сестра выглядела бледной, сильно похудела и быстро теряла силы. Я предчувствовала, что она умрет, если не вернется домой, и по этой причине добилась ее возвращения. В школе Эмили пробыла всего три месяца, и прошло еще несколько лет, прежде чем мы снова решились отослать ее из дома92.
То, что Эмили в отрыве от Хауорта испытывала физические недомогания, подтверждалось несколько раз и в конце концов было признано всеми. Поэтому, если сестрам приходилось покидать родной дом, они обычно оставляли Эмили дома, где в одиночестве ей становилось легче. За всю жизнь она уезжала из Хауорта только два раза: впервые – чтобы занять место учительницы в Галифаксе (это продлилось три месяца), а другой раз – когда сопровождала Шарлотту в поездке в Брюссель (в течение десяти месяцев). Дома Эмили брала на себя главный труд по приготовлению пищи, гладила для всех одежду, а когда состарившаяся Тэбби уже не могла работать, именно Эмили пекла хлеб для всей семьи. Проходя мимо кухни, частенько можно было увидеть, как Эмили замешивает тесто и одновременно, глядя в раскрытый учебник, учит немецкий. Как бы ни увлекала ее учеба, это не сказывалось на качестве хлеба – он всегда получался легким и вкусным. Никого в доме не удивляло, что книги часто оказывались на кухне: отец учил девушек теоретическим предметам, а тетушка давала практические наставления по части домашнего хозяйства. Делать что-либо по дому сестры считали всего-навсего долгом любой женщины. Однако, бережно относясь ко времени, они часто находили несколько минут, чтобы почитать, при этом приглядывая за выпечкой, и им удавалось делать два дела одновременно лучше, чем королю Альфреду.
Шарлотту, пока ее здоровье оставалось в порядке, вполне удовлетворяла жизнь у мисс Вулер. Она искренне любила свою бывшую учительницу, а теперь коллегу и подругу. Ученицы тоже не были ей совсем чужими: некоторые из них приходились младшими сестрами ее однокашницам. Даже если дневные труды могли утомить однообразием, то вечером всегда выпадало два-три счастливых часа, когда Шарлотта могла посидеть вдвоем с мисс Вулер, иногда до поздней ночи проводя время в тихих и приятных разговорах или даже в молчании, поскольку каждая чувствовала: любая ее мысль или замечание найдет немедленный отклик у собеседницы и потому им не надо заставлять себя «поддерживать разговор»93.
Мисс Вулер делала все от нее зависящее, чтобы предоставить мисс Бронте возможность отдохнуть. Однако было очень трудно убедить Шарлотту принять приглашения и провести субботу и воскресенье в гостях у Э. или Мэри, куда можно было добраться от школы пешком. Мисс Бронте считала, что позволить себе отдохнуть денек – значит отступить от своего долга, и с упорством настоящего аскета отвергала любые предложения развеяться, нарушая тем самым важное для сохранения здоровья равновесие телесного и душевного. Это подтверждает письмо от Мэри, на которое я уже ссылалась. Вот фрагмент из него:
Спустя три года (после их совместного обучения в школе) я узнала, что она устроилась учительницей к мисс Вулер, и посетила ее там. Я спросила, зачем она так надрывается за столь малые деньги, в то время как могла бы вполне обойтись без этого? Ведь после того, как она купила одежду для Энн и для себя, у нее ровным счетом ничего не осталось, хотя она и рассчитывала кое-что скопить. Шарлотта признала, что положение ее совсем не блестящее, и спросила, как же ей быть? Я не нашлась ничего ответить. Похоже, у нее не было других интересов, кроме того, что диктовал ей долг, и в свободное время она просто сидела в одиночестве и «придумывала». Впоследствии она рассказала, что как-то раз засиделась в гардеробной, пока не стало совсем темно, и вдруг как бы охватила одним взглядом всю комнату и испытала приступ страха.
Нет никаких сомнений, что именно этот случай мисс Бронте припомнила, когда описывала ужас, охвативший Джейн Эйр. Вот что она написала в романе:
И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в сумраке стены, а также бросая время от времени тревожный взгляд в тускло блестевшее зеркало, я стала припоминать все слышанные раньше рассказы о том, будто умершие, чья предсмертная воля не выполнена и чей покой в могиле нарушен, иногда посещают землю… <…> Всеми силами я старалась отогнать от себя эту мысль, успокоиться. Откинув падавшие на лоб волосы, я подняла голову и сделала попытку храбро обвести взором темную комнату. Какой-то слабый свет появился на стене. Я спрашивала себя, не лунный ли это луч, пробравшийся сквозь отверстие в занавесе? Нет, лунный луч лежал бы спокойно, а этот свет двигался; пока я смотрела, он скользнул по потолку и затрепетал над моей головой. Теперь я охотно готова допустить, что это была полоска света от фонаря, с которым кто-то шел через лужайку перед домом. Но в ту минуту, когда моя душа была готова к самому ужасному, а чувства потрясены всем пережитым, я решила, что неверный трепетный луч – вестник гостя из другого мира. Мое сердце судорожно забилось, голова запылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев; я ощущала чье-то присутствие…94
Мэри продолжает:
После того случая она стала воображать мрачные и пугающие вещи. С ней ничего нельзя было поделать: Шарлотта все равно продолжала об этом думать. Она не могла забыть этот мрак, не спала по ночам и имела отсутствующий вид днем.
Разумеется, такое состояние пришло не сразу, и эти строки не следует принимать за описание состояния ее здоровья в 1836 году. Но даже тогда в ее письмах сквозило некоторое уныние, напоминавшее письма Купера95. Примечательно, насколько глубоко впечатлили Шарлотту его стихотворения. Я полагаю, что его строчки она припоминала чаще, чем слова кого-либо еще из поэтов96.
По свидетельству Мэри, все они читали поэму Купера «Отверженный» и так высоко ее ценили, как будто она была написана о них самих.
Шарлотта как-то раз сказала, что Брэнвелл так считал. Конечно, его угнетенное состояние духа стало результатом его заблуждений, однако само по себе оно мало отличалось от приступов уныния, преследовавших Шарлотту. Оба страдали не только душой, но и телом. Она, конечно, замечала, что ее состояние не меняется, и догадывалась о причинах. Религиозное смирение было в ней сильнее, чем в людях мало испытавших, и ее советы уповать на Господа подразумевали, что это приносит утешение; однако она не навязывала никому свои советы. Однажды я рассказала о том, как один человек спросил меня о моей вере (имея в виду обратить меня в свою), и я ответила, что это не касается никого, кроме меня и Бога. Эмили (помню, она в тот момент лежала на ковре перед камином), услышав мой рассказ, воскликнула: «Верно!» – и это было единственное ее высказывание по религиозным вопросам, которое мне доводилось слышать. На Шарлотту, если она чувствовала себя неплохо, религиозные мысли не навевали уныния. Если же она чувствовала себя неважно, угнетенное душевное состояние возвращалось. Вам, вероятно, встречались подобные случаи в жизни. Есть люди, которые не борются с трудностями; они просто забывают о них, когда позволяет здоровье, желудок или какой-нибудь другой орган, причиняющий беспокойство тем, кто ведет сидячий образ жизни. Я слыхала от нее осуждения соционизма97, кальвинизма и множества других «измов», несогласных с доктриной англикан. Меня всегда удивляло, что она разбирается в подобных вопросах.
10 мая 1836 года
Твое письмо, переданное вместе с зонтиком, меня сильно удивило. В нем виден такой интерес к обстоятельствам моей жизни, какого я была не вправе ожидать ни от кого на земле. Не буду разыгрывать лицемерку: я не смогу ответить на твои милые дружеские вопросы так, как тебе хотелось бы. Пожалуйста, не обманывай себя, воображая во мне те достоинства, которых нет. Моя дорогая, если я была бы похожа на тебя, я обратила бы лик свой к Сиону, хотя предрассудки и заблуждения иногда и омрачали бы сияющую картину перед моими глазами, – однако я не ты. Если бы ты только знала мои мысли, поглощающие меня мечтания, те пламенные картины, какие временами порождает мое воображение, заставляя меня чувствовать отвращение к пошлому обществу, то тебе пришлось бы пожалеть меня и даже, может быть, испытать ко мне презрение. Но я знаю, ценю и люблю сокровища, которые дарует нам Писание. Я ясно вижу сияющую Стену Жизни, но, когда я склоняюсь, чтобы зачерпнуть чистой воды, она избегает моих губ, словно губ Тантала98.
Я благодарна тебе за столь любезные и частые приглашения в гости. Ты приводишь меня в смущение. Отказать тебе я не в состоянии, но и принять их выше моих сил. Как бы там ни было, на этой неделе я не смогу приехать, поскольку мы сейчас находимся в самой mele99 повторений. Я выслушивала ужасный пятый раздел, когда принесли твое письмо. Однако мисс Вулер говорит, что мне надо в следующую пятницу навестить Мэри, – она обещала мне это на Троицу, – и, значит, в воскресенье утром мы увидимся с тобой в церкви, и тогда, если тебе будет удобно, я могла бы остаться до понедельника. Вот какое смелое предложение! Мисс Вулер подвигла меня на него. В этом сказывается ее характер.
Милая, добрая мисс Вулер! Какими бы однообразными и утомительными ни были обязанности, которые исполняла Шарлотта в школе, с ней всегда была ее доброжелательная и внимательная подруга, убеждавшая ее не упускать возможности немного развлечься. И во время летних каникул 1836 года другая подруга Шарлотты – Э. – приехала в гости в Хауорт. Это предвещало счастливое для обеих время.
Далее последует ряд писем – недатированных, но несомненно написанных в том же году чуть позже; и нам снова придется вспомнить о нежном и меланхоличном Купере.
Моя дорогая, дорогая Э.,
я только что прочитала твое письмо и не могу унять дрожи от волнения. Я никогда не получала такого письма: это свободное излияние доброго, нежного, щедрого сердца. <…> Благодарю тебя от всей души за доброту. Я не буду больше воздерживаться от ответов на твои вопросы. Я действительно хотела бы стать лучше, чем я есть сейчас, и иногда молю Господа сделать меня лучше. Я мучаюсь угрызниями совести, чувствую раскаяние, временами меня посещают видения священных, невыразимых явлений, о которых я ничего не знала раньше. Все это может прекратиться, и я останусь в полной тьме, но я умоляю милосердного Искупителя: если это только рассвет Благодати, то пусть она воссияет в полную силу. Пожалуйста, не вводи меня в заблуждение, не говори, что я уже достигла добродетели: я только желала бы этого. О, как я ненавижу свою прежнюю ветреность и самоуверенность! Увы, я и сейчас не лучше, чем была. Я пребываю в состоянии ужасной, мрачной неуверенности и предпочла бы сделаться седовласой старухой, стоящей на краю могилы, если это помогло бы мне примириться с Господом и спастись благостью Сына Его. Я никогда не забывала полностью об этом, но истина была скрыта от меня, и теперь покрывающие ее тучи сгущаются все сильнее и я все больше падаю духом. Ты утешаешь меня, моя милая, и порой – на мгновение, на малый атом времени – мне кажется, что я могла бы назвать тебя своей сестрой в Духе, но проходит волнение, и я снова чувствую себя столь же несчастной и беспомощной, как раньше. Сегодня вечером я буду молиться так, как ты просила меня. О, только бы Всемогущий был милостив ко мне! Я смею надеяться, что он снизойдет к моим молитвам, ибо ты укрепишь мои нечистые слова своими чистейшими просьбами. Все суета и смятение вокруг меня: приходится заботиться о деньгах и об уроках… Если ты меня любишь, пожалуйста – пожалуйста, пожалуйста! – приезжай в пятницу: я не сомкну глаз, ожидая тебя, а если ты обманешь мои ожидания, я буду плакать. Как мне хотелось бы, чтобы ты почувствовала ту дрожь восхищения, которую испытала я, когда, стоя у окна в столовой, увидела… как он пронесся мимо и перебросил твой маленький сверток через ограду.
Рыночный день в Хаддерсфилде был важнейшим событием в Роу-Хеде. В этот день девочки, обежав дом и миновав рощу с тенистой аллеей, могли увидеть отца или брата, отправлявшегося в повозке на рынок, и помахать ему вслед. Шарлотта Бронте, стоявшая у окна, где ученицам стоять запрещалось, увидела, как белый сверток, брошенный сильной рукой, перелетает через ограду, в то время как человека, его бросившего, увидеть было нельзя.
Я очень устала после тяжелого дня <…> и теперь присела написать несколько строчек моей дорогой Э. Прости меня, если я говорю бессмыслицу, мой ум совсем утомлен и дух подавлен. Сегодня выдался ненастный вечер, ветер издает непрерывный протяжный вой, и это подавляет меня еще больше. В такие дни и в таком настроении я всегда стараюсь найти утешение в какой-нибудь спокойной и безмятежной идее и сегодня вызываю в воображении твой образ, который всегда успокаивает меня. Вот ты сидишь передо мной, как наяву: прямая и спокойная, в своем черном платье и белой шали, с лицом бледным, как мрамор. Кажется, ты сейчас заговоришь со мной. Если нам суждено разлучиться, если жребий судил нам жить вдалеке друг от друга и никогда не встретиться снова, даже в старости, то я смогу все же воскрешать в памяти молодость, и какое же грустное счастье это будет – вспоминать о подруге юных дней! <…> В моем характере много такого, что делает меня несчастной, много чувств, которые ты не сможешь разделить и которые почти никто не понимает. Я вовсе не горжусь такими особенностями и стараюсь скрыть и подавить их, насколько это в моих силах, однако они порой вырываются наружу, и те, кто их замечает, не могут не презирать меня, да и сама я потом еще долго ненавижу себя. <…> Я получила твое письмо и то, что к нему приложено. Не могу понять, что заставляет тебя и твоих сестер тратить запасы своей доброты на такое создание, как я. Я столь многим обязана им: пожалуйста, передай им это. Обязана и тебе – и за письмо больше, чем за подарок. Первое доставило мне радость, второй почти причинил боль.
Нервное возбуждение, часто посещавшее Шарлотту во время пребывания у мисс Вулер, похоже, снова стало беспокоить ее в описываемое время. По крайней мере, сама она пишет о болезненной раздражительности, которая, разумеется, представляла собой всего лишь временное недомогание.
Ты была очень добра ко мне в последнее время, и я благодарна за то, что ты перестала подшучивать над моей несчастной чувствительностью. Эти шутки раньше каждый раз заставляли меня вздрагивать, словно от прикосновения к горячему утюгу. Действительно, явления, которых никто не замечает, ранят меня и вливают в мою душу яд. Я понимаю, что такие чувства нелепы, и стараюсь скрывать их, но они жалят меня еще безжалостней за свое сокрытие.
Попробуйте сравнить это состояние ума с той тихой покорностью, с которой Шарлотта признавала себя ни на что не годной или соглашалась, когда соученицы замечали, что она некрасива, – всего три года назад.
Со времени нашей последней встречи жизнь моя проходила однообразно и без перемен. Ничего, кроме учения, учения и учения с утра и до ночи. Наибольшее разнообразие в мое существование внесло твое письмо, а также чтение новых книг. Из последних надо упомянуть «Жизнь Оберлина»100 и особенно «Семейные портреты» Ли Ричмонда101 – она увлекла меня чрезвычайно. Прошу тебя, одолжи ее у кого-нибудь немедленно или даже укради. И с особым вниманием прочти «Воспоминания Уилберфорса»102 – это краткое повествование о недолгой и лишенной событий жизни; я никогда его не забуду, ибо оно превосходно не только по части литературного стиля и детальным описаниям, но и по простоте рассказа о жизни молодого, талантливого и искреннего христианина.
Примерно в это время школа мисс Вулер переехала из прекрасного, открытого свежему ветру дома в Роу-Хеде в другое место – Дьюсбери-Мур, всего в трех милях от первого. Эта резиденция была расположена в низине, и воздух там казался куда менее чистым и бодрящим – особенно тем, кто вырос в горной деревне Хауорт. Шарлотта сильно переживала из-за этого переезда, волнуясь не столько за себя, сколько за сестру Энн. Более того, Эмили решила поступить на место учительницы в школу, находящуюся в Галифаксе, где занимались почти сорок учениц. «Со времени ее отъезда я получила всего одно письмо, – жаловалась Шарлотта 2 октября 1836 года, – и оно содержало ужасное описание ее служебных обязанностей: тяжелый труд с шести утра до одиннадцати ночи, с перерывом всего на полчаса. Боюсь, она не выдержит такого рабства».
Когда сестры встретились дома на Рождество, они подробно рассказали друг другу о своей жизни и обсудили те перспективы, которые могла им дать работа и полагающееся за нее жалованье. Они считали своим долгом освободить отца от бремени финансовой поддержки дочерей, если и не всех трех сразу, то по крайней мере двух старших. Из этого следовало естественное решение: Шарлотта и Эмили должны найти себе оплачиваемые занятия. Они понимали, что на наследство рассчитывать не стоит. Мистер Бронте получал скромное жалованье и в то же время был человеком щедрым и тороватым. Тетушка получала пятьдесят фунтов ренты, но после ее смерти эти деньги должны были перейти к другим родственникам, и племянницы не могли получить ее сбережения. Что же им оставалось? Шарлотта и Эмили пытались преподавать, но большого дохода это не приносило. Старшей повезло: ее работодательницей оказалась близкая подруга, а кроме того, Шарлотта была окружена знающими и любящими ее людьми. Однако жалованье оказалось столь незначительным, что из него нечего было откладывать на черный день, а имеющееся у Шарлотты образование не позволяло ей претендовать на что-либо большее. Малоподвижный и монотонный образ жизни, который ей приходилось вести, угнетал ее душу и пагубно сказывался на здоровье, хотя мисс Бронте, желавшая быть самостоятельной, едва ли призналась бы в этом даже себе. Куда хуже приходилось Эмили, этой неукротимой дикарке, которая чувствовала себя счастливой только рядом с родными бесконечными пустошами, – Эмили, не терпевшей чужих людей, но обреченной жить среди них, и не просто жить, но служить им, словно рабыня. То, что Шарлотта могла вытерпеть сама, казалось ей невыносимым по отношению к сестре. Так где же выход из этого положения? Когда-то ей казалось, что она сумеет стать художницей и зарабатывать на жизнь рисованием. Однако ее подвели глаза: зрение совсем испортилось, когда она взяла на себя скрупулезный и бесполезный труд, желая приблизиться к этой цели.
У сестер было обыкновение заниматься шитьем до девяти вечера. В это время мисс Брэнвелл обычно отправлялась спать и обязанности ее племянниц по дому считались оконченными. Тогда они откладывали работу и принимались ходить по гостиной туда и обратно – часто при погашенных из соображений экономии свечах. Их фигуры освещал только огонь камина, и они то выходили на свет, то скрывались в глубокой тени. В эти часы они обсуждали заботы прошедшего дня, строили планы на будущее, давали советы друг другу. В более поздние годы по вечерам в эти часы они обсуждали сюжеты своих романов. А еще позже только одна оставшаяся в живых сестра расхаживала по опустевшей комнате, с грустью вспоминая «дни, которые не придут назад». Но на праздновании Рождества 1836 года надежды и упования на будущее были еще сильны. Давным-давно сестры попробовали свои силы в писательстве, выпуская крохотный домашний журнальчик, – они вечно что-нибудь «выдумывали». Они писали также стихи и имели некоторые основания считать, что неплохие, но при этом понимали, что следует трезво относиться к себе и что их суждения о творчестве друг друга не могут быть объективными. Поэтому Шарлотта, как старшая, решилась написать письмо Роберту Саути. Мне кажется (на основании одного высказывания в письме, о котором я скажу позже), что она также просила совета у Колриджа103, однако мне никогда не попадалась хотя бы часть их переписки.
29 декабря письмо, адресованное Саути, было отослано по назначению. От волнения – впрочем, вполне естественного для девушки, которая решилась написать поэту-лауреату с просьбой высказать мнение о своих стихах, – Шарлотта использовала в своем послании ряд высокопарных выражений, и они, по всей вероятности, внушили адресату уверенность, что он имеет дело с весьма романтически настроенной юной леди, незнакомой с реальной жизнью.
Это письмо, похоже, было первым из нескольких смелых писем, отправленных из маленького почтового отделения в Хауорте. Обратные письма доставлялись в деревню в выходные по утрам, и не одно такое утро прошло в тщетном ожидании ответа. Сестры разъехались, и Эмили, вернувшаяся к своим тяжелым обязанностям, так и не узнала до отъезда, достигло ли письмо Шарлотты назначения.
В отличие от сестер, Брэнвелл не был обескуражен задержкой ответа и поступил похожим образом, отправив нижеследующее примечательное письмо Уильяму Вордсворту. Впоследствии, в 1850 году, когда фамилия Бронте стала известной и даже знаменитой, поэт передал это письмо мистеру Квиллинэну104. У меня нет оснований утверждать, что мистер Вордсворт ответил на это послание, однако можно предположить, что он посчитал письмо оригинальным, поскольку не только сохранил его, но и сумел припомнить, когда читающей публике было раскрыто подлинное имя Каррера Белла105.
Хауорт, близ Бредфорда, Йоркшир, 19 января 1837 года
Сэр,
весьма настоятельно прошу Вас прочесть приложенное к этому письму и высказать свое суждение. С самого рождения и до сего года, когда мне исполнилось девятнадцать лет, я проживаю в отдаленной горной местности, где невозможно понять, кто ты такой и к чему пригоден. Я читал всю жизнь книги по той же причине, по которой ем или утоляю жажду, – из естественной потребности натуры. И я писал так же, как говорил, – повинуясь порыву и выполняя требования души. Не писать я не могу и как могу, так и пишу, – вот и все. Что же до моего самомнения, то оно не укреплено лестью, потому что до сего дня не более полудюжины человек на всем свете были осведомлены о том, что я пишу.
Однако теперь все переменилось, сэр, и я вошел в возраст свершений. Силы, которыми я наделен, должны вести меня к определенной цели, и, если я не знаю им цены, мне должно спросить других об их ценности. Однако в наших краях нет никого, кто мог бы мне помочь, и я не хотел бы терять время на развитие своего дара, если он ничего не стоит.
Прошу простить меня, сэр, за то, что я осмеливаюсь представить одному из тех, чьи труды я почитаю более всего в нашей литературе и кто мнится мне божеством разума, – осмеливаюсь представить некоторые из своих сочинений и просить вынести им оценку. Мне необходимо показать их кому-нибудь, чей приговор не подлежит обжалованию, – тому, кто создал теорию поэзии наряду с ее практикой и в обоих случаях потрудился так, что останется в памяти человечества на тысячи лет.
Моя цель, сэр, – пробиться в большой мир, и для этого я полагаюсь не только на поэзию. Она должна только спустить на воду корабль, но дальше он поплывет без нее: чувствительная и ученая проза, смелые и бодрые усилия в продвижении по жизни помогут мне создать себе имя, и затем поэзия снова осветит и увенчает это имя славой. Но ничего нельзя начать без средств, а поскольку я их не имею, я должен быть готов предпринять усилия для их обретения. Разумеется, в наши дни, когда среди всей пишущей братии не найти поэтов, стоящих хотя бы грош, путь должен быть открыт для таланта, готового по нему пройти.
Посылаю Вам «Предварительную сцену», являющуюся частью большого сочинения, в котором я пытаюсь показать сильные страсти и слабые принципы, борющиеся с развитым воображением и тонкими чувствами. Борьба эта с годами, когда юность уступает место зрелости, оборачивается злыми делами, краткими наслаждениями и оканчивается безумием и разрушением телесной оболочки. Прислать Вам всю вещь значило бы подвергнуть большому испытанию Ваше терпение. То, что Вы прочтете, – не более чем описание воображаемого ребенка. Но прочтите этот отрывок, сэр, и осветите своим светом полную тьму, проявите столь ценимую Вами самим добросердечность: отправьте мне ответ, пусть даже одно слово о том, следует мне писать дальше или нет. Простите мне излишнюю горячность: мои чувства в данном случае не могут не быть горячи, и примите, сэр, уверения в самом глубоком почтении.
Ваш покорный слуга,
П. Б. Бронте.
Приложенные стихи кажутся мне весьма похожими на некоторые фрагменты самого письма, но, поскольку каждый предпочитает судить самостоятельно, я скопирую сюда шесть первых строф – это примерно треть всего произведения, и определенно не худшая.
- Там, где Господь наш пребывает,
- Где звезды ночью не мерцают,
- Где райский свет всегда сияет,
- Зачем меня там нет?
- Когда под Рождество не спится
- И в сумерках тоска клубится,
- Картина страшная мне мнится:
- На Древе Он умрет!
- Я в детстве часто пробуждался
- И крика своего пугался
- От снов, в которых Он являлся,
- Угасший Высший Свет.
- Мать, утешая, говорила:
- В тебе таится Слова сила,
- Тебе не суждена могила,
- Погибели уж нет.
- Ура, я райский свет увижу,
- Прощай, нелепый страх!
- Я ясно этот день предвижу
- Сквозь слезы на глазах.
- Прилягу я среди могил,
- Отвергну мир забот
- И буду наблюдать светил
- Волшебный хоровод.
Вскоре после возвращения из Дьюсбери-Мура Шарлотта услышала горестную весть: ее подруга Э. собиралась покинуть здешние края на довольно длительное время.
20 февраля
Что же я буду делать без тебя? Как долго продлится наша разлука? Отчего мы должны быть лишены общества друг друга? Все это непостижимая воля судьбы. Я так хотела побыть с тобой: всего пара дней или недель, проведенных вместе, укрепила бы во мне те чувства, которыми я так поздно стала дорожить. Ты первая указала мне путь, и я пытаюсь идти по нему по мере моих слабых сил, и вот теперь тебя не будет рядом со мной, и я должна двигаться вперед в печали и одиночестве. Отчего нам нужно разлучаться? Конечно, оттого, что нам грозит опасность слишком сильно полюбить друг друга и сбиться с пути Создателя, свернув на тропу идолопоклонства,поклонения созданию. Поначалу я не находила в себе сил провозгласить: «Да будет воля Твоя!» Дух мой противился, хотя я и знала, что поступаю неправильно. Оставшись сегодня утром на минуту одна, я обратилась к Господу с горячей мольбой дать мне силы подчиняться любому проявлению Его воли, даже если меня ждут куда более суровые испытания, чем теперь. После этого я почувствовала себя спокойнее и смиреннее, а следовательно – счастливее. В прошлое воскресенье я была в мрачном настроении духа и открыла Писание. Начав читать, я вдруг ощутила нечто такое, чего не было со мной много лет: приятную безмятежность, какая, помнится, посещала меня, когда я была совсем маленькой и летними воскресными вечерами стояла у открытого окна, читая о жизни некоего французского дворянина, сумевшего достичь высочайшей степени святости, какую только достигал человек со времен первых мучеников.
Дом Э. находился от Дьюсбери-Мура на таком же расстоянии, как и от Роу-Хеда, и субботними вечерами Мэри или Э., случалось, навещали Шарлотту. Они по очереди уговаривали ее погостить у них до утра понедельника, но она редко на это соглашалась. Мэри рассказывает:
За все время службы у мисс Вулер Шарлотта побывала в нашем доме всего два-три раза. Мы спорили о политике и религии. Она, сторонница тори и дочь англиканского священника, всегда оставалась в одиночестве в спорах, случавшихся в среде диссентеров и радикалов. Ей приходилось каждый раз выслушивать произносимые с апломбом речи, которые я к ней уже обращала во время учебы в школе: о деспотичной аристократии, корыстолюбивом духовенстве и т. д. У Шарлотты не было сил защищаться; иногда она находила некоторую правду в чужих словах, но обычно просто молчала. Ее хрупкое здоровье вынуждало ее к уступчивости, и для того, чтобы противостоять другим, она собирала все свои слабые силы. Поэтому она кротко выслушивала мои советы и позволяла мне командовать и поучать, по временам выбирая из моих слов зерна разумных суждений, но никогда не позволяя никому нарушать своим вторжением независимость собственных мыслей и поступков. Ее молчание заставляло собеседника думать, что она с ним соглашается, в то время как на самом деле все было прямо наоборот. Шарлотта никогда никому не льстила, и потому каждое ее суждение было воистину золотым, будь то хвала или хула.
Отец Мэри был человеком недюжинного ума, но имел большие, чтобы не сказать дикие, предрассудки, сводившиеся в конечном итоге к яростной поддержке республиканства и диссентерства. Нигде, кроме Йоркшира, не мог бы появиться такой человек. Его брату довелось побыть detenu106 во Франции, а после освобождения он добровольно остался в этой стране. Сам мистер Т. тоже многократно бывал за границей – как по делам, так и для того, чтобы осмотреть знаменитые картинные галереи на континенте. По слухам, он мог при случае неплохо объясниться по-французски, но в повседневной жизни предпочитал йоркширский диалект. Он скупал отлично выполненные гравюры с тех картин, которые ему нравились, и в его доме было множество книг и произведений искусства. Однако при этом он с удовольствием демонстрировал приезжему или незнакомцу грубую сторону своей натуры: на диалекте высказывал самые поразительные вещи о церкви и государстве – и затем, шокировав собеседника, постепенно начинал открывать ему свое доброе сердце, истинный вкус и тонкое воспитание. Его семейство состояло из четырех сыновей и двух дочерей, которые были воспитаны в республиканском духе. Независимость суждений и поступков поощрялась в этом доме, и никакие уловки не терпелись. Теперь Мэри живет в Новой Зеландии, Марта, младшая дочь, покоится на протестантском кладбище Брюсселя, мистер Т. скончался. Жизнь и смерть рассеяли общество «яростных диссентеров и радикалов», в которое двадцать лет назад вступила маленькая, тихая, но решительная и непоколебимая дочь англиканского священника, чтобы стать общей любимицей.
Прошли январь и февраль 1837 года, а ответа от Саути все не было. Шарлотта, вероятно, потеряла надежду и уже ничего не ждала, как вдруг в начале марта она получила письмо, которое впоследствии сын мистера Саути приведет в биографии своего отца (т. 6, стр. 327).
Извинившись за задержку, связанную с долгой отлучкой, во время которой скопилось множество писем, мистер Саути объяснил, что послание Шарлотты «лежало без ответа последним в длинной очереди, однако не из пренебрежения или безразличия к его содержанию, а оттого, что ответить на него действительно непросто; это не самая приятная задача – омрачить надежды и желания юности». Мистер Саути продолжает:
О Вас я сужу по Вашему письму, которое, кажется, написано от всего сердца, хотя, похоже, Вы подписались вымышленным именем. Однако, даже если это и так, само письмо и стихотворения имеют нечто общее, и если не ошибаюсь, то я понимаю состояние души, которое они выражают. <…>
Я собираюсь не столько дать совет о направлении, которое следует придать Вашим талантам, как Вы просили, сколько выскажу свое мнение о них, хотя мнение стоит куда меньше, чем совет. Вы несомненно обладаете, и в немалой степени, тем качеством, которое Вордсворт называет «способностью к стихотворству». Надеюсь, я не принижу это Ваше свойство, когда скажу, что оно в наше время не редкость. Множество поэтических книг, которые теперь ежегодно публикуются, не привлекая внимания читателей, принесли бы авторам широкую известность, если были бы напечатаны полвека назад. Поэтому всякий, кто желает приобрести известность таким способом, должен быть заранее готов к неудаче.