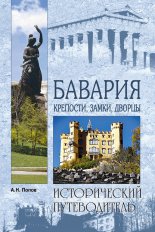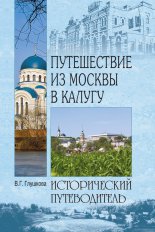Жизнь Шарлотты Бронте Гаскелл Элизабет

Изысканные леди и джентльмены посматривали на нас, стоявших возле двери ложи, которая еще не была открыта, с видом несколько высокомерным, что, впрочем, легко понять в данных обстоятельствах. Я чувствовала себя приятно взволнованной, несмотря на головную боль, тошноту и сознание того, что выгляжу как пугало. Энн оставалась такой же, как всегда, тихой и спокойной. Давали «Севильского цирюльника» Россини – оперу блестящую, хотя, мне кажется, на свете есть вещи, которые понравились бы мне больше. Вернулись домой после часа ночи. Накануне мы вовсе не спали, все эти сутки прошли в постоянном напряжении – можешь представить, как мы устали. На следующий день, в воскресенье, рано утром приехал мистер Уильямс, чтобы отвезти нас в церковь. А во второй половине дня мистер Смит и его мать заехали за нами в экипаже и отвезли нас к себе домой на обед.
В понедельник мы посетили выставку в Королевской академии, Национальную галерею, снова обедали у мистера Смита, потом вернулись домой, а затем пили чай с мистером Уильямсом у него дома.
Во вторник утром мы выехали из Лондона, нагруженные книгами, которые мистер Смит дал нам, и благополучно добрались до Хауорта. Трудно вообразить более измученную и несчастную женщину, чем та, в кого превратилась я. Когда я выезжала из дому, я была худой, но, когда вернулась, оказалась просто чахлой. Лицо серое, совсем постаревшее, со странными глубокими линиями, прочерченными на нем, а глаза смотрели как-то неестественно. Я была совсем слаба, но в то же время не могла найти покоя. Через некоторое время, однако, все эти нехорошие последствия излишнего волнения исчезли, и я пришла в себя.
Впечатление, которое мисс Бронте произвела на тех, с кем впервые встретилась в Лондоне, сводилось к тому, что эта молодая дама, несомненно, обладает ясным умом и умеет тонко чувствовать. Она очень сдержанна, но тем не менее бессознательно умеет вызывать собеседника на откровенность в разговоре. Она никогда не высказывает своего мнения, не приводя обоснования, никогда не задает вопросов без определенной цели, но, несмотря на все это, люди чувствуют себя в разговоре с ней легко: беседы оказываются искренними и порождают новые мысли. Когда же она принимается хвалить или ругать книги, или чьи-то поступки, или произведения искусства, то ее красноречие становится поистине пылким. Она весьма основательна во всем, что говорит или делает, но при этом открыта и честна как в трактовке темы, так и в споре с оппонентом, и в конечном итоге ее собеседники чувствуют не разочарование, а уверенность, что все ее слова вызваны только искренним желанием добра и справедливости.
Не последним поводом для обсуждения сестер было и место, где они остановились в Лондоне.
Патерностер-роу в течение многих лет было священным местом для издателей. Это узкая, выстланная плитами улица, проходящая почти в тени собора Сент-Пол. По ее концам врыты столбы, препятствующие движению экипажей, и это позволяет сохранить торжественную тишину, необходимую для размышления «отцов Патерностер-роу». Унылые здания складов, тянущиеся по ее обеим сторонам, в наше время заняты по большей части оптовыми книготорговцами. Если бы их место заняли магазины издателей, они вряд ли представляли бы привлекательное зрелище на этой темной и узкой улице. Примерно посредине, по левой стороне, если идти к центру, находится «Чаптер кофе-хауз». Я посетила его в прошлом июне, когда там практически не было постояльцев. Здание похоже на жилой дом, построенный лет сто назад; подобные можно иногда увидеть в старых городках в провинции. Потолки маленьких комнаток низкие, прорезанные мощными балками, стены обиты деревянными панелями, доходящими постояльцам до груди; широкая, темная и покатая лестница находится в самой середине дома. Таков «Чаптер кофе-хауз», где столетие назад собирались все продавцы и издатели книг и куда литературные наемные клячи, критики, а также просто остряки отправлялись за новыми идеями или в поисках работы. Именно об этом месте писал Чаттертон227 в тех обманчивых письмах, которые он посылал своей матушке в Бристоль в то время, когда умирал от голода в Лондоне: «Меня прекрасно знают в „Чаптер кофе-хауз“, и я знаком со всеми бывающими там гениями». Здесь он узнавал о возможности получить работу, сюда присылали его почту.
Годы спустя это место превратилось в гостиницу, где останавливались люди, связанные с университетом, а также деревенские священники, приезжавшие в Лондон на несколько дней и не имевшие друзей или знакомых в обществе. Они были рады послушать о том, что происходит в литературном мире: такие новости всегда можно было узнать из разговоров, которые велись в кофейной комнате. Мистер Бронте, приезжавший в Лондон пару раз на короткий срок во время учебы в Кембридже и службы в Эссексе, останавливался именно здесь. Сюда же он привез и дочерей, когда сопровождал их в Брюссель, и сюда Шарлотта и Энн приехали теперь, потому что совершенно не представляли, куда еще направиться. Однако в этой гостинице жили исключительно мужчины; я полагаю, что здесь не было прислуги женского пола. Дом в течение целого столетия служил больше для деловых встреч, и потому постояльцев было немного, здесь могли иногда заночевать деревенские книжные торговцы или священники. Но в любом случае деловая атмосфера и преобладание постояльцев-мужчин делало это место странным пристанищем для барышень Бронте. Служивший здесь официантом «седовласый старик», похоже, был с самого начала очарован тихой простотой двух молодых дам и старался, как мог, устроить их поудобнее и поуютнее на втором этаже, в длинной грязной комнате с низким потолком, где обычно назначались деловые встречи. Высокие узкие окна выходили на мрачную Патерностер-роу. Сестры садились за стол у самого дальнего окна (мистер Смит рассказывал мне, что нашел барышень именно там, когда в субботу вечером заехал за ними, чтобы отвезти в оперу). Оттуда были видны только темные дома на противоположной стороне: ничто не двигалось и не менялось. Казалось, дома напротив находятся на расстоянии протянутой руки, хотя гостиницу отделяла от них целая улица. Вдали гулко, подобно голосу невидимого океана, гудел Лондон, но каждый шаг по мостовой внизу на пустынной улице был отчетливо слышен. Как бы ни было, сестры предпочли оставаться в «Чаптер кофе-хауз», вместо того чтобы принять приглашение мистера Смита и его матушки. Через несколько лет Шарлотта писала в романе «Городок»:
С тех пор мне приходилось бывать и в Уэст-Энде, и в парках, и на красивейших площадях, но по-прежнему я больше всего люблю Сити. Сити всегда так серьезен: в нем серьезно все – торговля, спешка, шум. Сити трудится и зарабатывает себе на жизнь, а Уэст-Энд лишь предается удовольствиям. Уэст-Энд может вас развлечь, а Сити вызывает у вас глубокое волнение228.
В воскресенье утром Шарлотта и Энн хотели послушать доктора Кроули, и мистер Уильямс проводил их в церковь Сент-Стивен-Уолбрук. Однако барышень ждало разочарование: доктор Кроули в тот день не служил. Мистер Уильямс также отвез их (как упомянула в письме мисс Бронте) на чай к себе в дом. По пути они проехали мимо Кенсингтон-гарденс, и мисс Бронте была поражена красотой этого места, свежей зеленью газонов и пышными кронами деревьев. Шарлотта писала о различии в пейзажах юга и севера, а затем отметила мягкость и богатство интонаций в голосах тех, с кем ей довелось беседовать в Лондоне, – похоже, это произвело сильное впечатление на обеих сестер. Те, кто разговаривал в это время с «сестрами Браун» (еще один псевдоним, также начинающийся на «Б»), запомнили их как робких и сдержанных маленьких провинциалок, сильно терявшихся и не знавших, что сказать. Мистер Уильямс рассказывал мне про тот вечер, когда он сопровождал их в оперу: когда Шарлотта поднялась по пролету лестницы, ведущей от главного входа к первому ярусу лож, она была так ошеломлена богатым убранством вестибюля и буфета, что невольно схватила его за руку и прошептала: «Знаете, я ведь к такому не привыкла». И в самом деле, это зрелище составляло сильный контраст с тем, что сестры Бронте видели всего несколько часов назад, когда шли пешком по дороге из Хауорта в Китли, с сильно бьющимися сердцами, взволнованные и решительные, не замечая бушевавшей вокруг грозы, поскольку мысленно были уже в Лондоне, где им предстояло доказать, что в действительности они два разных человека, а не один. Нет ничего удивительного в том, что они вернулись в пасторат вымотанные после страшного напряжения, в котором пребывали всю поездку.
Следующее письмо, свидетельствующее о жизни Шарлотты в это время, оказывается очень далеко от какой-либо радости.
28 июля
Брэнвелл ведет себя по-прежнему. Его здоровье совсем подорвано. Папа не спит из-за него ночами, а иногда не можем заснуть и мы. Сам Брэнвелл спит большую часть дня, а ночью бодрствует. Но у кого в доме нет своего наказания?
Подруги мисс Бронте по-прежнему не знали о том, что она – автор «Джейн Эйр», и одна из них прислала письмо, в котором содержались вопросы о кастертонской школе. Стоит привести ответ Шарлотты, датированный 28 августа 1848 года.
Поскольку ты хочешь получить ответ еще до возвращения домой, пишу незамедлительно. Часто бывает так, что если мы отвечаем на письма не сразу, то в дальнейшем возникают препятствия, заставляющие нас отложить ответ на непростительно долгое время. В моем последнем письме я забыла ответить на твой вопрос и потом сожалела о своем упущении. Поэтому начну с него, хотя боюсь, что сведения, которые я тебе посылаюсейчас, несколько запоздали. Ты пишешь, что миссис *** подумывает о том, не послать ли *** в школу, и хочет узнать, будет ли подходящим местом школа для дочерей священников в Кастертоне. Мои знания об этом учреждении сильно устарели, поскольку относятся к событиям двадцатилетней давности. В то время эта школа лишь зародилась, и эти годы не назовешь иначе как болезненными. Тифозная лихорадка периодически посещала ее, туберкулез и золотуха во всех формах, какие только могут породить дурной воздух и вода, плохое и недостаточное питание преследовали несчастных учениц. В те годы это не было подходящим местом для кого-либо из детей миссис ***, но я понимаю, что очень многое с тех пор изменилось к лучшему. Школа переехала из Кован-Бридж (места столь же нездорового, сколь и живописного, расположенного в низине, влажного, с прекрасным пейзажем: леса и воды) в Кастертон. Условия жизни, питание, дисциплина, порядок оплаты – все это, надо думать, полностью изменилось и значительно улучшилось. Мне говорили, что те ученицы, которые вели себя хорошо и оставались в школе до конца обучения, получали места гувернанток, если чувствовали к этому призвание. Большое внимание уделялось тому, чтобы они имели прекрасный гардероб при выпуске из Кастертона. <…> Старейшее семейство в Хауорте, предки которого жили здесь, говорят, в течение тринадцати поколений, покинуло наши места. <…> Папа, слава Богу, пребывает в добром здравии, особенно если учесть его возраст. Его зрение, как мне кажется, тоже скорее улучшается, чем наоборот. Сестры также чувствуют себя хорошо.
Однако тучи уже сгущались над этим обреченным домом, и с каждым днем становилось все темнее и темнее.
В октябре, девятого числа, Шарлотта пишет:
Последние три недели были темным временем в нашем скромном доме. Состояние Брэнвелла быстро ухудшалось все лето. Однако ни врачи, ни он сам не подозревали, насколько близок конец. Он не пролежал в постели ни одного дня и еще за два дня до смерти ходил в деревню. Он умер после двадцати минут агонии утром в воскресенье, 24 сентября. Брэнвелл был в полном сознании вплоть до последних минут. Перед смертью, как это часто бывает, с ним произошла перемена. За два дня до несчастья он стал проявлять добрые чувства, последние минуты были отмечены возвращением естественных привязанностей к близким. Теперь он в руках Божьих, и Всемогущий всемилостив. Мысль о том, что брат упокоился – обрел покой после всей своей краткой, полной заблуждений и страданий, лихорадочной жизни, – успокаивает меня теперь. Последнее расставание, вид его бледного трупа причинил мне более острую боль, чем я могла ожидать. Вплоть до самого последнего часа мы не понимали, насколько смерть близкого родственника может наполнить нас прощением, сожалением и состраданием. Все его грехи были ничем и есть для нас ничто теперь. Мы помним только его несчастья. Папа поначалу пришел в отчаяние, но в целом сумел перенести это событие. Эмили и Энн в порядке, хотя Энн всегда так болезненна, а Эмили простудилась и сейчас кашляет. Мне же судьбой было уготовано заболеть как раз в то время, когда следовало собраться с силами. Головная боль и тошнота стали проявляться в воскресенье; у меня совсем пропал аппетит. Потом начались внутренние боли. Я почувствовала себя истощенной. Невозможно было проглотить ни крошки. Наконец появились симптомы желчной болезни. Целую неделю мне пришлось провести в постели, это была ужасная неделя. Но, слава Богу, теперь здоровье мое, похоже, улучшается. Я могу целый день сидеть и понемногу принимать пищу. Врач говорил, что я, вероятно, буду выздоравливать очень медленно, но, похоже, дело идет на поправку быстрее, чем он предполагал. Мне действительно гораздо лучше.
Во время его последней болезни Брэнвелл решил встретить смерть стоя. Он без конца повторял, что, пока теплится жизнь, остается и сила воли, которая позволяет делать то, что сам выбираешь. И когда подошла последняя агония, он настоял на том, чтобы ему помогли принять вертикальное положение. Как я уже писала, во время последней болезни его карманы были набиты старыми письмами от женщины, к которой он был привязан. Он умер, а она все еще живет – в Мэйфере229. По-видимому, эвмениды исчезли в то время, когда раздался вопль «Великий Пан умер!»230. Я полагаю, что мы лучше обходимся без него, чем без этих ужасных сестер, которые пробуждали к жизни умершую совесть.
Отвернемся от нее навсегда. Бросим еще один взгляд на происходящее в хауортском пасторате.
29 октября 1848 года
Я уже почти совсем оправилась от последствий болезни, и мое здоровье пришло к прежнему нормальному состоянию. Иногда мне хочется, чтобы оно было чуть получше, но довольствуюсь тем, что есть, и не вздыхаю о несбыточном. Меня гораздо больше беспокоит сейчас состояние сестры. Простуда и кашель Эмили никак не проходят. Боюсь, она испытывает сильную боль в груди, и иногда, когда она слишком быстро движется, я слышу ее одышку. Выглядит она очень худой и бледной. Ее сдержанность причиняет мне страшное беспокойство. Спрашивать о чем-либо бесполезно: ответа все равно не будет. Еще бессмысленней предлагать лекарства: она их все равно не примет. При этом я не могу не помнить и о крайней хрупкости Энн. Последнее печальное событие приучило меня всего бояться. По временам я никак не могу избавиться от подавленного настроения. Я говорю себе, что все в руках Божьих, что надо веровать в Его благоволение, однако бывают обстоятельства, при которых сложно сохранять веру и смирение. Погода в последнее время совсем не благоприятствует больным: в наших местах все время меняется температура и дуют холодные пронизывающие ветры. Если бы установилась погода получше, то это, возможно, повлияло бы на состояние здоровья, исчезли бы ужасные простуды и кашель. Папа не полностью избежал их, но он покамест чувствует себя лучше, чем все мы. Пожалуйста, не пиши про мою поездку в *** этой зимой. Я не смогу, да и не должна покинуть дом, бросив его на кого-то другого. Мисс *** уже несколько лет как потеряла здоровье. Все происходящее заставляет чувствовать, а то и знать, что мы не жильцы на этом свете. Не следует слишком привязываться к людям или принимать слишком близко к сердцу человеческие чувства. В один из дней либо они покинут нас, либо мы их. Бог возвращает здоровье и силы всем, кто в этом нуждается!
Пусть продолжением этих строк послужат слова Шарлотты из ее биографической заметки о сестрах:
Однако приближались большие перемены. Случилось такое несчастье, о котором страшно было даже подумать тогда и горько вспоминать сейчас. В самый разгар дневных трудов работники не вынесли своего труда. Первой пришла к своему концу моя сестра Эмили. <…> Никогда в жизни она не медлила выполнить какую-нибудь положенную ей работу, не стала медлить и теперь. Конец ее был стремителен, она покинула нас спешно. <…> День за днем, зная, как она страдает, я смотрела на нее с мучительным чувством любви и изумления. Никогда мне не приходилось видеть ничего подобного, впрочем и никого подобного ей я никогда не встречала. Сильнее, чем мужчина, проще, чем дитя, – ее характер был не схож ни с кем. Ужасно было то, что она, полная участия к другим, не щадила саму себя, дух ее оставался непреклонен к желаниям плоти: от дрожащих рук, от лишившихся сил членов, от потухших глаз он требовал того же, что они исполняли, когда были здоровы. Присутствовать при этом, быть свидетельницей и не осмеливаться протестовать – вот боль, которую не передать словами.
После того воскресенья, в которое последовала смерть Брэнвелла, Эмили уже ни разу не вышла на улицу. Никто не слышал от нее жалоб. Вопросов она не терпела и отвергала как выражения сочувствия, так и предложения помощи. Много раз Шарлотта и Энн оставляли шитье или отрывались от чтения, чтобы с бьющимися сердцами прислушаться к ее нетвердым шагам, затрудненному дыханию, к частым паузам, которые приходилось делать их сестре, когда она поднималась по лестнице. Но они не осмеливались ничего сказать о том, что наблюдали, и только страдали – может быть, не меньше, чем она сама. Они не решались выразить свои чувства в словах, а тем более в помощи и заботе. Они просто сидели, тихие и молчаливые.
23 ноября 1848 года
Я писала тебе в последнем письме, что Эмили больна. Она пока что не поправилась. Она очень больна. Если бы ты ее увидела, то решила бы, что надежда потеряна. Более исхудавшей, изможденной, бледной женщины мне не приходилось видеть. У нее продолжается нутряной напряженный кашель. Дыхание после малейшего напряжения становится быстрым и прерывистым. И все эти симптомы сопровождаются болями в груди и боку. Пульс ее – в тот единственный раз, когда она разрешила его измерить, – оказался 115 ударов в минуту. И будучи в подобном состоянии, она решительно отказывается вызвать врача. О том, как она себя чувствует, говорить запрещено, она совершенно не терпит никаких разговоров на эту тему. Мы уже несколько недель находимся в самом плачевном положении, и одному Богу известно, чем все это кончится. Не однажды я пыталась представить себе ужасное событие – ее смерть, говоря: это возможно и даже вероятно. Но вся моя душа отвращается от подобной мысли. Эмили – самый близкий человек, который только есть у меня на этом свете.
Когда все-таки послали за доктором и он уже пришел в дом, Эмили отказалась с ним встретиться. Сестры могли только описать ему симптомы, которые они наблюдали. Врач прислал лекарства, но Эмили не стала их принимать, сказав, что вовсе не больна.
10 декабря 1848 года
Не знаю, что и написать тебе о предмете, который только и занимает меня сейчас на всем свете, ибо, говоря по правде, я и сама не знаю, что об этом думать. Надежда и страх сменяют друг друга постоянно. Боль в боку и груди стала у нее поменьше, кашель и одышка, а также крайнее истощение продолжаются. Я уже вытерпела такие муки неопределенности в отношении будущего, что чувствую себя не в силах терпеть их дальше. Поскольку ее антипатия к врачам остается прежней – она заявляет, что «никаких докторов-отравителей» близко к себе не подпустит, – я обратилась втайне от нее к известному в Лондоне врачу, описав в деталях ее случай и все симптомы, насколько я способна их воспроизвести, и попросила его высказать свое мнение. Ожидаю ответа со дня на день. Рада сообщить, что мое собственное самочувствие в настоящее время совсем неплохо. Это очень кстати, поскольку Энн, при всем ее огромном желании быть полезной, настолько хрупка, что не может много трудиться и многое выносить. У нее сейчас тоже часто бывают боли в боку. Папа, как и я, чувствует себя хорошо, хотя здоровье Эмили заставляет его сильно волноваться.
Сестры ***231 (бывшие ученицы Энн Бронте. – Э. Г.) приезжали к нам неделю назад. Это очень симпатичные и элегантные девушки. Они были ужасно рады увидеть Энн: когда я зашла в комнату, они висели на ней, как дети, а она тем временем оставалась совершенно спокойной и неподвижной. <…> И. и Х. вбили себе в головы, что им надо сюда приехать. Я думаю, в этом случае дело в обиде, хотя и не знаю на что. И если это так, то, скорее всего, причиной послужило что-нибудь придуманное. Но поскольку у меня есть много других забот, я почти не думаю об этом вопросе. Если Эмили плохо, мне становится все равно, кто пренебрег мною, неправильно меня понял или обидел. Только бы ты не была среди них. Крабовое масло доставлено нам благополучно. Эмили сейчас напомнила мне, чтобы я поблагодарила тебя за него. Оно выглядит замечательно. Как бы хотелось, чтобы она чувствовала себя вполне хорошо, чтобы поесть его.
Однако состояние Эмили стремительно ухудшалось. Я помню, как вздрагивала мисс Бронте, припоминая ужас тех дней. Она отправилась на пустоши и долго бродила по ложбинам и оврагам, чтобы отыскать цветущий вереск. Ей удалось найти только одну веточку, уже увядшую, и она принесла ее сестре, однако по затуманенным и безразличным глазам Эмили было понятно, что она не узнает его. Как бы там ни было, Эмили до самого последнего мига держалась своих привычек и независимости. Она не позволяла никому ухаживать за собой. Любая попытка нарушить этот запрет возрождала в ней прежний суровый дух противоречия. Как-то раз в декабре, во вторник, Эмили поднялась с кровати и оделась, как одевалась обычно, хотя теперь ей приходилось много раз останавливаться. Однако она все сделала сама, а затем даже попыталась заняться шитьем. Служанки смотрели на Эмили и по ее громкому прерывистому дыханию, по блеску глаз понимали, что ее ждет. Однако она продолжала работать, а Шарлотта и Энн, хотя и исполненные невыразимого ужаса, почувствовали, что возник крошечный проблеск надежды. Этим утром Шарлотта написала следующее, возможно прямо в присутствии умирающей сестры:
Вторник
Мне следовало написать тебе раньше, если бы я могла высказать хоть одно слово надежды. Однако ее нет. Она слабеет с каждым днем. Мнение врача было высказано слишком туманно, чтобы принести какую-либо пользу. Он прислал кое-какие лекарства, но она не станет их пить. Никогда в моей жизни не было столь мрачных минут. Я молюсь, чтобы Господь укрепил нас всех. До сего момента Он посылал нам эту благодать.
Утро сменилось полуднем. Эмили стало хуже: она могла только шептать в промежутках между тяжелыми вдохами и выдохами. Теперь, когда было уже слишком поздно, она сказала Шарлотте: «Если ты пошлешь за доктором, я его приму». Около двух часов дня она умерла.
21 декабря 1848 года
Эмили больше не страдает ни от боли, ни от слабости. Она больше никогда не будет испытывать страданий в этом мире. Она скончалась после краткой и тяжелой агонии. Умерла во вторник, в тот самый день, когда я писала тебе в последний раз. Тогда мне казалось возможным, что она побудет с нами еще несколько недель, но не прошло и нескольких часов, как она отошла в вечность. Да, нет больше Эмили на этой земле, в этом времени. Вчера мы мирно погребли ее несчастное, изможденное, смертное тело под каменным полом церкви. Сейчас мы очень спокойны. Так и должно быть. Боль, которую мы испытывали, видя ее страдания, уже позади; зрелище агонии и смерти в прошлом; день похорон позади. Нам кажется, что она пребывает в покое. Теперь не надо бояться сурового мороза или пронизывающего ветра: Эмили их больше не чувствует. Она умерла, не реализовав своих возможностей. Она угасла на наших глазах в расцвете лет. Однако это Божья воля, и то место, где она находится сейчас, лучше того, которое она покинула.
Господь укрепил мои силы удивительным образом, и я смогла пережить все страдания, хотя и не надеялась на это. Теперь я смотрю на Энн и мечтаю, что она станет здорова и сильна, но этого не происходит ни с ней, ни с папой. Смогла бы ты теперь приехать к нам на несколько дней? Я не буду просить тебя погостить подольше. Напиши мне, сможешь ли ты сделать это на следующей неделе и каким поездом приедешь. Я попытаюсь отправить за тобой повозку в Китли. Я уверена, что ты найдешь нас спокойными. Постарайся приехать. Никогда мне не было так нужно утешение, которое может дать присутствие подруги. Разумеется, это путешествие не сулит тебе других радостей, кроме той, что получит твое славное сердце от добра, сделанного другим людям.
Когда несчастный старик-отец и две его оставшиеся в живых дочери следовали за гробом, к ним присоединился и Сторож, свирепый и верный бульдог232 Эмили. Он шел рядом со скорбной процессией, оказался вместе с ней в церкви и оставался там все время, пока длилась похоронная служба, не издавая ни звука. Затем он вернулся домой, лег возле комнаты Эмили и завыл. Его жалостный вой слышался много дней. Энн Бронте стало хуже: после смерти сестры она начала терять силы гораздо быстрее, чем раньше. Так кончился 1848 год.
Глава 3
В декабре 1848 года в «Квотерли ревью» появилась статья, посвященная «Ярмарке тщеславия» и «Джейн Эйр». Через несколько недель мисс Бронте попросила в письме своих издателей прислать ей этот номер журнала. Догадываясь, что статья совсем не комплиментарная, она повторила просьбу, которую уже высказывала ранее: присылать ей неизменно все отзывы критиков о романе, независимо от того, хвалят его или ругают. Номер «Квотерли ревью» был прислан. Не знаю, придала ли мисс Бронте большое значение этой статье, известно только, что она поместила несколько фраз из нее в уста неприятной и вульгарной героини романа «Шерли»: они настолько соответствовали ее характеру, что мало кто распознал цитату. Время, когда Шарлотта прочла статью, было подходящим: огромная тяжесть Смерти перевесила все мелкие неприятности. В противном случае она наверняка приняла бы критические замечания ближе к сердцу, чем они того заслуживали. На самом деле автору этих заметок, старавшемуся быть строгим, не хватало логики, что проявлялось даже в синтаксисе. Наверняка Шарлотте весьма неприятны были бы и догадки насчет автора «Джейн Эйр»: несмотря на претензии на остроумие, они оказались просто легкомысленны. Однако для легкомысленности существует и более строгое название в том случае, если писатель третируется критиком-анонимом: в таком случае мы говорим о трусливой разнузданности233.
У всех есть право публично высказывать свои соображения о достоинствах и недостатках книги, и я жалуюсь не на суждение рецензента о «Джейн Эйр». Мнения об идее этого романа варьировались тогда, как варьируются они и теперь. В то время как я писала предыдущие строки, ко мне пришло письмо от одного священника, живущего в Америке. Вот что он пишет:
В нашей святая святых есть особая, богато украшенная книжная полка, на которой мы имеем удовольствие с почтением хранить романы, оказавшие самое благоприятное влияние на наш характер. Это в первую очередь «Джейн Эйр».
Я не отрицаю, что имеют место и прямо противоположные суждения. К ним я отношу и замечания рецензента «Квотерли ревью» о положительных сторонах романа (не касаюсь вопроса о собственном стиле рецензента). Но есть и другой вопрос. Такие критики забывают благородный завет Саути, который писал: «Когда я сочиняю рецензию на произведение автора, пожелавшего остаться неизвестным, то даже в том случае, когда знаю, кто он, никогда не упоминаю его фамилии, предполагая, что у писателя были весомые основания избегать публичности». В отличие от Саути, рецензент «Квотерли» принимается сплетничать, строя догадки, кто именно скрывается под псевдонимом Каррер Белл, и претендует на решение этого вопроса, исходя из содержания книги. Такое отсутствие христианского милосердия вызывает у меня искреннее возмущение. Даже желание написать «умную статью», о которой будут говорить в Лондоне, когда непрочная маска анонимности исчезнет и все восхитятся догадливостью рецензента, – даже это искушение не может извинить колкости и грубости суждений. Кто он такой, чтобы так писать о незнакомой женщине: «По всей видимости, у нее были важные причины, чтобы так долго вводить общество в заблуждение относительно своего пола»? Может быть, ему довелось жить в глубокой провинции, в изоляции и вести борьбу за существование? Приходилось ли ему видеть кого-либо еще, кроме простых и прямолинейных северян, не приученных к тем эвфемизмам, которые в образованном обществе помогают затушевать упоминание греха? Приходилось ли ему в течение многих печальных лет пытаться оправдать моральное падение единственного брата и, ежедневно общаясь с ним, близко наблюдать все то, что вы ненавидите от всей души? Приходилось ли ему бродить по собственному дому и видеть его опустевшим, лишенным жизни и любви и говорить себе, пытаясь сохранить силы: «Так угодно Господу, да свершится воля Его!» – и чувствовать, что все эти попытки тщетны, пока не вернется благой Свет? Если насмешнику-рецензенту довелось пройти через подобные испытания и остаться целым и невредимым, с душой, которая ни разу в приступе отчаяния не возопила: «Лам савахфани!» – то даже тогда лучше бы ему помолиться вместе с мытарем, чем судить вместе с фарисеем234.
10 января 1849 года
Энн чувствовала себя вчера совсем неплохо, и ночь прошла спокойно, хотя ей и не удалось долго поспать. Мистер Уилхаус снова прописал поставить шпанскую мушку235, и она перенесла это хорошо. Я только что одела ее, и Энн встала с постели и спустилась вниз. Выглядит она довольно бледной и болезненной. Она приняла ложку рыбьего жира – он имеет вкус ворвани и пахнет так же. Я тешу себя надеждами, но день сегодня ветреный, небо покрыто облаками, и, возможно, будет буря. Настроение мое идет волнами и падает. Я гляжу туда, куда ты советовала мне смотреть, – поверх земных бурь и скорбей. Пытаюсь собраться с силами, если нельзя найти утешения. В будущее лучше не заглядывать – это я чувствую постоянно. По ночам я просыпаюсь и лежу, ожидая утра; в такие минуты душа моя терзается болью. У папы все по-прежнему; сегодня он был очень слаб, когда спустился к завтраку. <…> Дорогая Э., твоя дружба – это мое утешение. Благодарю тебя за нее. Мне светит сейчас так мало огней во тьме, но среди них постоянство любящего сердца, привязанного ко мне, – один из самых радостных и спокойных.
15 января 1849 года
Нельзя сказать, что Энн чувствует себя хуже, но нельзя утверждать и что ей лучше. Самочувствие больной меняется в течение дня, но в целом каждый день проходит примерно одинаково. Утро – обычно самое лучшее время; вторая половина дня и вечер – самые беспокойные. Кашель усиливается по ночам, но он редко бывает сильным. Ее очень беспокоит боль в руке. Энн регулярно принимает рыбий жир и углекислое железо, находя их отвратительными, особенно рыбий жир. Аппетит у нее совсем плохой. Не беспокойся, пожалуйста, что я устану и захочу отдохнуть от своих забот о ней. Она необыкновенно дорога мне, и я приложу все силы, какие только у меня есть. Рада сообщить, что папа чувствует себя гораздо лучше в последние несколько дней.
Ты спрашиваешь обо мне. Могу ответить только, что если мое здоровье сохранится таким, как сейчас, то все будет хорошо. Правда, я все не могу избавиться от болей в груди и спине. Они странным образом возвращаются с каждой переменой погоды, иногда сопровождаясь болью в горле и хрипотой, но я борюсь с этим при помощи смоляных пластырей и отвара из отрубей. Мне сейчас нельзя невнимательно относиться к своему здоровью, никак нельзя болеть в настоящее время.
Я стараюсь не оглядываться назад и не заглядывать в будущее, вместо этого я смотрю ввысь. Нет времени ни на сожаления, ни на страхи, ни на рыдания. То, что я должна делать, определено очень ясно, и все, о чем я молю Господа, – это дать мне силы выполнить свой долг. Дни проходят медленно и однообразно; ночи – это настоящее испытание: я внезапно пробуждаюсь от беспокойного сна и осознаю, что одна лежит в могиле, а другая сейчас не рядом со мной, а в постели, предназначенной для больных. Но Господь все видит.
22 января 1849 года
На прошлой неделе стояла хорошая, мягкая погода, и Энн почувствовала себя немного лучше. Однако сегодня она снова выглядит очень бледной и апатичной. Она по-прежнему принимает рыбий жир и, как и раньше, находит его тошнотворным.
Она искренне благодарит тебя за присланные стельки для ее ботинок, они чрезвычайно удобны. Я же хочу попросить тебя прислать ей такой же респиратор236, какой есть у миссис ***. Высокая цена не имеет значения, если ты полагаешь, что следует купить более дорогую вещь. Если тебя не затруднит, то пришли пару стелек и мне: все это вместе с респиратором можно положить в посылку, которую ты собиралась отправить. Пожалуйста, напиши, сколько все это стоит, и мы переведем тебе деньги по почте. «Грозовой перевал» тебе выслан. Что касается ***, то я не послала ей ни письма, ни посылки. Мне нечего сообщить, кроме самых печальных известий, и я предпочла, чтобы ей сообщили об этом другие. Я также не стала писать ***. Я совсем не могу писать, за исключением тех случаев, когда это совершенно необходимо.
11 февраля 1849 года
Сегодня мы получили посылку, ее содержимое дошло в полном порядке. Перочстки очень хороши, большое спасибо тебе за них от всех нас. Полагаю, респиратор будет полезен Энн, если она почувствует себя достаточно хорошо, чтобы снова выйти на улицу. Она в прежнем состоянии – не намного хуже, хотя стала совсем худенькой. Боюсь, не стоит обманываться и воображать, что ей сделается лучше. Трудно сказать, как повлияет на нее приближающаяся весна. Возможно, теплая погода придаст благотворный импульс ее организму. Но я трепещу при одной мысли о том, что погода переменится к худшему и снова начнутся мороз и холодные ветры. Скорей бы прошел этот март! Состояние духа у нее спокойное, и страдания до сих пор были несравнимы с тем, что происходило с Эмили. Я постепенно смиряюсь с навязчивой мыслью о том, что нас, возможно, ждет, однако какая это печальная и страшная мысль!
16 марта 1849 года
Прошлая неделя оказалась серьезным испытанием для нас: холодно не было, однако без конца менялась температура, к чему Энн очень чувствительна. Ей не стало, как мне кажется, намного хуже, но кашель бывает по временам очень сильным и болезненным, и ее силы, похоже, убывают, а не прибавляются. Поскорей бы прошел этот март! Ты права в своих догадках, что я несколько пала духом, – иногда это действительно так. Мне было легче переживать то, что происходило в самые тяжкие моменты, чем то, что происходит сейчас. Скорбь о потере Эмили не уменьшается со временем, я часто испытываю острые приступы знакомой боли. Они приносят с собой невыразимую печаль, и тогда будущее представляется мне совсем темным. Но при этом я осознаю, что нет пользы от жалоб и скорби, и стараюсь избавиться от них. Я верую, что наши силы даются нам в соответствии с испытаниями, но тяжесть моего положения не уменьшается оттого, что я привыкаю к нему. Одиночество, оторванность от близких сердцу людей – обстоятельство, способствующее подавленности, но я не хочу, чтобы кто-то из моих подруг оказался рядом: я не смогу разделить ни с кем, даже с тобой, печаль этого дома: это мучило бы меня невыносимо. Но в то же время наказание неотделимо от благодати. Страдания Энн по-прежнему не столь ужасны. Моему характеру свойственно, если я остаюсь одна, продолжать борьбу с прежней настойчивостью, и я верую, что Господь меня не покинет.
Энн всегда отличалась хрупким здоровьем, – может быть, по этой причине ее домашние обратили меньше внимания, чем следовало, на первые симптомы болезни, оказавшейся фатальной. Однако при этом они, похоже, довольно скоро послали за врачом. Энн была обследована с помощью стетоскопа, и выяснилось ужасное: ее легкие затронуты чахоткой, причем болезнь получила уже значительное развитие. Ей было предписано лечение, которое впоследствии одобрил доктор Форбс237.
Недолгое время сохранялась надежда, что течение болезни приостановилось. Шарлотта, чувствовавшая себя совершенно больной из-за депрессии, не отходила от младшей сестры, последней оставшейся в живых. Утешением служило только то, что Энн была самой терпеливой и самой кроткой больной, какую только можно себе вообразить. Нужно было вытерпеть долгие часы, дни и недели невыразимой тоски. Оставалось только молиться, и Шарлотта ревностно и неустанно возносила свои молитвы к Господу. Вот что она писала 24 марта:
Самочувствие Энн ухудшается постепенно и перемежается периодами улучшений, но сомневаться в том, что оно становится хуже, не приходится. <…> Она проявляет истинно христианское смирение. <…> Пусть Господь укрепит ее и всех нас в этом испытании длительной болезнью и поможет ей в последний час, когда придет время последней борьбы перед расставанием души с телом! Мы видели, как покинула нас Эмили, – в тот час наши сердца, как никогда, были привязаны к ней. <…> Едва ее похоронили, как тяжело заболела Энн. <…> Такого нельзя вынести одному только разуму, не укрепленному верой. Я должна быть благодарна Небесам за силы, которые они до сих пор посылали моему отцу и мне. Господь, я полагаю, особенно милосерден к старикам; что же касается меня самой, то, знай я раньше о предстоящих испытаниях, они показались бы мне совершенно невыносимыми, но в действительности мне удалось вынести их, не впав в изнеможение. Надо признаться, что за то время, которое прошло после смерти Эмили, я ощутила в своем одиночестве столь глубокую скорбь, что она намного превысила тоску, испытанную сразу после ее кончины. Тяжесть утраты причиняет острую боль и жаждет какого-то выхода, а то чувство, которое возникает впоследствии, по временам парализует волю. Я поняла, что не нужно искать утешения в сознании собственной силы: мы должны находить ее только во всесилии Господа. Сила духа прекрасна, но и она может быть поколеблена только для того, чтобы показать нам, насколько мы слабы!
Во все время болезни Энн у Шарлотты было одно утешение: она, по крайней мере, могла говорить с сестрой о ее болезни, тогда как Эмили решительно отвергала любое сочувствие. Если возникала какая-то мысль о том, как помочь Энн, Шарлотта могла обратиться к ней самой, и тогда две сестры – ухаживающая и умирающая – обсуждали, насколько желательна предлагаемая мера. Мне довелось прочесть всего лишь одно письмо, написанное Энн, – единственный случай, когда мы можем услышать собственный голос этой нежной и терпеливой девушки. К помещаемым здесь письмам нужны некоторые предварительные разъяснения. Дело в том, что дружественное семейство, к которому принадлежала Э., предложило Энн переехать к ним в дом, чтобы посмотреть, не поможет ли ей восстановить здоровье перемена воздуха, питания, а также общество расположенных к ней людей. Отвечая на это предложение, Шарлотта писала:
24 марта
Я прочла твое милое письмо к Энн, и она просила меня искренне поблагодарить тебя за дружеское предложение. При этом она, разумеется, считает, что принимать его не следует, поскольку это значит обременить обитателей ***. Однако ей кажется, что есть другой способ, которым ты можешь помочь ей и при этом сама получить некоторую пользу. Не будет ли желательно, чтобы она через месяц-другой отправилась на берег моря или в какое-либо другое «водное» место? И если папа не сможет последовать за ней, то я, конечно, должна буду тоже остаться дома. Вот в этом случае, спрашивает Энн, не согласишься ли ты составить ей компанию? Разумеется, не надо даже добавлять, что если обстоятельства сложатся таким образом, то тебе не придется ни за что платить. Таково, дорогая Э., предложение Энн. Я передаю его, подчиняясь ее воле. Но со своей стороны должна прибавить, что вижу серьезные препятствия к тому, чтобы ты его приняла, – препятствия, которые я не могу объяснить ей. Здоровье ее по-прежнему нестабильно: оно то ухудшается, то улучшается, в зависимости от погоды. Но в целом, боюсь, она теряет силы. Папа говорит, что ее самочувствие крайне опасно: оно может вдруг неожиданно ухудшиться, а мы ничего об этом не узнаем. Если такое ухудшение произойдет в то время, когда она будет далеко от дому и наедине с тобой, – это будет совершенно ужасно. Сама мысль об этом удручает меня невыразимо, и я дрожу всякий раз, когда она упоминает о возможном путешествии. Короче говоря, я бы хотела отложить этот план и посмотреть, как пойдут дела. Если она и уедет из дому, то это должно произойти не в капризном месяце мае, который вошел в поговорку своим непостоянством. Июнь кажется мне куда более подходящим временем. Если нам удастся дожить до июня, то можно надеяться, что она проживет и все лето. Напиши ответ на это письмо, чтобы я могла показать его Энн. Можешь прибавить замечания для меня на отдельном листе. И не считай, что ты обязана ограничиваться только нашими печальными делами. Меня интересует все, что интересует тебя.
От Энн Бронте
5 апреля 1849 года
Моя дорогая мисс ***,
большое Вам спасибо за доброе письмо и за охотное согласие на мое предложение, если ему в конце концов будет суждено воплотиться. Я понимаю, Ваши друзья не хотят, чтобы Вы брали на себя такую ответственность: сопровождать меня в моих нынешних обстоятельствах. Но на самом деле я не думаю, что тут есть очень большая ответственность. Как и вс, я уверена: мне не найти никого, кто бы был добрее и предупредительнее, чем Вы, и я надеюсь, что не доставлю Вам больших хлопот. Вы поехали бы в качестве подруги, а не няньки, именно поэтому мне хочется, чтобы это были Вы; в противном случае я не осмелилась бы Вас просить. Что же касается Вашего любезного и часто повторяемого приглашения в ***, то передайте мою искреннюю благодарность Вашей матушке и сестрам, но скажите при этом, что я не могу обременять их своим присутствием в моем нынешнем положении. С их стороны в высшей степени любезно не придавать значения возможным трудностям, но все же присутствие чужого человека, молчаливого и больного, несомненно создаст сложности и уж точно не принесет радости. Я надеюсь, однако, что в конечном итоге Шарлотта найдет возможность сопровождать меня. Она чувствует себя не очень хорошо, и для улучшения ее здоровья несомненно требуется перемена атмосферы и окружающей обстановки. Речь не идет о том, что Вы отправитесь со мной до конца мая, если только Вам не прискучат визитеры; но мне ужасно не хочется ждать до этого времени в том случае, если погода позволит уехать пораньше. Вы пишете, что май – тяжелый месяц, и то же говорят другие. В первой его половине бывает холодно – это верно, но я знаю по своему опыту, что почти всегда выпадает несколько ясных теплых дней во второй половине, когда цветут сирень и «золотой дождь». А вот июнь часто бывает холодным, и июль обычно – дождливый месяц. Но у меня есть и более важная причина для нетерпения и нежелания отсрочки. Врачи говорят, что перемена атмосферы и переезд в места с лучшим климатом никогда не вредят успешному лечению туберкулеза, если только данное средство применяется вовремя, а причина, по которой столь многие разочаровываются в этом методе, состоит в том, что к нему прибегают слишком поздно. И мне не хотелось бы повторять частую ошибку. Говоря по правде, хотя я теперь испытываю менее сильные боли, чем в то время, когда Вы нас посетили, но определенно ослабела и очень сильно похудела. Кашель по-прежнему очень мучит меня, особенно по ночам, а хуже всего сильная одышка, когда я поднимаюсь по лестнице или при другом малейшем напряжении. В такой ситуации не стоит терять времени. Я не испытываю ужаса перед лицом смерти: если бы я считала ее неизбежной, то, наверное, подчинилась бы судьбе, умерев с надеждой, что Вы, дорогая мисс ***, будете как можно больше общаться с Шарлоттой и замените ей сестру. Но я надеюсь, Господь пощадит меня не только ради папы и Шарлотты, но и потому, что мне хочется сделать что-нибудь доброе в этом мире, прежде чем я его покину. У меня в голове много планов на будущее – пусть скромных и ограниченных, однако мне не хотелось бы, чтобы они кончились ничем и чтобы я прожила так бесполезно. Но да свершится воля Господня. Передайте поклон Вашей матушке и сестрам и примите, дорогая мисс ***, мои уверения в преданности.
Искренне Ваша,
Энн Бронте.
По-видимому, как раз в это время Энн написала свои последние стихи. Вслед за этим «стол был заперт, и перо положено навеки».
- I
- Мне суждено, мечтала я,
- Среди других людей
- Трудиться, и была чиста
- Задуманная цель.
- II
- Но Бог избрал другой удел.
- «Как благо я приму», —
- Сказала так, лишь стихла боль,
- Я сердцу моему.
- III
- Господь, Ты радостей лишил
- И лишь одну печаль
- Днем нам испытывать судил
- И плакать по ночам.
- IV
- Как эта ноша тяжела
- И горечью полны
- И дни и ночи. Я жила
- Надеждой: слышишь Ты
- V
- Мои молитвы. Помоги
- Мне стойкость обрести,
- В смиренье, кротости одних
- Свой крест мне пронести.
- VI
- Каким бы ни был жребий мой,
- Позволь Тебе служить,
- Пусть и недолог путь земной,
- Что суждено прожить.
- VII
- Но если время еще есть,
- Страдая и скорбя,
- Я буду долг хранить и честь
- И веровать в Тебя.
- VIII
- Когда же смерть придет за мной,
- Сдержу я свой обет,
- И в час последний и святой
- Дай послужить Тебе!238
О мыслях и чувствах Шарлотты в это ужасное время лучше всего говорят слова ее собственного письма.
21 апреля
Я прочла письмо Энн к тебе; оно очень трогательное, как ты и пишешь. Если бы не было ничего за пределами нашего мира – ни вечности, ни будущей жизни, – то судьба Эмили и то, что грозит Энн, были бы совсем невыносимыми. Я никогда не забуду день смерти Эмили: со временем он видится мне все отчетливее и все темнее; это воспоминание постоянно возвращается ко мне. Это было ужасно. Она была в сознании, но измученна и задыхалась. Она упорно не хотела расставаться со счастьем жизни. Но лучше ничего не говорить о таких вещах.
Я рада, что твои подруги выступили против твоей поездки с Энн: это было бы нехорошо. Говоря по совести, даже если бы твоя мать и сестры согласились, я все равно не позволила бы. Дело не в боязни, что она не получила бы достаточного ухода: ей требуется совсем немногое, и на большее она сама не соглашается; но тебя ждали бы совершенно незаслуженные страхи и волнения. Если через месяц или шесть недель она по-прежнему будет так же хотеть перемены климата, как сейчас, то я (если Богу будет угодно) отправлюсь с ней сама. Это, разумеется, мой первейший долг, и все остальные заботы должны быть отложены. Я проконсультировалась с мистером Т., он не возражает и рекомендует Скарборо – то место, которое выбрала сама Энн. Я надеюсь, все устроится так, что ты сможешь побыть с нами по крайней мере часть нашего там пребывания. <…> Мне хотелось бы заказать заранее жилье – комнату или что получится. Обеспечивать себя там всем необходимым, наверное, ужасная морока. Я не люблю хранить провизию в буфете, запирать, бояться краж и так далее. Это всё такие мелкие и утомительные заботы.
Болезнь Энн прогрессировала медленнее, чем болезнь Эмили, а кроме того, она была не так эгоистична и не отказывалась ни от каких лечебных средств: пусть сама она и не имела веры в пользу лекарств, но благодаря тому, что она их принимала, ее подруги могли впоследствии находить утешение в своей печали.
Я начинаю льстить себя надеждой, что она обретает силы. Однако похолодание сказалось на ее здоровье: в последнее время боли усилились. Тем не менее до сих пор ее болезнь не похожа на страшные быстрые симптомы у Эмили, которые приводили нас в смятение. Если бы она только пережила весну, то, я надеюсь, лето пошло бы ей на пользу, и тогда быстрый переезд в более теплое место на зиму мог бы, по крайней мере, продлить ее жизнь. Если бы мы могли рассчитывать хотя бы на следующий год, то я уже была бы благодарна. Но можем ли мы рассчитывать? Пару дней назад я написала доктору Форбсу, спрашивая его мнение. <…> Он предупредил, что нам не следует питать оптимистических надежд на ее выздоровление. Он полагает, что рыбий жир – весьма действенное средство. Кроме того, он не одобряет перемену места в настоящее время. У нас есть только слабое утешение в сознании того, что мы делаем все возможное. Нельзя сказать, что больная полностью предоставлена себе, как было в случае с Эмили. То ужасное чувство, которое мы испытывали тогда, теперь не вернется. Это было ужасно. У меня самой значительно уменьшились боли в груди, стало меньше болеть горло, исчезла хрипота. Я попробовала пить горячий уксус, и, похоже, это помогло.
1 мая
Я была рада слышать, что ты будешь нас сопровождать, когда мы отправимся в Скарборо, однако это путешествие и его последствия по-прежнему пугают меня. Я бы предпочла отложить его на две-три недели. Возможно, к тому времени погода станет мягче и это придаст Энн больше сил, хотя, возможно, все будет наоборот, кто знает. Перемены погоды к лучшему до сих пор не оказали на нее благотворного влияния. Она в последние дни была так слаба и так страдала от боли в боку, что я не знала, что и делать. <…> Она может снова почувствовать себя лучше, и даже гораздо лучше; должно быть хоть какое-то улучшение, прежде чем я решу, что она готова ехать. Отсрочка тоже болезненна, поскольку, как всегда в этих случаях, мне кажется, что Энн, в своем состоянии, не отдает себе отчета в необходимости отсрочки. Энн, похоже, удивляется, почему я больше не заговариваю о поездке, и меня огорчает сама мысль, что она обижена моей кажущейся медлительностью. Она совсем истощена – гораздо больше, чем тогда, когда ты видела ее в последний раз. Руки ее не толще, чем у маленького ребенка. Малейшее напряжение сил приводит к одышке. Она каждый день выходит ненадолго из дому, но мы с ней скорее ползем, чем гуляем. <…> Папа по-прежнему чувствует себя хорошо, и я могу рассчитывать на его поддержку. Так что у меня есть причина быть благодарной Господу.
Пришел май и принес с собой столь долгожданную теплую погоду. Но у Энн совсем не было сил для того, чтобы затевать переезд. Немного погодя похолодало, и одновременно ей полегчало, так что бедная Шарлотта стала надеяться, что Энн сможет прожить еще долго, если ей удастся пережить май. Шарлотта написала письмо с просьбой снять жилье в Скарборо, куда Энн когда-то приезжала вместе с семейством, в котором служила гувернанткой239. Они получили большую гостиную и просторную спальню с двумя кроватями (обе комнаты выходили на море) в одном из лучших домов городка. Деньги не играли роли: речь шла о жизни и смерти. А кроме того, Энн получила небольшое наследство от своей крестной, и обе сестры решили потратить эти средства на то, что поможет если и не выздороветь, то продлить жизнь. 16 мая Шарлотта писала:
Я готовлюсь к отъезду с тяжелым сердцем, и мне хотелось бы, чтобы это трудное путешествие поскорей завершилось. Оно может оказаться тяжелее, чем я ожидала: временные меры часто бывают благотворны, но когда я вижу, как день ото дня у нее убывают силы, то не знаю, как быть. Боюсь, ты будешь поражена видом Энн. Но, пожалуйста, милая Э., держи себя в руках и постарайся не выражать вслух своих чувств: ты ведь не только добра, но и прекрасно владеешь собой. Мне бы хотелось, чтобы мой разум подсказывал мне, что надо ехать в Скарборо, однако он говорит противоположное. Ты спрашиваешь, как я решилась покинуть папу и кто меня заменит? Я не делала специальных приготовлений. Он сам хочет, чтобы я ехала с Энн, и не желает слушать о приезде мистера Н. или кого-то ему подобного; поэтому я просто делаю то, что кажется мне наилучшим в данной ситуации, а в остальном полагаюсь на Провидение.
Они собирались остановиться и переночевать в Йорке, а также, по желанию Энн, совершить там некоторые покупки. Шарлотта заканчивает письмо к подруге, в котором все это описано следующим образом:
23 мая
Все эти разговоры о покупке шляпок и тому подобного в нашем случае, увы, звучат почти насмешкой. Вчера Энн было очень плохо: тяжелая одышка продолжалась весь день, даже когда она сидела совсем без движения. Сегодня ей снова получше. Я жду момента, когда будет понятно, оправдала ли себя вся эта затея с поездкой на море. Сделается ли ей от этого легче? Трудно сказать, остается только надеяться. Ах, если бы Господу было угодно вернуть Энн силы и возродить ее, как счастливы были бы мы все вместе. Но да свершится воля Его!
Сестры покинули Хауорт в четверг, 24 мая. Они должны были выехать днем раньше и уже договорились встретиться с подругой на вокзале в Лидсе и дальше следовать всем вместе. Но в среду утром Энн стало так плохо, что ехать оказалось нельзя; при этом у сестер не было возможности дать знать об этом подруге, и она прибыла на вокзал в Лидсе в указанное время. Там она просидела несколько часов в ожидании. Ее впечатлило странное совпадение, которое впоследствии стало казаться зловещим предзнаменованием: пока она находилась на вокзале, два разных поезда привозили гробы. Их водружали на катафалки, ожидавшие своих мертвецов точно так же, как она ждала ту, которой предстояло умереть через четыре дня.
На следующий день, не в силах более выносить неопределенности, подруга отправилась в Хауорт и достигла его как раз вовремя, чтобы помочь перенести изможденную, находившуюся в полуобморочном состоянии больную в карету, готовую отвезти их в Китли. Служанка, стоявшая у ворот пастората, увидела печать смерти на лице у Энн и сказала об этом вслух. Шарлотта тоже понимала, к чему идет дело, но не говорила об этом, чтобы не придавать своим страхам слишком ясной формы. Если ее последняя любимая сестра хотела поехать в Скарборо, то пусть поедет, решила Шарлотта, смиряя сердечный страх. Та дама, которая их сопровождала, – любимая подруга Шарлотты на протяжении двадцати лет – любезно согласилась описать мне это путешествие и его финал240.
Она покинула дом 24 мая 1849 года, а умерла 28 мая. Жизнь ее была спокойной, тихой, исполненной веры – такой же, как ее кончина. Невзирая на все трудности путешествия, она проявляла благочестие, смелость и силу духа, достойные святой. Зависимость и беспомощность были для нее куда тяжелее, чем мучительная боль.
Первая часть поездки заканчивалась в Йорке. Там наша дорогая больная почувствовала себя хорошо, была радостна и счастлива, и мы совсем утешились и почувствовали надежду на то, что временное улучшение происходит от перемен, которых она сама так хотела, а ее близкие так боялись.
По ее просьбе мы посетили Йоркский собор. Это принесло ей огромную радость не только из-за его величественности: для ее чувствительной натуры это зрелище послужило живой и потрясающей иллюстрацией всесилия Господня. Она сказала, глядя на здание: «Если земные силы способны воздвигнуть такое, то что же?..» Волнение не позволило ей говорить дальше, и она попросила поскорей увести ее от этого удивительного зрелища.
Она была совсем слаба телесно, но сохраняла чувство умиления и благодарности перед всяким проявлением благодати. После тяжело давшегося ей перехода в спальню, она соединила руки и взглянула ввысь, беззвучно принося свою благодарность, – и это не было заменой обычной молитвы: она помолилась, преклонив колена, прежде чем легла на кровать, чтобы обрести покой.
Мы приехали в Скарборо 25 мая. По пути наша дорогая больная постоянно обращала наше внимание на все сколько-нибудь достойные внимания виды.
На следующий день, 26 мая, она отправилась на часок в дюны. Возница погонял ослика, запряженного в повозку, сильней, чем могло выдержать ее нежное сердце, и потому она взяла вожжи в свои руки и стала править сама. Вместе с подругой они просили мальчишку – хозяина ослика – пожалеть бедное животное. Она всегда питала любовь к бессловесным созданиям и всегда была готова пожертвовать ради них собственным комфортом.
В воскресенье, 27 мая, она пожелала сходить в церковь, и глаза ее засияли при одной мысли о том, что она сможет еще раз вознести молитвы своему Господу в окружении себе подобных. Мы решили, что будет благоразумно отговорить ее от этого, хотя было очевидно, что ее сердце жаждало присоединиться к общему богослужению, чтобы восславить Господа.
Во второй половине дня она немного погуляла и, увидев на пляже удобную скамейку с козырьком, попросила нас оставить ее там и погулять, наслаждаясь видами, которые были ей уже знакомы, но новы для нас. Ей нравилось это место, и она хотела, чтобы мы разделили ее восторги.
Вечер завершился самым великолепным закатом, который мне когда-либо случалось видеть. Замок гордо возвышался на скале, позолоченный лучами заходящего солнца. Отдаленные корабли блестели, как полированное золото. Маленькие лодки у берега покачивались на волнах прилива, словно приглашая прокатиться. Грандиозное зрелище было выше любого описания. Энн сидела в мягком кресле возле окна и вместе с нами наслаждалась этим зрелищем. Лицо ее было озарено почти так же ярко, как восхитительный пейзаж, на который она смотрела. Мы почти ничего не говорили, поскольку было ясно, что ее мысли заняты развернувшимся перед ней грандиозным зрелищем, которое позволяло проникнуть в запредельные области вечной жизни. Она снова подумала о богослужении и захотела, чтобы мы отправились в Дом Божий и присоединились там к молящимся. Мы отказались, мягко убеждая ее, что для нас и долг, и радость оставаться с ней, такой близкой нашим сердцам и такой слабенькой. Она вернулась на свое место у камина и обсудила с сестрой, следует ли сейчас возвращаться домой. Энн хотела этого, но не ради себя. Она боялась, что нам придется больше претерпеть, если она скончается здесь, и, по-видимому, думала о том, каково будет нам сопровождать ее бездыханное тело: за краткий срок в девять месяцев ее родным не выдержать ужаса того, что Шарлотта привезет еще одного, уже третьего, обитателя семейного гнезда мертвым.
Ночь прошла без явных признаков ухудшения болезни. Она проснулась в семь и совершила большую часть своего утреннего туалета сама – таково было ее желание. Сестра всегда уступала подобным настояниям Энн, полагая, что истинная доброта заключается в том, чтобы не указывать больной на ее неспособность что-либо сделать, если она сама этого не признает. Все было спокойно примерно до одиннадцати утра. Затем Энн сказала: что-то произошло и теперь ей недолго осталось. Успеет ли она доехать до дому живой, если мы немедленно отправимся в путь? Мы послали за врачом. Энн говорила с ним совершенно спокойно. Она спросила, не боясь услышать правду, как он думает, сколько ей осталось, ибо ей не страшно умереть. Врач неохотно признал, что ангел смерти уже здесь и что ее жизнь быстро убывает. Она поблагодарила его за правдивость, и он ушел, чтобы вскоре вернуться. Энн по-прежнему сидела в мягком кресле и выглядела такой спокойной, такой уверенной в себе, что это не оставляло места скорби, хотя все мы знали, что час расставания пробил. Она сложила руки и благоговейно попросила благословения Небес вначале своей сестре, а затем – подруге, которой сказала: «Будьте ей сестрой вместо меня. Постарайтесь видеться с Шарлоттой как можно чаще». Затем она поблагодарила каждую из нас за доброту и внимание к ней.
Вскоре почувствовалось приближение неумолимой смерти, и Энн перенесли на диван. Когда ее спросили, не легче ли ей, она с благодарностью посмотрела на спрашивавшую и ответила: «Теперь уже вы не можете принести мне облегчение. Скоро все станет хорошо благодаря милосердию Спасителя». Немного погодя, увидев слезы в глазах сестры, Энн сказала: «Бодрее, Шарлотта, бодрее!» Она сохраняла свою веру, и глаза ее были ясны вплоть до двух часов, когда она тихо, без вздоха, перешла из этого мира в вечный. В последние часы и минуты она была необыкновенно тиха и вызывала благоговение. Мы уже не думали о помощи и не испытывали страха. Доктор несколько раз приходил и уходил. Хозяйка дома знала, что смерть близка, но дом был так мало потревожен присутствием умирающей и скорбью ее близких, что мы услышали через полуоткрытую дверь, как постояльцев позвали к столу, – это произошло как раз тогда, когда оставшаяся в живых сестра закрыла глаза умершей. Шарлотта не могла больше сдерживать кипящую в груди скорбь по сестре, призывавшей ее бодриться, и ее чувства вылились в кратком, но сильном взрыве. Однако чувства Шарлотты проявились и иначе: они обратились в мысли и умиление. Она понесла тяжелую утрату, но не была одинока, рядом с ней была подруга, готовая ее поддержать, и эта поддержка была принята. Вместе с успокоением пришла и мысль о том, что теперь нужно перевезти останки домой, на место последнего упокоения. Этот печальный долг, однако, так и не был исполнен, ибо Шарлотта решила: цветок должен остаться там, где он упал. Ей казалось, что это соответствовало бы желаниям умершей. Где именно будет находиться могила, она не знала. Шарлотта думала не о том, что имеет отношение к земному телу, но о том, что выше.
- Ее останки покоятся там,
- Где солнце юга согревает дорогой теперь сердцу участок земли,
- Где океанские волны бьются о подножие высокой скалы.
Энн умерла в понедельник. Во вторник Шарлотта написала отцу. Зная, что его присутствие необходимо на ежегодном торжественном церковном собрании в Хауорте, она сообщила, что уже приготовила все необходимое для погребения и что похороны состоятся вскоре, – вряд ли он успеет на них приехать. Тот доктор, который посещал Энн в день ее смерти, предложил свою помощь, однако она была вежливо отклонена.
Мистер Бронте написал письмо, в котором убеждал Шарлотту побыть подольше на берегу моря. Ее здоровье и душевное спокойствие сильно пошатнулись, и, как бы ни хотелось ему поскорей увидеть свое единственное оставшееся в живых дитя, он чувствовал себя вправе убеждать Шарлотту провести вместе с подругой еще несколько недель в новом для них месте, хотя вряд ли это могло отвлечь ее. Чуть позже, в июне, подруги отправились по домам, расставшись как-то совсем неожиданно (так показалось обеим), как только разошлись их дороги.
Июль 1849 года
Я собиралась написать тебе пару строк сегодня, если бы не получила твоего письма. Мы действительно расстались как-то неожиданно. Мое сердце неспокойно оттого, что мы не успели обменяться и словом, но, может быть, это и к лучшему. Я приехала сюда около восьми часов. Меня ждали: в доме все было убрано и вычищено. Папа и наши служанки чувствуют себя хорошо; все встретили меня с такой аффектацией, что пришлось их утешать. Собаки были совсем вне себя. Я уверена, они воспринимают меня как предвестницу появления остальных. Бессловесные твари решили, что следом за мной вернутся домой и те, кто так долго отсутствует дома.
Я вскоре оставила папу одного и заперлась в столовой. Я пыталась найти в себе чувство радости от возвращения. Раньше я почти всегда, за исключением одного случая, радовалась приездам домой, и даже в тот раз, который был исключением, я чувствовала себя в хорошем расположении духа. Но теперь радости не было. В доме стояла тишина, комнаты были пусты. Я вообразила, как все трое лежат в узких темных гробах, и ощутила, что они никогда не вернутся на землю. Мной овладело чувство покинутости и горечи. Та скорбь, которую надо было претерпеть и которой нельзя было избежать, охватила меня. Я терпела ее все эти страшные вечер, ночь и мрачное утро. Сегодня мне стало лучше.
Не знаю, как пройдет моя жизнь, но я верую в Того, кто поддерживал меня до сих пор. Одиночество может быть скрашено, его можно выносить в большей степени, чем мне казалось раньше. Самое тяжелое время наступает, когда сгущаются сумерки и приближается ночь. В этот час мы обычно собирались в столовой и беседовали. Теперь я сижу там одна, и мне не с кем обмолвиться словом. Я поневоле обращаюсь памятью к их последним дням, вспоминаю их страдания, то, что они говорили и делали, как они выглядели во время смертельной болезни. Может быть, со временем все эти воспоминания перестанут так мучить меня.
Позволь поблагодарить тебя еще раз, дорогая Э., за твою доброту ко мне, которую я никогда не забуду. Как ты нашла свой дом? Папе кажется, что я немного ободрилась, он говорит, что глаза у меня уже не такие запавшие.
14 июля 1849 года
Мне не очень хочется писать о себе. Лучше выйти за пределы собственных мыслей и чувств и поговорить о чем-то более веселом. Простуда, которую я где-то подхватила – в Истоне или в другом месте, – все никак не проходит. Началось все с болей в горле, но теперь болит также и грудь, есть и кашель, но совсем легкий и непостоянный. Удивляет меня и боль между лопатками – откуда она взялась? Больше не буду об этом говорить, а то я начинаю слишком нервничать. Нервозность – ужасная вещь. Я не решаюсь ни на что жаловаться папе: его беспокойство тревожит меня невыразимо.
Жизнь моя проходит так, как я и ожидала. Иногда, поднявшись утром, я осознаю, что Одиночество, Воспоминания и Тоска будут моими единственными собеседниками в течение всего дня и что вечером я отправлюсь в постель вместе с ними и они долго не будут давать мне заснуть, а наутро я проснусь, чтобы снова с ними встретиться. И тогда, Нелл, мне становится совсем плохо. Но я не раздавлена случившимся, нет. Я не лишилась ни способности оправляться от ударов, ни надежд, ни стремлений. У меня хватает сил, чтобы продолжить битву жизни. знаю и готова думать, что у меня остается много утешений, много такого, за что надо быть благодарной. Я могу продолжать жить. Но я молю Господа, чтобы ни тебе, ни кому-либо из тех, кого я люблю, не выпал мой жребий. Сидеть одной в пустой комнате, слушать, как часы громко тикают в тихом доме, и мысленно возвращаться ко всему случившемуся за последний год, со всеми его ударами, страданиями и потерями, – все это тяжкое испытание.
Я пишу тебе свободно, поскольку знаю, что ты выслушаешь меня сдержанно, не станешь поднимать тревогу и не подумаешь обо мне хуже, чем я заслуживаю.
Глава 4
Роман «Шерли» был начат вскоре после публикации «Джейн Эйр». Если читатель обратится к моему рассказу о школьных годах мисс Бронте в Роу-Хеде, то увидит, насколько связаны места, соседствующие со школой, с историей луддитского восстания, и поймет, что истории того времени были живы в памяти обитателей окрестных деревень. И сама мисс Вулер, и родители большинства соучеников Шарлотты лично знали многих участников печальных и беспокойных событий. То, что мисс Бронте слышала здесь в детстве, вспомнилось ей в зрелые годы, и она избрала это темой своего следующего произведения. Шарлотта послала в Лидс за подборкой «Меркюри» за 1812–1814 годы, чтобы понять дух того тревожного времени. Ей хотелось написать о вещах, хорошо ей известных, и среди них был и характер жителей Западного Йоркшира, подробного изображения которого нельзя избежать, если действие вашего сочинения происходит в среде луддитов. В «Шерли» большинство персонажей имеют реальных прототипов, хотя происходящее с ними, разумеется, вымышлено. Шарлотта полагала, что если события не имеют ничего общего с действительностью, то в остальном она может списывать прямо с натуры и этого никто не заметит. Однако она заблуждалась: ее наброски были слишком точными, и это время от времени приводило к осложнениям. В ее выразительных описаниях внешности, манер или в словах персонажей люди узнавали самих себя или их узнавали другие, хотя герои и были помещены в новые условия и изображены в декорациях, совсем не напоминающих подлинную обстановку жизни их прототипов. Мисс Бронте поражали какие-либо особенные черты в тех людях, которых она знала, и она изучала эти свойства с присущим ей аналитическим даром. Проследив их до самого зародыша, она строила на этой основе характер вымышленного персонажа, а затем уже придумывала другие его качества. Таким образом, обычный процесс анализа оказывался перевернут и писательница бессознательно воспроизводила развитие человека.
«Три младших священника» были реальными людьми, часто посещавшими Хауорт и окрестные районы241. Когда утихла волна гнева по поводу того, что их привычки и жизненные обстоятельства оказались изображены в романе, эти люди стали даже называть друг друга в шутку теми именами, которые дала им мисс Бронте. «Миссис Прайор» легко узнают те, кто искренне любил ее оригинал242. Описание «семейства Йорк», как я слышала, можно сравнить с дагеротипом243. Еще до публикации романа мисс Бронте рассказала мне, что она посылала части романа, в которых даются эти примечательные портреты, одному из членов изображенного ею семейства. Прочитав, он заметил только, что «она нарисовала их недостаточно энергично». У сыновей ***, людей образованных и интересных, она, как мне кажется, позаимствовала все, что было правдивого в характерах героев ее двух первых произведений. Они ведь были единственными молодыми людьми, которых она близко знала, если не считать ее брата. Между ними и семьей Бронте существовала большая дружба и доверие, хотя общались они только урывками и совсем нерегулярно. Обе стороны очень тепло относились друг к другу.
В героине по имени Шерли Шарлотта представила не кого иного, как Эмили. Я пишу об этом, поскольку все, что смогла узнать об Эмили, не будучи членом семьи, не производило приятного впечатления. Но следует помнить, как мало мы о ней знаем, тогда как Шарлотта утверждает, что Эмили была «несомненна добра и воистину велика». Шарлотта попыталась придать ее черты Шерли Килдар, вообразив, кем могла бы стать Эмили, если бы прожила более благополучную жизнь.
Написать «Шерли» было не просто. Шарлотта чувствовала, что слава налагает на нее двойную ответственность. Она стремилась сделать свой роман жизнеподобным: ей казалось, что достаточно лишь описать свой личный опыт и наблюдения как можно ближе к действительности, и книга сама собой получится хорошей. Она тщательно изучала разнообразные рецензии, которые последовали за появлением «Джейн Эйр», в надежде почерпнуть из них полезные рецепты и советы.
Однако в самом разгаре работа над новым романом была прервана смертями близких. Шарлотта почти закончила второй том, когда умер Брэнвелл, потом последовала смерть Эмили, затем – Энн. Перо, отложенное в тот момент, когда в доме жили три любящие друг друга сестры, было поднято уже единственной оставшейся в живых. Отсюда название первой главы, написанной после перенесенных утрат, – «Долина смерти»244.
Когда я читаю трогательные слова в конце этой и начале следующей главы, то отчасти понимаю, что должна была чувствовать писательница.
…До самого рассвета боролась она с призраком смерти, обращая к Богу страстные мольбы.
Далеко не всегда побеждают те, кто осмеливается вступить в спор с судьбой. Ночь за ночью смертный пот увлажняет чело страждущей. Тщетно взывает в милосердии душа тем бесплотным голосом, каким обращаются с мольбой к незримому.
– Пощади любимую мою! – молит она. – Спаси жизнь моей жизни! Не отнимай у меня ту, любовь к которой заполнила все мое существо. Отец Небесный, снизойди, услышь меня, смилуйся!
Ночь проходит в борьбе и мольбах, встает солнце, а страждущей нет облегчения. Бывало, раннее утро приветствовало ее легким шепотом ветерка и песней жаворонка, а сейчас с побледневших и холодных милых уст слетает навстречу рассвету лишь тихая жалоба:
– О, какая это была тягостная ночь! Мне стало хуже. Хочу приподняться – и не могу. Тревожные сны измучили меня!
Подходишь к изголовью больной, видишь новую страшную перемену в знакомых чертах и вдруг понимаешь, что невыносимая минута расставания уже близка, что Богу угодно разбить кумир, которому ты поклонялся. Бессильно склоняешь тогда голову и покоряешься душой неотвратимому приговору, сам не постигая, как сможешь его перенести. <…> Каролина проснулась без жалобных стонов, которые так мучительны, что, как бы мы ни клялись сохранять твердость, невольно вызывают потеки слез, смывающих все клятвы. Она проснулась – и не было в ней апатии, глубокого безразличия к окружающему. Она заговорила – и слова ее не были словами отрешенной от мира страдалицы, которая уже побывала в обителях, недоступных живым.
Она продолжала упорно работать. Но было скучно писать в условиях, когда некому послушать, как продвигается ее работа, некому найти ошибку или похвалить. Никто уже не расхаживал по гостиной ни вечером, ни днем. Раньше это делали все три сестры, потом одна из них умерла, а теперь осталась только она одна, осужденная прислушиваться, не раздадутся ли звуки шагов, и слышащая только похожие на человеческие голоса завывания ветра в окнах.
Тем не менее она продолжала писать, борясь с собственным недомоганием – «постоянно возвращавшейся небольшой простудой», болями в горле и груди, от которых, по ее словам, было «невозможно избавиться».
В августе появилась новая причина для беспокойства, к счастью долго не продлившаяся.
23 августа 1849 года
Папе было очень нехорошо в последнее время. У него снова начался бронхит. Я очень беспокоилась за него в течение нескольких дней; они были настолько ужасны, что я не могу тебе этого передать. После всего случившегося любое проявление нездоровья заставляет меня дрожать. А когда дело касается папы, то я очень остро чувствую, что он мой последний, единственный дорогой и близкий родственник на всем свете. Вчера и сегодня ему было уже гораздо лучше, слава Богу. <…>
То, что ты пишешь о мистере ***, весьма мне нравится. Значит, *** выводит из себя его внешний вид? Но какая ей разница, обедает ее муж во фраке или в костюме для верховой езды? Главное, чтобы у него были достоинство и честность, а также чистая рубашка.
10 сентября 1849 года
Мой труд наконец окончен и отправлен по назначению. Теперь ты должна написать мне, сможешь ли ты приехать к нам. Боюсь, это будет трудно устроить сейчас, незадолго до свадьбы. Знай, что если приезд в Хауорт причинит тебе или кому бы то ни было неудобства, то это испортит мне все удовольствие. Но если это удобно, я буду искренне рада тебя видеть. <…> Папа, слава Богу, чувствует себя лучше, хотя он по-прежнему слаб. Его часто беспокоит что-то вроде морской болезни. Моя простуда дает себя знать гораздо меньше, а иногда я не чувствую ее вовсе. Несколько дней тому назад у меня было разлитие желчи, как следствие слишком долгого писания, но теперь все уже прошло. Это первый приступ подобного рода с тех пор, как я вернулась с побережья. Раньше они случались ежемесячно.
13 сентября 1849 года
Если долг и благополучие ближних требуют, чтобы ты оставалась дома, то я не позволю себе жаловаться, хотя мне очень, очень жаль, что обстоятельства не позволяют нам встретиться прямо сейчас. Я без колебаний отправилась бы в ***, если бы папа чувствовал себя лучше. Но поскольку нельзя сказать ничего определенного ни о его здоровье, ни о состоянии духа, я не смогу убедить себя его покинуть. Зато когда мы увидимся, наша встреча будет еще приятнее от долгого ожидания. Дорогая Э., на твоих плечах, несомненно, лежит тяжкое бремя, но характер человека закаляется, если оказывается способен вытерпеть подобную тяжесть. Только при этом мы должны самым пристальным образом следить за тем, чтобы не возгордиться своей силой, позволившей нам выдержать все испытания. Такая гордость, на самом деле, была бы признаком настоящей слабости. Сила, если она у нас есть, исходит, разумеется, не из нас самих, она даруется нам свыше.
У. С. Уильямсу, эсквайру
21 сентября 1849 года
Мой дорогой сэр,
я благодарна Вам за то, что Вы сумели сохранить мою тайну, и лучше позаботиться о ее сохранении не смогла бы я сама. Вы спрашиваете в одном из последних писем, получится ли избежать узнавания моего авторства в Йоркшире? Я настолько мало здесь известна, что, по-видимому, получится. Кроме того, книга в гораздо меньшей степени основана на действительных событиях, чем кажется. Мне трудно даже передать Вам, как мало в действительности я знаю жизнь, как немного на свете людей, которых знала я, и как ничтожно мало тех, кто знает меня.
В качестве примера того, как были придуманы персонажи, возьмем мистера Хелстоуна. Если у героя и был прототип, то это священник, умерший несколько лет назад в весьма почтенном возрасте – около восьмидесяти лет245. Я видела его всего один раз – при освящении церкви, и мне тогда было всего десять лет. Помню, меня поразила его внешность и суровый, воинственный вид. В последующие годы я узнавала о нем по рассказам местных жителей. Некоторые вспоминали его с воодушевлением, другие – с ненавистью. Я прислушивалась к различным историям (подчас свидетельства противоречили друг другу) и делала выводы. Прототипа мистера Холла я видела, и он тоже немного меня знает246. Но я полагаю, он не способен заподозрить, что я внимательно наблюдала за ним ради превращения его в литературного персонажа. Он столь же способен заподозрить меня в написании романа, как и его пес Принц. Маргарет Холл247 называет «Джейн Эйр» «безнравственной книгой», ссылаясь на авторитет «Квотерли»; это выражение в ее устах, должна признаться, задевает меня за живое. У меня открылись глаза на тот вред, который причинил «Квотерли». Маргарет не стала бы называть роман безнравственным, если бы ей не сказали об этом другие.
Для меня не важно, известна я или нет, правильно судят обо мне или нет, – я не могу писать иначе. Я могу идти только в том направлении, в котором ведет меня мой дар. На свете было только два человека, которые понимали меня и которых понимала я, – обеих больше нет. У меня есть те, кто любит меня и кого люблю я, не ожидая и не имея права ожидать, что они смогут меня хорошо понять. Я довольна тем, что есть, и в области литературы мне следует идти собственным путем. Потеря самых близких и дорогих на свете сильно влияет на человека: он начинает искать, что же еще в жизни может послужить ему опорой, и если находит нечто подобное, то хватается за него мертвой хваткой. Способность сочинять спасла меня, когда я тонула, это было три месяца назад. Именно упражнения в вымысле помогали мне держать голову над поверхностью воды, и результаты этих фантазий радуют меня теперь: я чувствую, что они несут радость и другим. Я благодарна Господу, который дал мне эту способность.
Искренне Ваша,
Шарлотта Бронте.
В момент, когда это письмо было написано, обе служанки – и Тэбби, и молодая женщина, которая ей помогала, – лежали больные, и вся домашняя работа, если не считать редкой внешней помощи, падала на плечи мисс Бронте. Ей же приходилось заботиться и об обеих больных.
Младшая служанка была больна серьезно. Однажды мисс Бронте услышала крик Тэбби, звавшей ее в кухню. Войдя туда, Шарлотта увидела, что бедная старушка (Тэбби было уже за восемьдесят) свалилась со стула и лежит на полу так, что ее голова попала под решетку для приготовления пищи. Когда я познакомилась с Тэбби два года спустя, она описала мне нежную заботу, которой окружила ее в те дни Шарлотта. По словам старушки, «родная мать так бы не заботилась о своем дитяте, как мисс Бронте обо мне. Да! Она славная очень. Очень!» – заключила Тэбби.
Однако был один день, когда натянутые нервы не выдержали. По словам самой Шарлотты, она «просто выпала из действительности на десять минут, села и заплакала как дурочка. Тэбби не могла ни стоять, ни ходить. Папа объявил, что жизнь Марты под угрозой. Сама я совсем пала духом от постоянной головной боли и слабости. В тот день я просто не знала, что делать, за что хвататься. Но слава Господу! Марта теперь выздоравливает. Тэбби, я надеюсь, скоро пойдет на поправку. Папа в порядке. Я чувствую удовлетворение, получив известия от своих издателей: им понравилось то, что я прислала. Все это действует ободряюще. Но жизнь – это битва. Дай Бог, чтобы мы все смогли выдержать сражение!»
Верная подруга, которой Шарлотта писала это, видела, что силы мисс Бронте на пределе и нуждаются в чем-то ободряющем. Поэтому она прислала ей в подарок ванну с душем – вещь, которую та давно хотела приобрести. Вот как описывает Шарлотта получение этого подарка:
28 сентября 1849 года
…Марта уже почти поправилась, и Тэбби чувствует себя гораздо лучше. Вчера пришла огромная посылка с надписью: «Нельсон, Лидс». Тебя следует просто отшлепать – вот какова будет благодарность за все твои заботы. <…> Когда бы ты ни приехала в Хауорт, ты сможешь, разумеется, вымокнуть насквозь в нашем душе. Я все еще не распаковала эту несчастную посылку.
Твоя, насколько ты этого заслуживаешь,
Ш. Б.
В это время над Шарлоттой нависла неприятная угроза. У нее имелись железнодорожные акции; еще в 1846 году она писала мисс Вулер, что хочет их продать, однако не сделала этого, поскольку не сумела склонить на свою сторону сестер и предпочла риск материальных потерь риску задеть чувства Эмили, поступив наперекор ее воле. Теперь акции обесценились, что подтвердило изначальную правоту Шарлотты. Это были акции Йоркской и Северноцентральной компании – одной из железных дорог мистера Хадсона248, который получал большие доходы от использования своей весьма своеобразной системы управления. Шарлотта обратилась к мистеру Смиту, другу и издателю, за сведениями по этой теме. После получения ответа она направила ему следующее письмо:
4 октября 1849 года
Мой дорогой сэр,
мне не следует Вас благодарить, надо только уведомить о получении Вашего письма. Дело, несомненно, очень плохо: хуже, чем я думала, и много хуже того, что думал мой отец. Некоторое количество железнодорожных акций, имеющихся у меня, если исходить из их изначальной стоимости, составляло некий капитал, небольшой, но значительный для меня, с моими взглядами и привычками. Теперь же получается, что нельзя рассчитывать даже на малую долю от него. Мне придется открыть горькую истину моему отцу не сразу, а постепенно, а самой тем временем терпеливо ждать момента, когда наступит некая ясность в делах. <…> Чем бы все это ни окончилось, мне следует быть скорее благодарной, чем разочарованной. Когда я сравниваю свой случай с тысячами других, то оказывается, что у меня едва ли есть повод жаловаться. Многие, очень многие лишились из-за этой странной железнодорожной системы буквально хлеба насущного. Поэтому тем, кто всего лишь потерял излишки, отложенные на будущее, не следует спешить сетовать на судьбу. Мысль о том, что «Шерли» понравилась на Корнхилл, доставляет мне большую, хотя и тихую радость. Не сомневаюсь, впрочем, что Вы, как и я сама, готовы к суровым оценкам критиков. Но при этом я имею основания полагать, что судно построено достаточно крепко, чтобы пережить не одну бурю и в конечном итоге совершить выгодное для Вас плавание.
Ближе к концу октября того же года Шарлотта отправилась в гости к подруге. Однако радость от отдыха, который она так долго откладывала, заканчивая работу, была омрачена продолжающимся нездоровьем. То ли перемена климата, то ли туманная ненастная погода послужили причиной постоянных болей в груди. Кроме того, Шарлотта волновалась, какое впечатление произведет на публику ее второй роман. По понятным причинам писатель всегда оказывается чувствительнее, чем раньше, к мнениям, высказываемым по поводу книги, следующей за той, что имела большой успех. Какова бы ни была истинная цена обретенной славы, автор не желает, чтобы она потускнела или сошла на нет.
Роман «Шерли» был опубликован 26 октября.
Когда он вышел, мистер Льюис, еще не читавший книгу, написал Шарлотте о своем желании поместить рецензию в «Эдинбурге». Они давно уже не писали друг другу, и за это время случилось много событий.
Мистеру Дж. Г. Льюису, эсквайру
1 ноября 1849 года
Мой дорогой сэр,
прошло около полутора лет со времени Вашего последнего письма ко мне, но мне этот период кажется гораздо длиннее, поскольку с тех пор мне довелось пройти сквозь самые мрачные места на дороге жизни. В это время, случалось, литература совсем переставала занимать меня и мысли о критиках и славе казались пустыми. Меня совсем не интересовало то, что казалось столь важным при первой публикации «Джейн Эйр», однако теперь хотелось бы, чтобы все это, если возможно, вернулось. Именно поэтому так приятно получить Ваше письмо. Мне не хочется, чтобы Вы думали обо мне как о женщине. Пусть все рецензенты продолжают считать, что Каррер Белл – это мужчина, тогда они будут более справедливы к нему. Вы, по-видимому, приметесь судить о моем произведении по тем меркам, которые считаете применимыми к моему полу: если оно не покажется Вам изящным, Вы осудите писательницу. Все непременно ополчатся на первую главу, хотя эта глава истинна, как Библия, и не только она одна. Что ж, будь что будет. Я не могу, когда пишу, думать себе: получается ли у меня сочинять элегантно и по-дамски мило. Я никогда не беру перо в руки с подобными мыслями, и, если по таким критериям начнут судить о моей книге, я предпочту покинуть читателей и больше их не тревожить. Выйдя из неизвестности, я с легкостью уйду в неизвестность. Стоя в сторонке, я буду наблюдать, что случится с «Шерли». Многого не жду и предвижу только печальные и горькие известия. По-прежнему прошу Вас честно написать мне, что Вы думаете о романе. Лесть хуже, чем ничто, она не принесет мне никакого утешения. Что же касается хулы, то я после некоторого размышления не вижу, отчего нужно ее бояться. От нее не пострадает никто, кроме меня, а в этой жизни и радость, и страдание быстро исчезают. Желаю Вам успеха в Вашей шотландской экспедиции.
Остаюсь искренне Ваш,
К. Белл.
Мисс Бронте, как видим, по-прежнему желала сохранить свое инкогнито и настаивала на этом при публикации «Шерли». Ей даже казалось, что в новом романе женская рука менее заметна, чем в «Джейн Эйр». Вот почему, когда появились первые рецензии, утверждавшие, что загадочный писатель – на самом деле женщина, она была очень расстроена. Особенно ей не нравилось, если критики снижали критерии, по которым оценивали литературное произведение, исходя из того, что его автор женщина. Тогда похвалы мешались с псевдогалантными намеками на ее пол, и это обижало Шарлотту больше, чем прямое осуждение.
Однако столь ревностно охраняемая тайна все равно стала явной. Публикация «Шерли», похоже, укрепила убеждение публики в том, что автор – житель тех мест, где развивается действие романа. Один сообразительный уроженец Хауорта, который приобрел капитал и поселился в Ливерпуле, прочитал роман и заметил в нем упоминание знакомых имен и географических названий. Узнал он и диалект, который периодически использовал автор романа. Все это привело его к убеждению, что произведение написано кем-то из жителей Хауорта. Но никого в деревне нельзя было в этом заподозрить, за исключением мисс Бронте. Обрадованный своей догадкой, этот читатель обнародовал свои подозрения (граничившие с уверенностью) на страницах ливерпульской газеты. Так тайна стала медленно выходить наружу. Во время визита в Лондон, который совершила мисс Бронте в конце 1849 года, эта тайна стала общеизвестной. У Шарлотты сложились прекрасные отношения с издателями; они помогали скоротать длинные скучные одинокие часы, столь часто выпадавшие в последнее время на ее долю, тем, что присылали ей целые коробки книг, которые куда больше соответствовали ее вкусам, нежели те, что она брала в передвижной библиотеке в Китли. Мисс Бронте часто писала на Корнхилл нечто подобное нижеследующему249:
Меня чрезвычайно заинтересовали книги, присланные Вами: «Разговоры Гёте с Эккерманом», «Догадки об истине»250, «Друзья в совете»251, а также небольшая книжка об английской светской жизни – последняя понравилась мне особенно. Мы иногда прикипаем душой к книгам, как к людям, – не оттого, что они проявляют блестящий интеллект или несходство с другими, но оттого, что находим в них нечто доброе, утонченное и подлинное. Полагаю, эта брошюра написана дамой, причем очень доброжелательной и тонко чувствующей, – оттого она мне и понравилась. Вы можете пока не думать о новых книгах для меня: мой запас еще далеко не исчерпан.
Я принимаю Ваше предложение, касающееся «Атенеума»252: эту газету я буду читать с удовольствием, если пересылка не очень Вас затруднит. Я буду возвращать ее очень пунктуально.
В письме к подруге Шарлотта жалуется на недомогание, которое ее почти никогда не отпускает.
16 ноября 1849 года
Не надо думать, что персонажи «Шерли» – это буквально срисованные с натуры портреты. Писать таким образом означало бы выступать против законов искусства и собственных чувств. Мы всего лишь позволяем природе подсказывать, но никогда не разрешаем диктовать. Мои героини – это некие отвлеченности, как, впрочем, и герои. Те человеческие качества, которые я наблюдала, любила, которыми восхищалась, я вставляю здесь и там как украшения, как драгоценные камни, чтобы они сохранились в этой оправе. Но раз ты утверждаешь, что можешь распознать прототипов почти всех героинь, то прошу тебя сказать: кто же, по твоему мнению, изображен в образах обоих Муров? Посылаю тебе пару рецензий253. Первая, из «Экземинер», написана Олбани Фонбланком, которого называют самым блестящим публицистом нашего времени: его критические вердикты высоко ценят в Лондоне. Другая, из «Стэндарт оф фридом», написана Уильямом Ховиттом, квакером! <…> Мое самочувствие было бы совсем хорошо, если бы не головные боли и не расстройство желудка. Грудь болит в последнее время гораздо меньше.
Измученная столь длительным недомоганием – утомляемостью, головными болями и тошнотой, к которым любой, даже самый краткий, выход на холод добавлял еще хрипы и боли в груди, – Шарлотта решила, что ей нужно отправиться в Лондон и проконсультироваться с врачом, больше ради отца, чем ради себя, и уничтожить зло в зародыше. Она уже не в первый раз собиралась в путешествие. На этот раз уговоры друзей-издателей убедили Шарлотту, и она согласилась принять приглашение мистера Смита и поселиться у него в доме. Прежде чем отправиться, она написала два весьма показательных письма относительно «Шерли», из которых я приведу несколько отрывков.
«Шерли» продвигается вперед. Рецензии следуют одна за другой. <…> Самая лучшая критика из до сих пор опубликованного появилась в «Ревю де Дё Монд»254 – это нечто вроде европейского «Космополитэн», который издается в Париже. Сравнительно мало рецензентов, даже из числа тех, кто хвалит роман, проявляют глубокое понимание авторского замысла. В отличие от них Эжен Форсад, автор рецензии, о которой я пишу, следует за Каррером Беллом во всех поворотах сюжета, различает все нюансы и оттенки и демонстрирует прекрасное владение предметом. Этому человеку я с удовольствием пожму руку при встрече. Я скажу ему: «Вы знаете меня, мсье, и для меня большая честь узнать вас». Не могу сказать того же о большинстве лондонских критиков. Наверное, такое можно сказать не более чем о пятистах мужчинах и женщинах из миллионов жителей Великобритании. Но все это не важно. Моя совесть спокойна, и если мне доведется понравиться только Форсаду, Фонбланку и Теккерею, то мои амбиции будут полностью удовлетворены. Я довольна и сейчас, потому что сделала все, на что способна. Я не учительница: оценивать меня с этой точки зрения – заблуждение. Учить – не моя стезя. А что я такое, говорить бесполезно. Те, кого это касается, сами поймут и сделают выводы. Для всех прочих я останусь малоизвестным и мало меняющимся частным лицом. Для тебя же, дорогая Э., я хочу быть настоящей подругой. Пришли мне весточку дружбы, а без восторгов я легко обойдусь.
26 ноября
Это вполне в твоем духе: объявить, что рецензии недостаточно хороши. Вполне соответствует той особенности твоего характера, которая не позволяет безоговорочно одобрить ни одного твоего платья или украшения. Знай же, что рецензии великолепны, и если бы я осталась ими недовольна, то была бы самолюбивой кривлякой. Ничего лучше никогда не говорилось совершенно незаинтересованными людьми о ныне живущих писателях. Если ничего не случится, я поеду на этой неделе в Лондон – в среду, вероятно. Портниха управилась с моими маленькими заданиями очень хорошо, но мне хотелось бы, чтобы ты увидела ее произведения и вынесла приговор. Я просила, чтобы платья были самыми простыми.
В конце ноября Шарлотта отправилась в «большой Вавилон» и там сразу погрузилась в водоворот событий. Все перемены мест, встречи и прочее, казавшиеся пустяками другим, для нее были необычны. Как это часто бывает с людьми, поселяющимися в чужом семействе, она поначалу побаивалась своих хозяев, полагая, что дамы смотрят на нее хоть и уважительно, но не без опасений. Однако через несколько дней это чувство практически исчезло: простота, скромность, сдержанность, хорошие манеры мисс Бронте растопили лед отчуждения. По ее словам, хозяева стали относиться к ней с симпатией, а она платила им тем же, ибо «доброта побеждает сердца». Она отказалась от многочисленных встреч: уединенная жизнь, которую она вела, приучила избегать новых знакомств, и это свойство сохранилось у мисс Бронте на протяжении всей жизни. Но в то же время ей хотелось воочию увидеть тех, чьи сочинения ее занимали. В соответствии с этим посетить ее был приглашен мистер Теккерей. Однако получилось так, что Шарлотта отсутствовала большую часть утра и пропустила время ланча. В йоркширском пасторате она привыкла к ранним приемам пищи, и изменения в распорядке дня привели к тяжелой и утомительной головной боли. Кроме того, волнение, вызванное предстоящей встречей, возможностью сидеть рядом и слушать человека, на которого она взирала с таким восхищением, – автора «Ярмарки тщеславия», – было само по себе слишком сильным испытанием для ее хрупких нервов. Вот что мисс Бронте писала о последовавшем вскоре обеде.
10 декабря 1849 года
Что касается счастливого времяпрепровождения, то многое здесь вызывает у меня искреннюю радость. Однако временами я страдаю и от жестокой боли – я имею в виду моральную боль. В тот момент, когда мне представился мистер Теккерей, я была на грани обморока от слабости, потому что не ела ничего со времени завтрака, очень легкого, а было уже семь часов вечера. Волнение и истощение сыграли со мной в тот вечер злую шутку. Страшно вообразить, что он обо мне подумал.
Шарлотта рассказывала мне, что при первой встрече с мистером Теккереем никак не могла решить, всерьез он говорит или шутит, и потому, как ей кажется, совершенно неправильно поняла его вопрос, сделанный в тот момент, когда джентльмены входили в гостиную. Он спросил ее, «постигла ли она тайну их сигар»? Она поняла вопрос буквально и высказалась соответственно, однако минуту спустя по улыбкам сразу на нескольких лицах поняла, что он намекал на одно место в «Джейн Эйр». Хозяева дома, в котором она гостила, решили показать ей достопримечательности Лондона. В день, который был отведен для этих приятных экскурсий, в «Таймс» вышла злая рецензия на «Шерли»255. Мисс Бронте слышала, что ее книга будет упомянута в этом номере, и догадалась о существовании какой-то особой причины, по которой хозяева дома не положили газету на обычное место. Шарлотта открыто выразила свое предположение. Миссис Смит сразу же подтвердила справедливость догадки и заметила, что лучше сначала сделать все намеченное на этот день, а уже потом прочесть рецензию. Однако мисс Бронте, не меняя спокойного тона, настояла на том, чтобы ей позволили заглянуть в газету. Миссис Смит дала ей номер и, пока Шарлотта читала, старалась не смотреть ей в лицо (которое та, впрочем, прятала за большими листами газеты). Однако вскоре миссис Смит услышала сдавленные рыдания и увидела, что на колени мисс Бронте падают слезы. Первое замечание, сделанное Шарлоттой после чтения, выражало ее опасение, что такая свирепая статья может воспрепятствовать продажам книги и тем самым повредить интересам издателей. Даже задетая за живое, она думала в первую очередь о других. Позднее (я полагаю, вечером того же дня) приехал мистер Теккерей. Шарлотта, по ее словам, заподозрила, что он пришел посмотреть, как она перенесла нападение на «Шерли». Однако она сохраняла полное самообладание и беседовала с ним очень спокойно. Он получил ответ только тогда, когда прямо спросил, читала ли мисс Бронте статью в «Таймс».
Она молча согласилась с признанием себя автором «Джейн Эйр», поскольку находила теперь некоторые преимущества в отказе от псевдонима. Одним из следствий этого было знакомство с мисс Мартино256. Шарлотта отправила ей только что вышедший из печати роман в сопровождении любопытной записки: Каррер Белл дарил мисс Мартино экземпляр «Шерли» в знак благодарности за удовольствие, полученное от ее сочинений, особенно «Оленьего ручья»257, который, по его мнению, представляет собой – и т. д. В ответном письме мисс Мартино поблагодарила за письмо и экземпляр романа – на конверте был указан адрес ее друзей. И когда неделю или две спустя мисс Бронте поняла, насколько близко от дома мистера Смита живет ее корреспондентка, она послала мисс Мартино, от лица Каррера Белла, предложение посетить ее. Было назначено время – воскресенье (десятого числа258) в шесть вечера. Друзья мисс Мартино пригласили неизвестного им Каррера Белла на ранний чай. Они не знали, кто носит это имя, мужчина или женщина, и строили догадки о поле, возрасте и внешности будущего гостя. Мисс Мартино выразила свое мнение довольно ясно, начав ответ на упомянутое выше послание, подписанное мужским именем, со слова «сдарыня». Однако адрес на конверте гласил: «Карреру Беллу, эсквайру». После каждого звонка собравшиеся дружно оборачивались к двери. Вошел некто незнакомый (джентльмен, я полагаю), и на секунду все решили, что это и есть Каррер Белл и что он и вправду «эсквайр». Он побыл совсем недолго и ушел. Раздался еще один звонок.
Объявили о приходе мисс Бронте. Вошла молодая дама, совсем детского роста и телосложения259, в глубоком трауре, опрятная, как квакер. У нее были прекрасные прямые каштановые волосы и ясные глаза, полные мысли. Лицо выдавало волнение, однако и привычку владеть собой.
Войдя, она остановилась в нерешительности, увидев, что в комнате собралось человек пять, а затем направилась прямиком к мисс Мартино, которую интуитивно выделила из всех. Вскоре все оценили открытость, добрые чувства и хорошие манеры мисс Бронте, и она стала едва ли не членом семьи для собравшихся в этом доме за чайным столом. Перед уходом она рассказала в присущей ей простой и трогательной манере о своем горе и одиночестве. Все это положило начало дружбы мисс Бронте с мисс Мартино.
Вечером накануне отъезда Шарлотты из Лондона мистер Смит решил пригласить на ужин нескольких джентльменов, чтобы познакомить их с Шарлоттой, – это было решено после долгих уговоров и при условии, что ей не нужно будет специально им представляться. По существующим правилам ей следовало занять место в конце стола возле хозяина дома, остальные места были распределены соответственно. Однако, войдя в столовую, Шарлотта быстро прошла к стулу, стоявшему возле хозяйки, и села. Ей хотелось как бы спрятаться возле кого-нибудь, кто был одного с ней пола. Она поступила так по той же причине, по которой женщины ищут защиты во всех ситуациях, когда моральный долг не заставляет их утверждать свою независимость. Об этом она писала в одном из писем:
Миссис *** считает, что я веду себя очень скованно, когда окружена незнакомыми людьми. Она не сводит с меня глаз. Мне нравится это наблюдение: благодаря ему я нахожусь как бы под охраной.
Об описанном выше ужине Шарлотта рассказала своей знакомой по брюссельской школе (дружба возобновилась после этого посещения Лондона)260.
После того как я тебя покинула, вечер прошел лучше, чем я ожидала. Благодаря основательному ланчу и бодрящей чашке кофе я оказалась способной с должным смирением дождаться ужина, назначенного на восемь вечера, и отважно пережить всю эту долгую процедуру, поскольку не была слишком утомлена и могла беседовать. Я была этому очень рада, иначе мои добрые хозяева были бы сильно разочарованы. На ужин были приглашены семь джентльменов (не считая мистера Смита), и пять из них были критиками, то есть самыми страшными людьми в литературном мире. Я так волновалась, что не знаю, как дождалась их ухода, а затем началась болезненная реакция. Я легла в постель, желая уснуть, но все усилия оказались тщетными: мне не удавалось сомкнуть глаз. Так прошла вся ночь, наступило утро, и я встала, так и не задремав ни на минуту. До Дерби я добралась такой измученной, что пришлось там переночевать.
17 декабря
Итак, я снова в Хауорте. Чувствую себя так, будто вырвалась из вихря. Думаю, для того, кто привык бывать в обществе, вся эта суета не представляла чего-то особенного, но мне она показалась невероятной. Моих физических и духовных сил очень часто недоставало для тех усилий, которые там требовались. Я старалась терпеть сколько могла: мои слабости сильно тревожили мистера Смита. Он всякий раз начинал думать, что я чем-то обижена, хотя этого не было ни разу, поскольку все, с кем я встречалась, были хорошо воспитанными людьми – даже мои противники, которые делали все возможное, чтобы уничтожить меня как литератора. Я объясняла ему много раз: если я по временам замыкаюсь в себе, то это происходит лишь потому, что у меня нет сил говорить, и это не зависит от моей воли. <…>
Теккерей – титан мысли. Его присутствие и энергия производят самое глубокое интеллектуальное впечатление (как человека я его так и не узнала). Все остальные играют второстепенные роли. Впрочем, к некоторым я питаю уважение и надеюсь, что была со всеми вежлива. Я, разумеется, не знаю, что они думают обо мне, но полагаю, многие ожидали от меня более выразительного и эксцентричного поведения. Похоже, им хотелось иметь возможность больше восхищаться мною и больше меня ругать. Я чувствовала себя достаточно свободно со всеми, кроме Теккерея, – с ним я цепенела от страха.
Она вернулась в свой тихий дом, к своим беззвучным повседневным обязанностям. Отец был достаточно бодр и получал живое удовольствие от ее рассказов об увиденном и услышанном. В одну из поездок Шарлотты в Лондон он пожелал, чтобы она посетила, если будет такая возможность, Арсенал принца Альберта. Я не знаю, удалось ли ей это сделать, однако пару раз она ходила в большие национальные арсеналы, чтобы потом описать стальные доспехи и блистающие мечи своему отцу, чье воображение поражало само существование таких вещей. Впоследствии, когда его силы значительно уменьшились и старческая немощь взяла свое, Шарлотта снова стала прибегать к этому средству и заговаривала о множестве странных видов вооружения, которые ей довелось видеть в Лондоне, чтобы пробудить в нем интерес к этой знакомой теме: тогда возвращались его острый ум и воинственный нрав.
Глава 5
Ее жизнь в Хауорте была столь однообразной, что приход почтальона составлял главное событие дня. Шарлотта боялась даже думать о новых письмах, из-за этого искушения терялся интерес ко всем другим мыслям и повседневным занятиям. Поэтому Шарлотта сознательно отказывала себе в удовольствии: ответы на письма затмевали все прочее в жизни, а если она сама долго не получала ответа, то разочарование лишало ее необходимой для домашних дел энергии.
В тот год зима на севере была суровой и холодной. Однако погода повлияла на самочувствие мисс Бронте в меньшей степени, чем обычно, – возможно, благодаря полученной в Лондоне медицинской помощи, а может быть, и благодаря любимой подруге, которая приезжала погостить и заставила мисс Бронте относиться к своему здоровью внимательней. Обычно Шарлотта пренебрегала им, желая скрыть от отца беспокойство по этому поводу. Но она никак не могла подавить тяжелое чувство, с которым встретила годовщину смерти Эмили: все воспоминания, связанные с этой датой, были болезненными, а никаких внешних событий, способных отвлечь Шарлотту от них, не происходило. Как и во многих других случаях, утешение приносили книги, присылаемые с Корнхилл, постоянно упоминаемые ею в письмах.
Иногда я спрашиваю себя: и что бы я делала без них? Я прибегаю к ним как к близким друзьям, они помогают скоротать время и развлекают меня; без них часы тянулись бы нестерпимо долго и я не могла бы избавиться от чувства одиночества. Даже когда мои глаза устают и не позволяют мне дальше читать, как приятно видеть их на полке или на столе! Я все еще очень богата, поскольку мой запас книг далеко не исчерпан. В последнее время и другие мои друзья стали присылать мне книги. Внимательное чтение «Восточной жизни» Гарриет Мартино доставило мне истинное наслаждение; я нашла пищу для глубоких раздумий в труде Ньюмана о душе261. Читала ли ты эту книгу? Она полна смелых мыслей – может быть, ошибочных, но чистых и возвышенных. Мне не понравилась книга Фруда «Немезида веры»262 – она какая-то нездоровая, хотя и в ней тоже есть проблески истины.
К тому времени во всех окрестных графствах – «Эйрдейле, Уорфдейле, Калдердейле и Рибблсдейле» – уже было известно местожительство Каррера Белла. Шарлотта сравнивала себя со страусом, который прячет голову в песок, и писала, что роль песка для нее играет вереск с хауортских пустошей, однако «скрываться таким образом – значит обманывать саму себя». Так оно и было в действительности. Широко и далеко по всему Уэст-Райдингу распространились слухи о том, что Каррер Белл не кто иной, как дочь почтенного священника из Хауорта; вся деревня пришла в волнение.
Мистер *** закончил читать «Джейн Эйр» и теперь требует «другую книгу»: он получит ее на следующей неделе. <…> Мистер Р. закончил «Шерли», и книга ему очень понравилась263. Жена Джона ***264 всерьез думает, что ее муж помешался, поскольку слышала, как он хохочет, сидя один в комнате, да при этом еще хлопает в ладоши и топочет ногами. Он собирается прочесть папе вслух все сцены, в которых участвуют младшие священники. <…> Марта вчера ворвалась ко мне, отдуваясь и чуть не лопаясь от волнения. «А что я слыхала!» – объявила она. «Относительно чего?» – спросила я. «Ах, мэм, вы же взяли да сочинили две книжки, и говорят, самые великие, какие только можно сочинить. Мой отец услыхал про это в Галифаксе, а мистеры Дж., Т. и Дж., а еще мистер М. из Бредфорда – они решили собраться в Механическом институте и заказать эти книги». – «Марта, пожалуйста, перестань болтать и займись делом». Я просто покрылась холодным потом. «Джейн Эйр» прочтут мистеры Дж. и Б., миссис Т. и миссис Б.! О Всемогущий, спаси меня и сохрани! <…> Жители Хауорта просто с ума посходили, судя по энтузиазму, с которым они принимают «Шерли». Когда в Механический институт пришли экземпляры романа, все захотели его прочесть. Бросили жребий, и всякий, кому достался один из трех томов, должен был прочитать его в течение двух дней, в противном случае на него налагался штраф – по шиллингу за каждый день просрочки. Было бы абсурдом и потерей времени пересказывать тебе то, что они говорят о романе.
Тон этих отрывков вполне соответствует характеру йоркширцев и ланкаширцев, которые всегда предпочтут скрыть полученное удовольствие под личиной добродушного подшучивания, причем объектом шуток обычно становятся они сами. Мисс Бронте была в высшей степени тронута тем, как люди, которых она знала с детства, гордились ею и радовались ее успехам. Новость распространилась по всей округе; незнакомцы приезжали «аж из-за самого Бёрнли», чтобы взглянуть на мисс Бронте, когда она тихо и скромно, не ведая, что за ней наблюдают, шла в церковь. Церковный сторож «положил в карман немало полукрон», указывая на нее зевакам.
Однако среди всех этих чистосердечных восторгов, более драгоценных, чем слава, раздавались и критические голоса. В январском номере «Эдинбург ревью» появилась статья о «Шерли», автором которой был постоянный автор журнала – мистер Льюис. Я уже писала, как сильно мисс Бронте хотелось, чтобы ее критиковали, как и любого автора, не принимая во внимание то обстоятельство, что она женщина. Была ли она права или нет, но во всяком случае она стояла на этом твердо. И вот в рецензии на «Шерли» она прочла заголовок, растянутый на две страницы: «Интеллектуальное равенство полов? Женская литература». И далее по всей статье постоянно упоминался пол автора романа.
Через несколько дней после появления рецензии мистер Льюис получил следующую записку, написанную в стиле Анны, графини Пемброка, Дорсета и Монтгомери265:
Дж. Г. Льюису, эсквайру
Мне следует опасаться врагов, но, Господи, избавь меня от друзей!
Каррер Белл.
Мистер Льюис, любезно передав мне письма мисс Бронте, в объяснительных заметках пишет:
Понимая, что гнев застилает ей глаза, я выразил протест: она рассердилась на жесткость и честность рецензии, которая, разумеется, была продиктована настоящим восхищением и истинной дружбой; за всеми замечаниями в ней слышится голос друга.
Ответом послужило следующее письмо:
Дж. Г. Льюису, эсквайру
19 января 1850 года
Мой дорогой сэр,
я объясню Вам, почему меня так задела рецензия в «Эдинбургском вестнике». Дело не в остроте замечаний, не в жесткости критики и не в том, что похвалы оказались весьма скупы (я действительно считаю, что Вы похвалили меня именно в той мере, в какой я этого заслуживаю). Дело в том, что мне хотелось бы услышать критические суждения обо мне как об авторе, а не как о женщине, однако, зная это, Вы все-таки столь резко и, можно сказать, грубо обратились к вопросам пола. Полагаю, Вы не хотели меня обидеть, а просто не смогли понять, почему меня так огорчило то, что Вы, вероятно, сочли сущими пустяками. Но все это меня действительно и огорчило, и возмутило.
В рецензии есть несколько совершенно неверных пассажей.
Однако при всем том я не буду держать на Вас зла; я знаю Ваш характер: в нем нет ни зла, ни жестокости, хотя Вы часто обрушиваетесь на тех, чьи чувства не созвучны Вашим. В моем представлении Вы одновременно и восторженны, и неумолимы, и проницательны, и беспечны; Вы многое знаете и многое открываете для себя, но при этом так торопитесь поделиться наблюдениями, что не даете себе времени задуматься о том, как Вашу опрометчивую риторику воспримут другие люди. И даже если Вы знаете, как они воспримут, Вас это не тревожит.