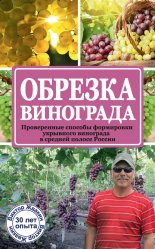Ингмар Бергман. Жизнь, любовь и измены Шёберг Томас
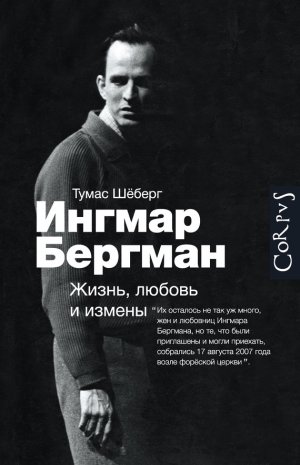
Бергман в марте 1960-го:
Я говорю так много лишних, неподходящих слов. […] Я отравлен тем злом, с каким соприкасался в профессии. […] Любимая! Прошу тебя об одном: имей со мной терпение. Я стану лучше, обещаю стать лучше. Буду работать над собой и вырвусь из этого проклятия, в котором живу. Мне лишь надо знать, что ты со мной, что ты любишь меня и прощаешь. Я ведь вижу, как обижаю тебя, знаю, как плохо поступаю. Если бы это мое письмишко достало до глубин твоей души. Я всегда был до ужаса истеричен. Знал об этом и презирал себя. А одиночество было звеном в борьбе с истерией. Мне стыдно за себя, и из-за публичности, свалившейся на меня как раз сейчас, я чувствую себя раздетым, выставленным посреди площади на всеобщее обозрение.
Бергман в январе 1961-го:
Ужасно тоскую по тебе, любимая. Уезжая, ты забираешь с собой жизнь, и мне приходится существовать как бы на резервной батарейке, которой в лучшем случае хватит до твоего возвращения, когда ты вернешь мне жизнь.
Я воспринимаю нас как неделимое целое, чувствую, что мы делим всё и что помехи и досады, возникающие меж нами, это пустяки, не имеющие значения. Они не препятствуют необходимости работать над собой и измениться, еще больше открываться, тянуться к тебе, искать тебя еще энергичнее. Всему этому я должен учиться, ведь всю жизнь, с самого детства, усваивал прямо противоположное.
Ларетай в дневнике, в январе 1962-го:
Бог свидетель, с Имми не заскучаешь… разве что когда он не снимает. а не снимает он уже довольно давно. Усталый и невеселый, дома он только смотрит телевизор. Наверно, отсутствие стимула и заставляет меня досадовать на телевизор, не позволяет дать ему покой и отдых? Не знаю. Но приезд (и уже отъезд) в Хельсинки оживил меня, хотя расстаться было трудно. […] Между мной и Имми что-то сломалось, и меня гнетет это смутное ощущение? […] Оттого, что Имми вроде как страдает от моей радости и оживления, когда они приходят с тех сторон, с какими он сам никак не связан? Всему виной интенсивная жажда общности? Он боится потерять нашу общность из-за моей любви к какому-либо месту или человеку – к моей Линде, – к которым он ничего такого не испытывает? […] Мои восторженные рассказы о концертах, эти отчеты о стимулах (людях, местах, успехах) пробуждают у Имми, похоже, лишь ревность и демонов. […] Какие глубины в Имми так ущербны, что он даже раз в жизни не способен просить, принимать, искать, умолять!
Бергман в январе 1962-го:
Помоги мне не думать так плохо обо мне самом, Кэби, любимая! […] Любимая Кэби. Дай нам бог долгую совместную жизнь, чтобы мы обрели зрелость и опыт.
Ларетай в дневнике, февраль 1962-го:
Слегка больно сознавать, что ощущение дома дает Имми “Сильянсборг”, а не Юрсхольм. […] Новое намерение Имми: не все время смотреть телевизор.
Когда в феврале стало ясно, что Кэби Ларетай забеременела, Бергман сказал ей, что получил доказательство ее любви, которого так долго ждал. “Правда ли, что ребенок, которого мы ждем, может быть причиной новой, поразительной, потрясающей зрелости и гармонии, какую сейчас выказывает Имми?” – писала она в дневнике.
Седьмого сентября, накануне кесарева сечения, она писала: “Скоро меня повезут в операционную. Как хорошо, что у меня есть Имми. Теперь нас будет трое, но наше с Имми единство неразделимо, мы одно”.
Рождение сына Даниеля стало кульминацией их отношений. Бергман наградил ребенком еще одну женщину, и, по известному и глубоко укоренившемуся образцу, именно это событие стало началом его ухода из супружества.
Позиционная война
Новое десятилетие началось с двух больших статей, которые вновь подвергли отношения Бергмана с родителями тяжким испытаниям.
В феврале он дал интервью на радио, и Карин Бергман с удивлением и радостью услышала, сколько он мог сказать о том, как важны для него она и Эрик. Затем состоялась премьера “Источника”, и фильм очень растрогал Карин: “Слезы катились по щекам, а ведь глаза у меня отнюдь не на мокром месте”. Фильм рассказывал о “величайшей муке в жизни, и о высочайшей красоте, и о тайне искупления”. Ей не терпелось поделиться переживаниями, и она незамедлительно написала сыну письмо, в надежде, что он получит его уже на следующий день. Огромное впечатление побудило ее написать и актрисе Биргитте Петтерссон, героиню которой жестоко насилуют и убивают. Карин Бергман с удовольствием читала хвалебные рецензии, но расстроилась, что писатель, журналист и литературовед Свен Стольпе раскритиковал игру Петтерссон. Ингмар Бергман полагал, что актрисе будет приятно прочитать несколько утешительных и уважительных слов от пасторши.
Однако всего неделей позже в руках Карин Бергман оказался последний номер американского журнала “Тайм”.
Обложку украшал портрет ее сына. Иллюстрация – лицо Бергмана в цвете на фоне зловещего черно-белого лесного пейзажа, где за женщиной гонится мужчина с явно недобрыми намерениями – начальный кадр сцены насилия из “Источника”.
Оказаться в знаменитой красной рамке на обложке “Тайма”, популярного во всем мире, значит войти в эксклюзивный клуб лиц, которых редакция считает самыми влиятельными на свете. Таким образом, через СМИ Бергман сделал решающий шаг в общество бессмертных, к которому, в частности, принадлежали президент Дуайт Д. Эйзенхауэр, королева Елизавета, советский политик и министр иностранных дел Андрей Громыко, австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд, нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс, Никита Хрущев, индийский борец за независимость и политик Джавахарлал Неру, американский сексолог Альфред Кинси и американский кандидат в президенты Ричард Никсон. Все они побывали на обложке “Тайма” до Бергмана.
Статья представила сына Карин Бергман в манере, типичной для англосаксонских журналов:
In the last four years the films of Ingmar Bergman (pronounced Bear ih mahn), almost unknown outside Sweden before 1956, have captured an impressive amount of screen-time in more than a dozen countries. One after another – Smiles of a Summer Night, The Seventh Seal, Wild Strawberries, Brink of Life, The Magician – they have carried off top prizes at the big film festivals and set the turnstiles twirling on the commercial circuits as no Scandinavian film has done since Garbo was a girl. And last week Stockholm was looking aghast at the latest product of Bergman’s imagination, a religious horror picture called The Virgin Spring that contains “the most terrible rape and murder scenes ever seen in a film." A Stockholm critic called it “Bergman’s best.” The U. S. was touched by Bergmania late in 1958, when The Seventh Seal was released by Janus Films. Skeptics tried to write off Bergman’s work as Norse opera for the intellectuals, but a few months later the smash success of Wild Strawberries made the U. S. aware that there was much more to Bergman than that. This winter as many as five Bergman films have been running at once in Manhattan. Next week another, a lustily ironic comedy of morals called A Lesson in Love, is scheduled to open. Week after that The Magician is booked into the big Fox West Coast chain; in late March it will ride the circuits from coast to coast. And among the art-house exhibitions Bergman is acknowledged as “The big Swede” who pulled the foreign-film business out of a substantial slump. “It’s incredible," says an sociologist. ‘As though the visions of Zosimos had hit the bestseller list.”
[За последние четыре года фильмы Ингмара Бергмана, до 1956 года почти неизвестного за пределами Швеции, захватили внушительные объемы экранного времени в десяти с лишним странах. Один за другим эти фильмы – “Улыбки летней ночи”, “Седьмая печать”, “Земляничная поляна”, “У истоков жизни”, “Лицо” – завоевали главные премии крупных кинофестивалей и заставили коммерческую машину проката работать на полных оборотах, чего со скандинавскими фильмами не случалось с времен юности Греты Гарбо. На прошлой неделе потрясенный Стокгольм смотрел последний плод бергмановской фантазии – религиозный фильм ужасов “Источник”, содержащий “самые страшные сцены насилия и убийства в истории кино”. Один из стокгольмских рецензентов назвал его “лучшим фильмом Бергмана”. Бергманомания затронула США еще в конце 1958 года, когда “Джейнес-фильм”
запустил в прокат “Седьмую печать”. Скептики пробовали отмахнуться от произведения Бергмана, мол, это скандинавское кино для интеллектуалов, однако спустя несколько месяцев сногсшибательный успех “Земляничной поляны” вынудил Штаты осознать, что Бергман представляет собой нечто много большее. Нынешней зимой на Манхэттене одновременно прошли пять фильмов Бергмана. На следующей неделе объявлен показ еще одного – изящно-иронической комедии нравов “Урок любви”. Неделей позже в кинотеатрах сети “Фокс” на Западном побережье пройдет “Лицо”, а в конце марта этот фильм будет демонстрироваться по всей стране. Прокатчики арт-хаусного кино называют Бергмана “Великим шведом”, который вывел прокат зарубежных фильмов из серьезного застоя. Как выразился некий социолог, “просто не верится. Словно видения Зосимы угодили в список бестселлеров”.]
Столь замечательная презентация должна бы вызвать у матери восторг и гордость. Карин Бергман продолжила чтение и добралась до абзаца, где говорилось о детстве, и вот тут-то она, наверно, и потеряла самообладание:
A strange child was father to this strange man. Second son of an ambitious Evangelical Lutheran parson who eventually became chaplain to Sweden’s royal family, Ernst Ingmar Bergman grew up in a home filled with cold constraint and deep unhappiness. His mother and father, a friend relates, were “sealed in iron caskets” of duty, he to the church, she to the household. They had little to do with each other and considered it “sinful to fuss over the children.” Father held frequent court on the “confession couch”, where he heard the children recite their sins. Little Ingmar soon developed a stammer and a chronic stomachache, retreated into a life of fantasy. Only in the last few years has he been reconciled with his parents. “I survived," he says with a shrug. “And they gave me something to break.” They also gave him, as a French critic has pointed out, “the themes of his future work: God and the Devil, Life and Death, the drama of the couple and the tragic solitude of beings”.
[Странный ребенок превратился в странного взрослого. Эрнст Ингмар Бергман, второй сын амбициозного лютеранского пастора, ставшего в конце концов капелланом шведской королевской семьи, рос в доме, полном холодного принуждения и глубокой печали. Как рассказывал один из друзей, его отец и мать были “закованы в железные доспехи” долга; отец исполнял долг перед церковью, мать – перед домашним хозяйством. Они мало общались между собой и считали “греховным возиться с детьми”. Отец часто устраивал детям “сеансы на кушетке”, где выслушивал их исповеди в грехах. У маленького Ингмара вскоре развились заикание и хроническое заболевание желудка, и мальчик погрузился в мир фантазии. Лишь в последние годы он помирился с родителями. “Я выжил, – говорит он, пожимая плечами. – И они кое-что мне дали”. По словам французского критика, они дали ему “темы будущих произведений – Бог и дьявол, жизнь и смерть, драма супругов и трагическое одиночество человеческих существ”.]
Пожалуй, рассердило ее как раз понимание, что впечатления сына от атмосферы пасторского дома теперь впервые стали достоянием всего мира.
Как он допускает, чтобы о его родительском доме писали такое? И кто источник, если не сам Ингмар? Я возмущена до глубины души, но, как обычно, говорить об этом не смею. Ведь что тогда будет? Может, написать Ингмару? И что мне вообще делать? […] Сегодня вечером Ингмар позвонил, и я немного поговорила с ним о статье в “Таймс”. Конечно, она задела его, но главным образом из-за Кэби и его самого. Он вряд ли понимает, какую боль испытала я. Эрик, к счастью, ни о чем не знает.
Не успела она оправиться от статьи в “Таймс”, как свалилась новая беда. Журналистка Марианна Хёк работала над биографией Ингмара Бергмана, и вот теперь отрывок из ее книги будет опубликован в газете “Рёстер и радио”, поскольку на второй день Пасхи 1960 года по первой программе передадут его постановку стриндберговской “Пасхи”. Получив 9 апреля экземпляр рукописи, Карин Бергман с ужасом прочла, что Хёк писала о родительском доме Ингмара и его взаимоотношениях с отцом. Она не понимала, как сын мог выставить свою семью в таком виде. После бессонной ночи она позвонила Хёк – вероятно, чтобы выразить свое негодование, – а затем сделала запись в дневнике: “Боже мой, необходимо остановить публикацию, иначе я не знаю, что будет”. На следующий день ей сообщили, что “Рёстер и радио” уже ушли в печать и ничего изменить нельзя. Она даже думать боялась, что случится. Навестила Гюн Бергман, принесла пасхальный подарок Лилль-Ингмару, и бывшая невестка тоже возмутилась, услышав, что произошло.
Лишь три дня спустя Карин Бергман смогла поговорить с сыном. “Ингмар позвонил. И, когда я сказала, что ему следовало остановить эту ужасную статью, первым делом нагрубил мне”. В начале мая она пересмотрела “Травлю”, которую повторно демонстрировали в “Красной мельнице”, и поняла, что тяжелые семейные сцены в фильме непосредственно взяты из пасторского дома. “И Ингмаровы вспышки я в точности узнаю. Вообще-то удивительно, что все это написал девятнадцатилетний парень”.
Отрывок из написанной Хёк биографии встревожил Карин Бергман. Выход в свет ожидался через два года, и она пыталась завязать контакт с авторшей. Вместе с тем книга стала и больным местом в отношениях между матерью и сыном. Ингмар, конечно, время от времени появлялся в пасторском доме и, желая быть дружелюбным, приносил коробку шоколада, но это мало что меняло. Он был как никогда неприступен, и в конце концов жизнь превратилась в сплошное ожидание, писала Карин в дневнике. Она старалась заставить сына выслушать ее, понять ее мотивы и выступить против публикации книги Хёк; ведь он попросту обязан остановить публикацию. Встретившись в итоге с Хёк, она надеялась, что авторша в какой-то мере поймет ее. “Я сказала, что обращаюсь к ней как к человеку, а не как к журналистке”.
Карин Бергман не могла знать, что у сына был роман с автором книги и что он ее бросил. Другу Вильготу Шёману Бергман сказал, что она воспользовалась привилегированной ситуацией и все, что она написала о его родителях, надо вычеркнуть из рукописи и он в лепешку расшибется, чтобы так и случилось. Бергман заметил у Хёк агрессивность, потребность выплеснуть на письме свои эмоции. А потом дал Шёману добрый совет убедиться, что ни одна из отвергнутых любовниц “не портретирует” его.
Когда книга Хёк вышла в свет, некоторые наблюдения, опубликованные в “Рёстер и радио”, были убраны: “К числу обычаев пасторского дома принадлежали регулярные сеансы с отцом на доверительном диване, когда дети исповедовались в совершенных прегрешениях, получали наказание и прощение”, и “Он рано обнаружил трещину меж тем, что говорилось, и тем, что делалось, меж фасадом и содержанием, меж проповедью и практикой. Пропасть расширялась, и он рухнул в нее”. Иными словами, чистейшей воды лицемерие, и совсем нетрудно разделить опасения Карин Бергман, что двойная пасторская мораль, которую она сама отчаянно старалась скрыть, теперь распространится и займет в истории более правдивое место, чем то, какое могла обеспечить статья в газете “Рёстер и радио”.
Однако сохранилась, например, такая фраза: “С точки зрения ребенка ситуация в доме, словно маятник, резко колебалась меж защищенностью и незащищенностью, меж идиллией и кошмаром”.
Таким образом, сокращения не изменили впечатления в целом, разве только слегка смягчили его. Кто именно – мать или сын – добился этой легкой редактуры текста Хёк, неизвестно. У Вильгота Шёмана на сей счет сомнений не было: “Конечно, приструнил Марианну Ингмар. Ведь эмоционально он держал ее под контролем, их связывала общая история”.
В сентябре Эллен Бергман написала Карин Бергман письмо. Она еще не читала книгу Марианны Хёк и надеялась, что автор действовала осторожно и пасторше не придется тревожиться о реакции мужа. “Надеюсь также, что там нет ничего, что может повредить детям. Вообще забавная штука – биографии, написанные при жизни человека. Все как бы принимается авансом”.
В конце июня 1960 года Ингмар Бергман и Кэби Ларетай, по ее предложению, отправились в Швейцарию, в городок Риффельальп неподалеку от Церматта, откуда открывается вид на могучий Маттерхорн. В воспоминаниях Ларетай муж предстает как ужасный привереда, недовольный всем, в особенности едой. “Это же телятина, Ингмар!” – воскликнула она, когда в бернской гостинице “Швайцерхоф” он с гримасой отвращения заявил, что требуху есть нельзя.
“Я говорила с ним как с ребенком”. Но Бергман оказался прав. С заказом Ларетай вышло недоразумение, им подали телячью зобную железу, а не телятину. Вечер был испорчен, и она уже приуныла. Бергман сетовал на все. Швейцария слишком маленькая. “Окружена горами. Ни тебе горизонтов. Ни моря. Ни голубых холмов, как в Даларне”. Погода стояла скверная, он нервничал, простыл и заработал ангину. Полная неудача.
Забавно, что воспоминания Ларетай весьма отличны от того, что он сам писал родителям:
Дорогие мама и папа!
Мы в самом деле нашли умиротворение, которого искали и в котором так нуждались. Живем высоко над миром (2200 метров) у подножия Маттерхорна в чудесной старинной гостинице, построенной в конце девятнадцатого века. Постояльцы главным образом чудаковатые англичане, старые супружеские пары, каждое лето гостящие здесь с времен постройки. Все дышит стариной, но очень ухоженно и очень уютно. Автомобильная дорога заканчивается в трех десятках километров, в низовье долины, а сюда ведет только малюсенькая горная железная дорога, больше всего похожая на ту, что существовала в Скансене, когда я был ребенком. Кормят здесь превосходно, мы много спим и гуляем. Дни бегут невероятно быстро, но тем не менее мы успеваем поговорить о многих вещах, о каких не удается поговорить в будничной гонке. Эта полная, безусловная близость и общность, оставляющая без внимания все одиночества, – почти непостижимый дар. В первый и покуда единственный раз в жизни я живу в спокойном совершенстве, в счастье, которое вправду досталось недешево, и безмятежным его не назовешь. Потому-то мы благодарны за каждый день и каждый миг. Сейчас вот идет тихий, меланхоличный дождь. Тишь кругом, слышен лишь стук капель и плеск, шумят ручьи, а на лужайке пониже гостиницы бренчат коровьи колокольцы.
В бергмановском описании собственной жизни много таких “в первый и единственный раз”, особенно когда речь идет о его переживаниях вместе с той, что волею случая оказалась его женщиной или будущей женой.
Судя по дневнику Карин Бергман, осень прошла сравнительно спокойно. Общение сына с родителями, видимо, шло на уровне нормальных разговоров. В октябре он побывал в датском Орхусе, где студенты увенчали его лавровым венком и чествовали речами, а проезжая с Кэби Ларетай мимо Воромса, видел прискорбное обветшание тамошнего дома. Однажды утром он зашел в пасторский дом с корзиной яблок из юрсхольмского сада и за завтраком долго разговаривал с родителями о “правильных вещах”.
В ноябре они посмотрели его последний фильм “Око дьявола”, где Ларетай исполняет сонаты итальянца Доменико Скарлатти, и получили подлинное удовольствие: “Живой, остроумный диалог и чудесное развитие главных героев. Как только мы пришли домой, сразу позвонил Ингмар, спросил, как нам понравилось, и обрадовался, услышав, что мы очень довольны. Я долго с ним разговаривала”.
В декабре Эрика и Карин Бергман пригласили на виллу в Юрсхольм. Пили чай, Кэби Ларетай играла для них на рояле и рассказывала о своей телевизионной программе, которую будут транслировать на Рождество. Карин Бергман была очень довольна. “Ее великие композиторы прямо-таки оживают перед нами, когда она о них рассказывает, а затем играет. Ингмар кажется на удивление спокойным. И дом такой красивый”.
Жизнь дышала гармонией. Но Карин Бергман не была бы Карин Бергман, если б не находилась одновременно в другом мире, где отношение к младшему сыну определялось весьма контрастными чувствами:
Ингмар непредсказуем – и случиться может что угодно. Сейчас, с Кэби, он кажется счастливым и спокойным. И по-моему, она способна справляться с ним, как никто до сих пор. Ведь она сама – сильная личность. Теперь для Ингмара много значит и Лена. Из-за болезни Эльсы ему пришлось заботиться о Лене и действительно быть ей отцом, поэтому они сблизились. Ингмар умеет быть нежным, веселым и приветливым, как никто, но, если чем-то ему мешаешь, может с тем же успехом быть и крайне жестким. Вот почему с Ингмаром или с Кэби и Ингмаром никогда не встречаешься по-будничному. Встречи происходят всегда в более или менее праздничной и безмятежной обстановке. И тогда они оба просто очаровательны.
Ингмар Бергман продолжал воевать на нескольких фронтах. Успехи и неудачи чередовались, точь-в-точь как на полях сражений. Это касалось и профессиональной жизни, и брака, и отношений с родителями. Следить за военными действиями очень интересно, но выявить прямую и последовательную линию практически невозможно. Собственно, все не таково, каким представляется. Парадоксов не счесть. Полная амбивалентность.
В 1961 и 1962 годах Бергман пожинал успехи, один за другим. “Источник” принес ему “Оскара” и “Золотой глобус” за лучший зарубежный фильм, а год спустя “Оскара” за лучший зарубежный фильм получил “Как в зеркале”. Возможно, в душе он ликовал, но внешне выглядел на удивление спокойным. Статуэтки и премии как будто бы мало его интересовали, главным для него были скорее большие возможности делать то, что хочется. С каждым международным триумфом шведская кинематография предоставляла ему все больше свободы.
Но когда Карин Бергман говорила с сыном по телефону, голос его зачастую звучал устало. Репетиции “Похождений повесы” Игоря Стравинского в стокгольмской Опере отнимали у него все силы. Вильготу Шёману он признался, что предпочел бы отказаться, но шеф Оперы Сет Сванхольм раз за разом убеждал его все-таки взять на себя эту задачу. Однажды, сидя в кабинете на киностудии, он услышал, что в Опере объявили пожарную тревогу. “Я был в восторге. Ведь если Опера сгорит, мне не придется ставить “Повесу”.
Но усталость себя оправдала. И критика, и публика приняли постановку восторженно, называли ее легендарной. Сам Стравинский оценил его работу на пять с плюсом, а Бергман был очарован знаменитым композитором и дирижером. Его интервьюировала “Нью-Йорк таймс”, хвалил журнал “Опера ньюз”, издаваемый престижной Гильдией “Метрополитен-опера”.
Карин Бергман с энтузиазмом писала в дневнике:
Фантастический вечер. Настроение по-настоящему праздничное. Присутствовали король и королева, а после спектакля устроили овации. Целых тридцать минут люди стояли и аплодировали. Снова и снова вызывали Ингмара. Кричали “Браво, Ингмар!” и проч. Потрясающе. […] Нынче я весь день пыталась связаться с Ингмаром. Но это оказалось невозможно. Отвечают только, что сегодня он не принимает телефонные звонки. […] Газеты не скупятся на превосходные степени, расхваливая его постановку. Интересно, когда человека превозносят до небес, он способен с этим справиться?
Как обычно, участвуя в успехах сына, она не могла не выразить определенный скепсис. Возможно, это полезно, но ее постоянные оговорки насчет событий в профессиональной жизни сына нередко выглядят завистливыми.
Не исключено, что Кари Бергман на самом деле ревновала. Его жизнь слишком часто напоминала ей о том, чем она сама пожертвовала. Заперла себя в пасторском доме, с мужчиной, который все больше и больше отмежевывался от жизни за пределами церкви – “Одиночество идеально”, могла бы сказать она, – и следила за эскападами сына с завистью, камуфлируя ее беспокойством и критикой.
Ситуация не улучшилась еще и оттого, что оба они не приехали на семидесятипятилетие Эрика Бергмана, поскольку были заняты работой – Бергман снимал фильм, а Ларетай выступала с концертами. Теперь пианистка символизировала для Карин Бергман трудности сближения с сыном:
Сегодня вечером здесь были Ингмар и Кэби. Я приготовила отличный чайный стол, достала Эрикову “памятную книгу” и множество фотографий времен Ингмарова детства и юности, они выказывали интерес, но я теперь ни секунды не чувствую спонтанного контакта между Ингмаром и мной. Он пропал после появления Кэби. И ничего тут не поделаешь. […] Сегодня вечером позвонил Ингмар, уже после того, как я пожелала Эрику “доброй ночи”, и мы довольно долго разговаривали, ведь телефон стоит теперь возле моей кровати. В таких случаях он куда больше похож на себя, чем в присутствии Кэби. Ведь тогда он как бы постоянно должен окружать ее поклонением.
Вильгот Шёман строил домыслы по поводу теории ревности. Карин Бергман заботилась о детях сына и охотно поддерживала контакт с его бывшими женами. Но, как Шёман пишет в “Л-136. Дневник с Бергманом”, с Кэби Ларетай у нее ничего не вышло. “Год за годом Карин твердит: существует настоящий Ингмар. И этот настоящий Ингмар совершенно для нее недоступен, когда он вместе с Кэби. “Тогда он как бы постоянно должен окружать ее поклонением”. Что это говорит об Ингмаре? Что он не способен балансировать между этими двумя женщинами? Предположение отнюдь не рискованное. Ведь он сам говорит, что всю жизнь “путал” мать и жену. “Именно поэтому меня тянуло к все более молодым женщинам – просто чтобы подальше уйти от этой путаницы”. С Кэби он вновь начал борьбу против путаницы и мешанины”.
В январе 1962 года, когда Эрику Бергману предстояла операция по поводу рака простаты, Ингмар Бергман отказался навестить его в больнице. Даже позвонить отцу не желал, хотя персонал поставил телефон возле койки больного. Карин, как всегда, изливала душу в дневнике:
Я позволила себе возразить, и он немедля стал резким, нетерпимым и жестким. Давно я не слышала его таким. Он сейчас переутомлен, потому что Кэби вернулась из турне усталая и расстроенная, а в подобных случаях он не выносит ни малейших резонов. Я плохо спала, причем больше из-за мыслей об Ингмаре, а не об Эрике. Для меня совершенно непостижимо, что он может быть таким. […] Эрику я ни слова про Ингмара не сказала. Посмотрим, может, он все же заглянет к Эрику завтра перед отъездом. […] Дома пусто, и так тягостно думать об Ингмаровом отношении к нам. […] Ингмар отмалчивается. […] Эрик получил письма от Ингмара. Для меня ни привета! Меня мучит эта странная неприязнь, которой я не понимаю и которой прежде не было.
Отца Ингмар Бергман не навестил из-за того, что запланировал в даларнском “Сильянсборге” ужин с Уллой Исакссон и Вильготом Шёманом. Шёман вспоминает, каким измученным казался Бергман. И злым. И слегка захмелевшим и одуревшим от крепкого пива. Он, как ребенок, уткнулся в колени Исакссон, и друзья услышали, как он удивлялся, что “эта женщина”, то бишь мать, по-прежнему способна довести его до бешенства. Рассказал о ссоре по телефону, когда Карин Бергман просила его навестить отца в больнице. “Я же по два раза в день говорил с ними по телефону, сейчас, когда предстоит операция”, – заявил он Исакссон и Шёману.
Вероятно, чтобы заглушить угрызения совести, Ингмар Бергман вызвался затем оплатить отцу реабилитацию в Софийском приюте, но пастор отказался, наверно, самолюбие не позволило. Он хотел как можно скорее вернуться домой.
Разговоры с матерью по телефону часто кончались тем, что Ингмар швырял трубку и конец вечера был испорчен. Часто он снова звонил матери, снова с ней ссорился и звонил третий раз, чтобы попросить прощения. Не умел бунтовать, не чувствуя вины.
После одного из его редких визитов на Стургатан родители были огорчены и обижены отчужденностью.
Он отошел от нас так далеко, как только возможно, и холодно наблюдает, а в остальном до крайности эгоцентричен. Я лучше понимала его, когда он был одинок и почти непонят. […] Я думаю о своих странных отношениях с Ингмаром и ужасно хочу, чтобы мне удалось приблизиться к нему.
Вот так все и продолжалось. Непомерная гордыня и нарушенные обещания. Временами позиционная война прерывалась случайными перемириями. Как, например, когда Ингмар Бергман пришел на послеобеденный чай у камина в салоне и они имели возможность спокойно побеседовать. Карин поняла, что брак с Кэби Ларетай забирал у него все свободное от работы время.
Теперь и Кэби ждет ребенка, и они, кажется, очень этому рады. Позднее я постараюсь никогда больше ничего от Ингмара не ждать. Но, по его словам, а звучат они правдиво, со мной и с Эриком его соединяют крепкие узы, и он нас понимает.
Потом они иной раз не виделись месяцами, и Карин Бергман мечтала встретиться с сыном.
Пусть все будет хорошо, когда мы увидимся! […] Кстати, в газете опять большой анонс об Ингмаре. Я прямо-таки боюсь этой писанины. Только бы все не кончилось кошмаром! Я имею в виду огромную пустоту и в итоге молчание.
В ноябре Эрик Бергман предложил жене больше не обращать внимания на сына, но уже месяцем позже они радостно встретились в юрсхольмской вилле на крестинах малыша Даниеля. После крестин Карин Бергман в лирическом настроении записала:
В большом музыкальном салоне все было устроено очень красиво – высокая елка с зажженными свечами, а рядом крестильный столик. […] Обстановка просто замечательная, и нам понравились родители Кэби, сестра и зять, все прошло превосходно. Кэби выглядит намного жизнерадостнее, и оба счастливы своим красивым домом. Повсюду лежал белый снег, а когда Ингмар вез нас обратно в город, в домах горели елочные огни.
Конфликты между Ингмаром Бергманом и родителями и резкие метания в его личной жизни были настолько обычны, что однажды он счел нужным уже в начале письма попросить их не удивляться: “Я пишу не затем, чтобы сообщить о каком-нибудь злоключении, внезапном решении или вроде того. Пишу просто потому, что все в полном порядке, а вдобавок вы, по-моему, давненько не получали писем от своего сына”. Это письмо он написал во время поездки в Данию с дочерью Леной. Им было очень хорошо, они жили в Хельсингёре в “Мариенлюсте”, похожем на собор отеле и казино с видом на Эресунн, и Бергман “жутко” тосковал по Кэби и Даниелю.
Эрик и Карин Бергман наверняка облегченно вздохнули.
Третий фронт, на котором воевал Ингмар Бергман, был в собственной семье. Еще в 1958 году в одном из писем к Ларетай он писал, что никогда не верил в счастье, в любовь или в подобные слова. Напротив, он ими злоупотреблял, использовал их “в самых странных обстоятельствах”. Теперь, когда они женаты, он мог полностью наплевать на то, как его воспринимает жена. Мог пойти на концерт в шерстяном свитере и неглаженых брюках, хотя эстетку Ларетай это раздражает. К себе домой он никого не приглашал и сам приглашений не принимал. А что, по ее мнению, хуже всего: он не скрывал приступов агрессии. Мог разозлиться и откровенно, без прикрас высказать свою позицию. Самое настоящее культурное столкновение. В семье Ларетай никому в голову не приходило хлопать дверью или стучать кулаком по столу.
Такое впечатление, что куда легче быть влюбленными и тосковать друг по другу в письмах, а не в реальности. В “Волшебном фонаре” Бергман пишет, что они говорили обо всем, большом и малом, но в действительности не имели общего языка. А в “Образах” он пишет: чем очевиднее становилось, что постановка, которую они так старались осуществить, выдыхается, тем больше оба пытались подправить ее этакой вербальной косметикой.
В январе 1961 года Бергман написал довольно длинное письмо, которое начал с рассказа, как меланхолия и тоска по жене заставили его искать утешения в онанизме. Но дело неизменно кончалось “унылым спадом, ведь возбуждение было принужденным и не приносило ни малейшего наслаждения и удовольствия”. Он нервничал, пал духом и чувствовал себя отвратительно. Изнывал от страха перед одинокими, бессонными ночами. Боялся призраков и пугался собственных криков, “словно исторгнутых из бездны и горя”. Держался он лишь благодаря сознанию, что жена скоро вернется к нему.
Многое здесь кажется театральным, и легко согласиться с Бергманом, хотя по части вербального реквизита у него явно некоторый перебор. Вполне допустимо предположить, что как раз бурный словесный поток, риторика, как бы гипнотизируя контрагента, поочередно спасали его от разных затруднений и в итоге он развил в себе способность постоянно быть прощенным и оправданным.
Когда в 1963 году ему предложили возглавить Драматический театр в Стокгольме, то есть перед ним вставала самая престижная культурная задача в стране, он спросил у жены, что она думает. Она высказалась достаточно ясно: “Я знаю, ты согласишься. И думаю, это станет началом конца нашего брака”.
Как выглядела повседневная жизнь в семье, где каждый из родителей достиг в своем искусстве таких высот? В их спальне весь пол был затянут желтым ковром. Ингмар Бергман поначалу выказал недовольство, но позднее постелил такой же ковер в своем кабинете, где все чаще ночевал. Между кабинетом и спальней они устроили “примирительную комнату” с дверью на балкон. Там они спокойно вели дискуссии и улаживали недоразумения, пишет Кэби Ларетай в своих воспоминаниях. Когда приезжала погостить Линда, спокойствие оборачивалось хаосом. Дочка носилась по дому и устраивала тарарам, и, если Ингмара Бергмана заблаговременно не предупреждали, гостья ему мешала. “Я убью того, кто смеет мешать мне, когда я пишу”, – мог сказать он.
В браке со знаменитым режиссером были особые стороны, и дело тут не только в его темпераменте. Он навлекал на себя общественное недовольство, проникавшее в самую сердцевину их жизни. Ларетай выслушивала по телефону брань и анонимные угрозы по ее и Ингмарову адресу. После премьеры “Источника” по почте пришло письмо с использованной туалетной бумагой. После “Молчания”, тоже весьма спорного ввиду сложной сексуальной темы, ее преследовала слава жены человека, который сломал сексуальные табу. В Германии пресса развлекалась словесными играми насчет “молчание – золото”. Бергман, утверждали тамошние газетчики, сколотил состояние, спекулируя на сексуальных табу, а Ларетай, стало быть, извлекала из этого золота выгоду.
Во многих случаях Кэби Ларетай напоминали о давних бергмановских изменах. Жена шефа эстонского представительства в Лондоне предостерегала ее во время гастролей в английской столице, что на такого человека, как Бергман, положиться нельзя: “Держитесь от него подальше. Он бросит вас, как бросил своих прежних женщин”.
А после одного из ужинов с его родителями Карин Бергман отвела ее в сторонку и задала вопрос, который уже некоторое время ее тревожил. Народ начал расспрашивать ее о сыне, и до нее дошли слухи про какую-то певицу из Оперы, которая якобы ждет ребенка. А отец якобы Ингмар Бергман. Ларетай заверила свекровь, что на самом деле обстоит совершенно не так, что все это не более чем сплетни. Кстати, певица замужем и счастлива в браке. Карин Бергман ответила, что Ларетай – единственный шанс ее сына: “Если он бросит тебя, надежды больше не будет. Тогда я откажусь от борьбы”.
Третий инцидент случился после концерта в Нью-Йорке. Ларетай отдыхала, лежа в постели в гостинице “Дрейк”, на углу Парк-авеню и Пятьдесят шестой улицы. Гостиница в стиле ар-деко пользовалась популярностью у самых знаменитых звезд, там останавливались, например, Фрэнк Синатра и Джуди Гарланд. Когда зазвонил телефон, она сперва подумала, что звонит ее импресарио, который без зазрения совести звонил в любое время дня и ночи. Однако звонил репортер газеты “Экспрессен”, хотел зайти и задать несколько вопросов, потому что Ингмар Бергман сказал по телевидению, что он и Ларетай собираются разводиться. Красавица-пианистка без комментариев все это отмела, но по возвращении в Швецию и в Юрсхольм ее ждала записка от мужа: “Не верь тому, что болтают, пока мы не поговорим”.
На следующий день все выяснилось. Бергман признался, что его сразила страсть. Сказал, что не знал, как получится с этой влюбленностью, и в обычной своей манере попросил жену не предпринимать поспешных шагов, а набраться с ним терпения, в точности то же самое он говорил Гюн Грут, когда влюбился в Харриет Андерссон.
В своих воспоминаниях Ларетай описывает, как происходил ее постепенный уход из жизни Бергмана, красноречивое свидетельство тому – возвращения домой из турне.
Первое: Ингмар встречает на аэродроме, с желтыми розами. Второе: Ленн [Юрцберг, Бергманов фактотум. – Авт.] на аэродроме, с желтыми розами. Ингмар на крыльце в Юрсхольме. Третье: Ленн с розами, Ингмара на крыльце нет, он шеф Драматического театра. Четвертое: никто не встречает. Никого на крыльце. Розы и приветственная карточка ждут на моем туалетном столе. Пятое: никого на крыльце. Никого дома. Никаких желтых роз. Шестое: Бербель [секретарь и домработница Ларетай. – Авт.] встречает на аэродроме. Ингмар переехал. У меня с собой большие букеты, полученные на концертах.
Эрик и Карин Бергман со смешанными чувствами наблюдали результат сыновней манеры постоянно черпать материал для своих произведений из собственных переживаний. Когда они сидели в темноте кинотеатра или на неудобных театральных стульях, то казалось, встречались два параллельных мира. Мир реальный, который они знали и в котором жили, и другой, возникавший на белом экране или на сцене, как когда они смотрели “Травлю”.
Еще один пример – “Причастие”. Главный герой – пастор небольшого сельского прихода, сомневающийся в своем призвании, вере и существовании Бога. В поисках подходящей церкви и вдохновения Бергман вместе с отцом, Эриком, объездил на машине весь Упланд. Пастор одной из церквей опоздал к обедне, так как прихворнул, и настаивал на сокращенной службе. Эрик Бергман возмущенно потребовал полного богослужения и провел его сам.
Гуннар Бьёрнстранд играл сомневающегося пастора, Тумаса Эрикссона, чью фамилию можно трактовать как “сын Эрика”, то есть это сомневающийся пасторский сын Ингмар Бергман, вдобавок такое же имя, Тумас, носил давний возлюбленный Карин Бергман. Когда в феврале 1963 года родители посмотрели фильм, Карин записала в дневнике, что муж был невероятно растроган и для него в чем-то ожило время собственного пасторства в Форсбакке. В остальном фильм не вызвал у нее особого доверия. “Он грубо реалистичен, и, по-моему, люди в большинстве не обратят на него внимания”. Кстати, того же мнения придерживался и сам режиссер. А Кэби Ларетай откровенно заявила: “Это шедевр, но шедевр скучный”.
Позднее в тот год, посмотрев вместе с одной из экс-невесток поставленную сыном в Драматическом театре пьесу Эдварда Олби “Кто боится Вирджинии Вулф?”, где, в частности, играла его бывшая возлюбленная, Биби Андерссон, Карин Бергман записала в дневнике:
Совершенно ужасная история супружества, но сыграна так, что в течение нескольких часов сидишь и слушаешь затаив дыхание. Нас с Гюн усадили в ложу Ингмара, и мы обе наслаждались, что можем спокойно сидеть и переживать. Одновременно ужасно и гениально.
Остается лишь догадываться, какие параллели она провела с собственным браком и тем, что видела в беспорядочных связях сына.
Казалось бы, в означенной ситуации взаимоотношения родителей и Ингмара Бергмана улучшатся, неровный и отчужденный настрой обоих лагерей смягчится, сменится более великодушным и понимающим. Однако все по-прежнему шло вверх-вниз, как раньше.
Нынче вечером заходил Ингмар, но было совсем невесело, ведь он нам теперь как чужой, не расспрашивает ни о нас, ни о Даге, ни о Нитти. Все как-то неестественно, а оттого, что Эрик весь вечер молчит и считает меня лицемеркой, когда я пытаюсь расспросить Ингмара о работе и делах, легче не становится. Лучше бы мы сидели одни. […] Я пытаюсь вспомнить что-нибудь хорошее из вчерашнего вечера и, конечно, чувствую, что у Ингмара свой внутренний мир и живет он не внешней жизнью, но, что ни говори, так много всего стало рутиной и холодом. Не удивительно при всех его успехах и постоянной публичности. Только вот удивительно быть его родителями.
Отзывы Карин Бергман, как всегда, интересны, чистосердечны и совершенно лишены материнской предвзятости. Вот что она пишет о бергмановских постановках двух одноактных пьес Сэмюела Беккета: “В высшей степени мучительное переживание. Я начинаю думать, не слишком ли Ингмар руководствуется в своем выборе собственным несколько негативным вкусом, одновременно ожидая, что люди будут довольны этим обнаженным, печальным театральным событием”. И о его постановке “Саги” Яльмара Бергмана: “Воздушная. тонкая. красивая”.
Карин Бергман не подозревала, что ее сын уже несколько лет имел любовницу в лице замужней Ингрид фон Розен и что у графини была от него дочь.
Но в марте 1964 года она заметила, что брак Бергмана и Кэби Ларетай, пожалуй, не столь безоблачен, как кажется. И по-видимому, была к этому вовсе не готова. Ей позвонила подруга и сообщила, что Ингмар разводится с Ларетай. “Она вела себя ужасно. Я сказала, что ничего такого не слышала, а она прямо-таки рассмеялась над моей наивностью. Потом я позвонила Ленну, потому что действительно была в шоке, и попросила рассказать, что ему известно. Он ответил, что все это сплетни, и был очень любезен. Ах, если бы и вправду было так!”
Вслед за этим потрясением у нее апрельской ночью случился инфаркт, и не первый. Она давно чувствовала, что с сердцем непорядок, а та ночь оказалась сущим кошмаром – сильнейшие боли и удушье. В больнице ей дали кислород и обезболивающее, а наутро Ингмар Бергман и Кэби Ларетай прислали большой букет ландышей и роз. Лечение в Софийском приюте оплатил сын. И там, в ее личной палате, мать и сын впервые за долгое время сумели сблизиться.
Бесконечно приятно и тепло, отстраненность исчезла, он действительно был любящим сыном, который заботился о своей старушке-матери, приходил к ней, когда она в нем нуждалась. Я ужасно мучилась из-за огромного расстояния между нами и из-за того, что находила Ингмара совершенно неприступным. Моя болезнь как бы взорвала эту толстую стену, и мы можем встречаться так, как и прежде не бывало почти никогда. На первых порах Ингмар приходил каждый день, несмотря на свою загруженность работой, и я не могу выразить, как это помогло мне вернуться к жизни. […] Ингмар, который дарит мне время, иной раз приходит, сидит рядом, смотрит на парк и на пасторский дом и говорит о том, как любил это место. Вообще Ингмар старается навещать меня как можно чаще, и нам так хорошо вместе, мы говорим обо всем, о новом и о былом. Доброта и тепло Ингмара – огромное переживание, и оно помогло мне больше, чем я могу передать словами. Хорошо бы этот вновь обретенный контакт между нами сохранился и впредь, когда я выпишусь отсюда. Здесь он любит окружение, с пасторским домом на заднем плане, и наше с ним одиночество.
Как-то раз Ингмар пришел с женой, и они говорили о его следующем фильме, для которого он только что закончил сценарий. “Когда я спросила, о чем там пойдет речь, он ответил: “О демонах”. Надеюсь, ты помнишь, что есть еще и добрые духи, сказала я”.
Изредка он проведывал одну из оставленных семей. Эллен Бергман так описала его приезд в Гётеборг:
Короткий визит Ингмара принес огромную пользу. К сожалению, сам он не понимает, как много это значит. Особенно для детей, для их чувства защищенности много значит, что он хоть немного заботится о них. Кроме того, им очень важно видеть, что он уважает их мать. И потом, мы можем поговорить о нем. На сей раз Ингмар тоже показал себя в выгодном свете. Во всех отношениях. Спокойный, дружелюбный, заботливый. Я понимаю, ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы все бросить, приехать сюда и вдобавок вправду быть здесь. За это я ему искренне благодарна.
Но когда у его сына, пятнадцатилетнего Яна, гостившего у брата матери в США, обнаружилась грыжа и ему пришлось лететь домой на операцию, Эллен писала бывшей свекрови:
Я рассказываю об этом не для немедленной передачи Ингмару. Пусть он узнает задним числом. Думаю, он и сам предпочтет именно такой вариант. Тогда он избежит тревог. Если вообще тревожится.
Весной 1965 года Ингмар Бергман заболел и с воспалением легких, пенициллиновым отравлением и вирусной инфекцией угодил в Софийский приют. Чувствовал он себя, впрочем, не настолько скверно, чтобы одновременно не исполнять свои обязанности как шеф Драматического театра, хоть и на расстоянии, временами он ненадолго выходил в город, бывал в кино и навещал родителей. В феврале он вместе с Чарли Чаплином получил нидерландскую премию Эразма за значительный вклад в европейскую культуру и общество.
Еще летом все, казалось, было так, как хотелось Карин Бергман. Поездка на Дроттнингхольм к матери Кэби Ларетай: маленький Даниель в саду, “очаровательный и славный мальчуган”, окруженный огромной любовью. Хороший ужин и показ фильма, который Ингмар Бергман снял о первом годе жизни сына. “Приятное и дружелюбное настроение, в обществе Кэби, Ингмара и матери Кэби можно забыть будничные неурядицы”.
Четырнадцатого июля Ингмару Бергману исполнилось сорок семь. В тот же день Кэби сравнялось сорок три. Карин и Эрик Бергман послали каждому по письму. “Пусть этот день будет для них хорошим!” На другой день сын позвонил, держался “очень мило, прямо бальзам на сердце”. Через неделю Ингмар Бергман уедет на Форё, начнет съемки “Персоны” – и заведет роман с исполнительницей одной из главных ролей – Лив Ульман.
В сентябре, пока Бергман и Ульман наслаждались страстью на порядочном расстоянии от его семьи в Юрсхольме, сыну Даниелю исполнилось три года. Карин Бергман написала Кэби Ларетай и послала в подарок малышу книжку “Путте в черничном лесу”.
В ноябре окончательно выяснилось, что Ингмар Бергман оставит пост шефа Драматического театра, его сменит Эрланд Юсефсон. А в декабре она заметила первые признаки, что между Ингмаром Бергманом и Кэби Ларетай что-то назревает. “Только бы Ингмар не отправился по новым опасным дорожкам!” На публике она неохотно говорила о своем знаменитом сыне. Его путаная личная жизнь мучила ее, а притворяться она совершенно не умела. На одном из спектаклей во дворце Карлберг рядом с нею оказалась некая дама из высшего общества, которая принялась допытываться, каково быть матерью Ингмара Бергмана. “Я быстро перевела разговор на ее детей”.
Та зима выдалась самой холодной с 1870 года, и Карин Бергман почти все время сидела дома, поскольку не выносила метель и холодный ветер. А от Ингмара и Кэби Ларетай большей частью вестей не было. В начале декабря сын все же ненадолго заглянул. “Завтра он уезжает в “Сильянсборг”. Именно сейчас он настроен на одиночество, и мне кажется, Кэби тоже нуждается в покое, учитывая все ее концерты”.
Наверно, ей хотелось позвонить невестке, но не хватило духу, потому что она чувствовала себя посторонней, чужой. На Рождество Карин записала в дневнике: “Кэби определено выступала в Америке с большим успехом, но я чую нелады между ними”. И на следующий день: “Во второй половине дня разговаривала с Кэби. Наверно, ей сейчас нелегко с Ингмаром”.
Однажды вечером в начале марта 1966 года Ингмар Бергман позвонил матери и попросил ее зайти к нему в кабинет в Драматическом театре. Ему хотелось поговорить, и Карин Бергман была на седьмом небе: оказывается, она по-прежнему нужна.
О чем они говорили, известно только им обоим. В своих мемуарах Ингмар Бергман об этом не упоминает, а Карин Бергман записала в дневнике лишь нижеследующее:
8 марта:
Вечером звонил Ингмар, он дежурил в театре и попросил меня прийти туда, мы проговорили несколько часов, и все мои предчувствия оправдались. Только бы они все это преодолели! Дай-то бог!
9 марта:
Сегодня вечером Ингмар прислал мне с Ленном чудесную азалию. А сам позвонил и поблагодарил за вчерашнее. Правильно ли я поступила, молча выслушав все, что он рассказывал. Но ведь я знала, что в тот самый миг, когда я вроде как начну морализировать, я воздвигну между нами стену. И он знает, что мои молитвы и мое сердце борются с ним, чтобы он все-таки поступил правильно.
Вероятно, Бергман рассказал о кризисе в браке с Кэби Ларетай. Наверно, рассказал и о любви к норвежской актрисе Лив Ульман и о том, что она ждет от него ребенка, хотя это менее вероятно. Подобную информацию – новая, беременная любовница при живой жене – он, насколько можно судить, до сих пор от матери утаивал. Через два дня после встречи с сыном в театре она записала в дневнике, что видела Кэби и Ингмара в музыкальном салоне невестки на телевидении: “Изящно и весело”.
В ночь на 13 марта Карин Бергман почувствовала боли и удушье. Она была одна в квартире, так как Эрик Бергман лежал в больнице после операции. Утром вызвали ее врача, профессора Нанну Сварц, но та уже ничего не могла сделать. В половине одиннадцатого Карин Бергман скончалась от инфаркта, в возрасте семидесяти шести лет.
Записи в дневнике оборвались, и пасторше уже не довелось пережить очередную влюбленность сына. Вероятно, последнее, что она узнала, было вот что: брак сына с Кэби Ларетай распадался. Как бы она реагировала на то, что теперь сын встречался с Лив Ульман, нам неизвестно, однако логично предположить, что она бы ответила обычным образом – беспомощностью, тревогой, болью. Наверняка она молила Бога продолжить ее безнадежную борьбу и вывести сына на путь истины.
Заупокойная служба состоялась 28 марта в церкви Хедвиг-Элеоноры. Обряд провел старший пастор Ханс Океръельм. Гроб утопал в желтых розах, любимых цветах Карин. Этот цветок Ингмар Бергман обычно преподносил и Кэби Ларетай.
Народу на похоронах собралось много. Присутствовали дочь Маргарета с мужем и старшей дочерью Вероникой. Они жили в Англии и паромом приехали в Гётеборг, откуда добрались до Стокгольма на красном “вольво-Р-1800”. Вероника сидела на церковной скамье между своим отцом Полом Бриттеном Остином и дядей Ингмаром. Мама похожа на мумию, думала она, лицо набеленное, вся в черном.
Все годы в Англии Вероника ужасно тосковала по бабушке, но сейчас плакать не могла. Озиралась по сторонам и заметила, что остальные плачут. Видела, как слезы струятся по лицам папы и деда, и ей казалось, будто весь мир сошел с ума.
Годом раньше она забеременела. Тягостный опыт. Мама Маргарета, помнившая ужасный аборт, который поневоле пережила в юности, умоляла мужа позволить дочери выносить ребенка; она считала, что Эрик Бергман, дав разрешение на аборт, убил ее собственного нерожденного ребенка. Маргарета даже соглашалась выдать ребенка дочери за своего. Ингмар Бергман, с которым они постоянно поддерживали телефонный контакт, был того же мнения: “Пусть рожает”. Ведь в его мире беременные женщины не были диковиной, напротив, он их любил.
Но это, разумеется, было невозможно. Во-первых, сама Вероника не хотела ребенка. Во-вторых, ее, по всей вероятности, исключили бы из школы, а образование – самое главное. Так что аборт оказался неизбежен. Веронике запретили говорить об этом кому бы то ни было, даже лучшей подруге, и потому она стала отдаляться от людей. Поневоле закрылась, чтобы держать свои чувства в узде. Была не в силах участвовать в развлечениях школьных товарищей, не могла смеяться. Она выросла в убеждении, что очень похожа на бабушку, ведь так ей твердили все окружающие: Вероника волевая, как пасторша, Карин, которая контролировала и режиссировала все происходящее и которой, собственно говоря, самое место в театре, где она, вероятно, была бы счастливее.
Именно умение владеть собой и выставило всех собравшихся в церкви сущими безумцами. Все они безудержно рыдали, взрослые мужчины, которых Вероника никогда прежде не видела в слезах. Плакал даже ее отец, всегда чисто по-английски сдержанный. Только одного человека не одолели слезы – Ингмара Бергмана. Она посмотрела на него и увидела, что он улыбнулся ей. Какое же сильное и прекрасное чувство: вот еще один не хнычет, умеет владеть собой. Позднее – она уже легла в постель в гостинице Армии спасения на Дроттнинггатан, где под высоким потолком царила угрюмая тишина, – к ней зашел отец, принес старого игрушечного медведя, которого она много лет назад, когда семья переезжала в Англию, забыла взять с собой. Медведь был потрепанный, одноглазый. Вот тогда ее, наконец, прорвало. Она, не верившая в слезы, расплакалась навзрыд.
В следующий раз Вероника встретилась с дядей, когда ей исполнилось восемнадцать. Скончался дед, Эрик Бергман, и квартиру на Грев-Турегатан, куда он переехал после смерти Карин, надо было освободить. Разгар лета, жара, в квартире пыльно, Маргарета Бергман близка к истерике. Вероника предпочла бы находиться в другом месте. Потом пришел Ингмар Бергман, и они поехали ужинать в Ердет, в ресторан телебашни Какнестурн.
С племянницей он вел себя очень мило и по-товарищески. “Все говорят, что ты ужасно похожа на маму”, – сказал он. Веронике он показался ужасно скучным, а съела она одно-единственное глазированное пирожное. Потом Бергман отвел ее в сторонку, серьезно посмотрел в глаза и сказал: “Да, ты вправду похожа на мою маму. Но что ты сделала с девочкой, которую я видел на маминых похоронах? Как только увидел тебя, я сразу подумал, что у тебя самые сексапильные голубые глаза, какие я видел у женщин”.
За четыре года, минувшие после похорон Карин Бергман, Вероника заработала анорексию, и комментарий Бергмана вызвал у нее лишь раздражение. Она не хотела быть женщиной, тем более сексапильной, как говорит дядя. Но позднее, сообразив, что он фактически имел в виду, она досадовать перестала. Бергман не сказал “До чего ты худая” или “Тебе надо как следует питаться” и не твердил, что она уничтожила ту женщину, какую он видел на похоронах, он имел в виду, что Вероника спрятала ее в себе. А значит, где-то внутри она существует. Именно это он и разглядел в ее “сексапильных голубых глазах”. Вероника поняла, что дядя отметил скорее ее стремление к контролю, что она повернула этот контроль против себя самой и что за всем этим стояла та же железная воля, как у его матери.
Вероника и Ингмар Бергман разделяли здоровое увлечение противоположным полом. Как и великий режиссер, она переходила от одного романа к другому, с последующими беременностями. Когда однажды утром ее отец Пол нашел ее в постели с парнем сестры, он гонял ее по гостиной и кричал: You're just like your bloody uncle![32]
Став старше, она поняла, что, по сути, любовь к мужчинам – это постоянные поиски вдохновения. Как и дядя, она человек творческий, движимый страстью. Восторг становится в искусстве настоящей движущей силой, и его легко спутать с любовью; в случае Вероники и Ингмара Бергмана – с величайшей любовью. Когда партнер затем говорит какую-нибудь глупость или делает что-нибудь им не по вкусу, они знают, что с этой минуты развод лишь вопрос времени.
Бывший муж Кэби Ларетай, дирижер Гуннар Стэрн, женился на оперной певице Берит Фруди. Ему не терпелось, она была молода и очаровательна.
Познакомились они в Городском театре Евле в сентябре 1957-го. Фруди играла небольшую роль в одной из постановок Упсальского городского театра, и как-то раз во время гастролей в Евле Стэрн репетировал в фойе со своим оркестром. Фруди попросила у дирижера разрешения спеть для него на пробу, и, послушав ее, он воскликнул: “Поздравляю! У вас есть все, на будущий год непременно включу вас в концерт”. Но затем, встретив Фруди в поезде на перегоне между Стокгольмом и Евле, он ее не узнал. Как и годом позже на генеральной репетиции в Оркестровом обществе Стокгольма. Не узнавал, и всё.
Казалось бы, странно. Несколькими годами раньше Берит Фруди исполнила главную роль в фильме “Девушка без имени”, в котором, в частности, снимались также Альф Челлин и Стиг Йеррель, причем, как писал один из еженедельников, ее игра основывалась на чисто физической выразительности, напоминавшей Ярла Кулле в женском варианте. В 1959 году, когда она получила в Мальмёском городском театре роль Кармен, “Векку-Журнален” поместил ее фото на обложке. Один из рецензентов восхищался ее сценическим обликом:
Стройное девичье тело, пластика которого выдает зрелую сексуальность и изрядный эротический опыт. Курносая экзотическая девчонка с блестящими черными волосами и соблазнительной белозубой улыбкой. Опасная самочка, насквозь испорченная, но с закаленной гордыней.
Так или иначе, Фруди получила обещанный Стэрном концерт и после в глубине души сожалела, что он женат. Однако она произвела впечатление на дирижера, и меж тем как Кэби Ларетай все больше увлекалась Ингмаром Бергманом, Стэрн увлекся Фруди. Первую ночь они провели в квартире для ночевок, которой совместно владели Бергман и Ларетай. В гадеробе висели красивые платья пианистки. Фруди подумала, что есть много способов провести ночь с Ингмаром Бергманом и вот этот – один из самых необычных. Она даже сомневалась, что они сменили белье на постели, в которой она сейчас лежала с дирижером.
Стэрн хотел немедля съехаться с Фруди. Она понимала, что для него это способ утешиться после потери жены. Фруди стала третьей женой дирижера, и он еще в начале их романа предупредил, что обыкновенно его брак длится десять лет.
В первый год он показал ей все узкопленочные фильмы о себе и Ларетай. А если покупал ей украшения, то как раз такие, что подошли бы пианистке. Фруди сделала вывод, что Стэрн хотел сделать из нее точную копию бывшей жены. “Гуннар не мог вновь жить в чьей-то тени, как было с Кэби”, – говорит Фруди. Она понимала и что ему нужен кто-то, кто позаботится о его дочери, опеки над которой он хотел добиться и в итоге добился.
Обе пары начали общаться, ради дочери, Линды. Когда Фруди и Стэрн приехали в гости на юрсхольмскую виллу, им устроили экскурсию по дому. Пока бывшая жена водила Стэрна по комнатам, Бергман показал Фруди свою спальню, где он развесил несколько декоративных мобилей. Фруди вспоминает, что эти мобили – он называл их “своими демонами” – оставляли впечатление редкостной гармонии. Фруди понимала, что у хозяев есть повод иметь раздельные спальни. Оба они испытывали трудности со сном, оба превыше всего ценили артистизм, в том числе и превыше совместной жизни, к тому же Бергман страдал неуверенностью и страхом перед интимностью. “Он не хотел подпускать людей слишком близко”.
Фруди и Бергман обнаружили, что во многом схожи – юмором и особенно темпераментом. И как бы по молчаливому уговору позволили своим партнерам играть затем первую скрипку в разговоре. Уселись на диван, словно благовоспитанные дети, и с легким любопытством ждали, как Стэрн и Ларетай, бывшие супруги, справятся с неординарной ситуацией, сидя в креслах друг против друга.
Кэби Ларетай, дочь дипломата, всегда искавшая надлежащей гармонии и решительно действовавшая в любых обстоятельствах, и гибкий, уступчивый Стэрн, прошедший ее выучку. Темой разговора они выбрали музыку, общую страсть.
“Мы с Ингмаром слушали этих двух гигантов красноречия и сами не очень-то много говорили”, – вспоминает Фруди.
Позднее, когда гости собрались домой, Фруди и Бергман на минутку задержались на лестнице, а Ларетай и Стэрн прошли вперед. Бергман проводил их взглядом. “На редкость романтическая пара”, – сказал он без малейшей иронии. Они с Фруди были единодушны в том, что их партнеры – очень красивые люди, овеянные музыкой.
Сходства привели к тому, что между Бергманом и Фруди не возникло даже намека на эротическую искру. Они были скорее как брат и сестра. Потому-то никогда и не могли работать вместе, во всяком случае в кино, поскольку как бы нейтрализовали друг друга. Вместе они чувствовали себя защищенными, между ними недоставало напряженности.
В свою очередь Бергман и Ларетай ходили в гости к Стэрну и Фруди. Как-то раз хозяйка приготовила восхитительный ossobuco, но Бергман к телятине под белым вином не притронулся. Зато уничтожил огромное количество десерта – безе со сбитыми сливками и шоколадным соусом. Что полезнее для его капризного желудка, можно поспорить.
Общались они, как уже сказано, ради Линды, дочери Стэрна и Ларетай. Фруди вспоминает, что уже в самом начале Ларетай предложила перейти на “ты”, ведь теперь Фруди станет для ее дочки новой матерью. Ларетай с трудом балансировала между своей карьерой, отнимавшей у нее так много времени, ожидаемой материнской ответственностью и тем фактом, что Ингмар Бергман не хотел, чтобы ее дочь жила в юрсхольмской вилле.
И, когда она радостно сообщила, что муж в конце концов принял Линду, Берит Фруди поняла, что режиссер собирается оставить свою пианистку.
Жизнь с Лив
Выбор одежды, видимо, играл определенную роль в отношениях Ингмара Бергмана с женщинами. Молоденькую Харриет Андерссон он посылал покупать удобные рубашки, брюки и носки у “Георга Сёрмана”. Встретив более зрелую и эстетически более взыскательную Кэби Ларетай, чаще появлялся в смокинге. Женщины Бергмана неоднократно отмечали его элегантность или отсутствие оной, а его предпочтения до некоторой степени символизировали, на какой стадии находились отношения, вернее, какой характер они носили.
Бергман вполне мог бы почаще одеваться приличнее. Фотографии с презентаций фильмов и праздников 50-х, 60-х и 70-х годов показывают, что в смокинге он мог выглядеть весьма светским и непринужденным. Обаятельным благодаря слегка опасной и самоуверенной улыбке, на которую попалась Харриет Андерссон, окруженным невероятно красивыми женщинами.
Но в иных обстоятельствах отсутствие вкуса поражало. И дело не в том, что он этого не сознавал, ему просто было наплевать или недосуг. Умудрившись надеть к смокингу черные ботинки с коричневыми шнурками и явиться в таком виде на премьеру, он мог чувствовать себя едва ли не Франкенштейном и думать, что все только и смотрят на его ботинки. А порой мог и игнорировать личную гигиену. Словно не понимал, каков будет результат, когда ноги (мужчины) в тепле слишком долго обуты в резиновые сапоги, как, например, на оперном спектакле в середине 40-х годов. Его спутница запомнила тот вечер на многие десятки лет. Литературовед, музейщик и специалист по Бельману Улоф Бюстрём как-то раз присутствовал на ужине в доме писателя и члена Шведской академии Олле Хедберга и его жены Рут, которую все звали Хлоей. У Бюстрёма остались самые неприятные впечатления, как он писал Вильготу Шёману:
К несчастью, меня усадили прямо напротив известного режиссера, и потому я волей-неволей хорошо его рассмотрел. […] Олле, как обычно, держался светски дружелюбно, а энергичная Хлоя, к моему удивлению, сохраняла хорошую мину по отношению к главному гостю – наверно, по чисто тактическим соображениям. Я предпочитал помалкивать. Десять лет я председательствовал в художественном объединении Местер-Улофсгорден. И там часто слышал, как Свен Ханссон с огромным энтузиазмом рассуждает о блестящих работах Ингмара, но в ту пору до них было еще далеко. Н-да, так вот насчет И. Б. Одет он был, мягко говоря, скверно, одежда грязная, потрепанная, вдобавок чернота под ногтями. Громким голосом он верховодил в разговоре о “Бешенстве” [телефильм Бергмана по сценарию Хедберга, который демонстрировался в ноябре 1958 года, а также театральные постановки на разных сценах. – Авт.] и о себе самом, причем безудержно хвастался. Все это было весьма утомительно.
Но Бергман не хотел целиком и полностью разменивать себя на компромиссы. Одна из серьезных стычек между ним и Кэби Ларетай произошла из-за берета и кожаной куртки, пожалуй главной внешней его приметы. Она не могла понять, как такая изношенная и грязная вещь может означать для него защищенность, и отказывалась обнимать его, когда на нем была эта куртка. В куртке заключалось его прошлое, и она смотрела на нее с чем-то вроде ревности. “Куртка говорила о его неспособности к изменению и о том, что он по-прежнему хотел быть мальчишкой”, – сказала Ларетай в одном из интервью “Свенска дагбладет”. И берет, его тоже надо ликвидировать. Бергман пошел на уступку – с беретом он расстанется, но, черт побери, не с курткой! И не со старым “вольво”. Это уже предел.
Однако речь, конечно, шла о внешних знаках чего-то более глубокого, не действовавшего между ними. Их соединила общая любовь к искусствам – его театру и ее музыке. Но, выражая одобрение музыкальному произведению или театральной пьесе, они все же не понимали друг друга. То, что нравилось Бергману, не нравилось Ларетай, и наоборот. Или вилла в Юрсхольме. Она стала крепостью, недоставало разве только рва. Привычка Ларетай приглашать домой родных, семью, друзей и коллег шла вразрез с бергмановским желанием, чтобы его оставили в покое.
Вообще буржуазная жизнь в фешенебельном стокгольмском предместье была очередной кулисой, временным отступлением от богемного бытия, к которому он привык, так он пишет в “Волшебном фонаре”:
Все это было новым героическим спектаклем, быстро превратившимся в новую героическую катастрофу. Двое людей в погоне за идентичностью и защищенностью сочиняют друг другу роли и принимают их в стремлении угодить друг другу. Маски быстро трескаются и падают наземь при первом же ненастье. Ни у одного не хватает терпения рассмотреть лицо другого. Оба кричат, пряча глаза: посмотри на меня, посмотри! – но не смотрят. Усилия бесплодны. Два одиночества – факт, неудача – непризнанная реальность. Пианистка уезжает в турне, режиссер режиссирует, а ребенка доверяют компетентной воспитательнице. Отсюда возникает образ стабильного брака с успешными контрагентами. Декор преисполнен тонкого вкуса, освещение установлено прекрасно.
Все это весьма напоминает борьбу Карин Бергман за соответствие не только представлению окружающих об идеальном браке, но и своему собственному.
Теперь, когда в принципе все кончилось, новость о разводе разлетелась по стране в газетных анонсах. Пресса буквально осаждала обоих. Ведь это недюжинный развод, самые знаменитые люди в Швеции, каждый в своей области. Заголовки ускорили процесс. Бергман обвинял жену, что она открыла перед прессой их личную жизнь, а Ларетай мучила тенденциозность, с какой газеты трактовали ее высказывания. Обязательное посредничество между супругами, как обычно, ничего не дало, и бракоразводные документы были подписаны. Через два года они официально развелись.
Одновременно еженедельники начали копаться в новом романе – между Ингмаром Бергманом и Лив Ульман. Впервые они столкнулись на углу улицы, когда Ульман приехала в Стокгольм и прогуливалась со своей подругой Биби Андерссон. Прежде всего он подумал, что напишет роль для этой норвежки. Немногим позже он увидел фотографии обеих женщин: они сидели на солнце у стены какого-то дома. Сделал снимки добрый друг Стуре Хеландер, женатый на Гуннель Линдблум, тоже постоянной актрисе Бергмана. Режиссера заворожило сходство между Ульман и Андерссон, и он решил, что обе они сыграют главные роли в драме о двух женщинах, которые настолько похожи, что теряют друг в друге собственную идентичность.
Эта интрига Бергману, видимо, очень нравилась. Он закончил роман с Биби Андерссон, чтобы жениться на Кэби Ларетай, и оставил Ларетай ради Ульман. А теперь займет Андерссон и Ульман в своем следующем фильме. Существует киноэпизод с пресс-конференции перед началом съемок “Персоны”. Совершенно довольный Бергман, а по бокам две его любовницы, прежняя и новая. Говорит он, женщины молчат. Их присутствие – декорация. Все должны видеть, как они похожи. И все видят.
Харри Шайну Бергман позднее скажет, как чудесно было иметь в павильоне Лив и Биби и “обращаться с ними как с любимыми рабынями, объяснять им, что надо делать, в надежде, что его слова через них дойдут до мира”.
Уже во время съемок “Как в зеркале” Бергман влюбился в Форё. Действие фильма целиком разыгрывается на этом скудном и суровом острове к северу от Готланда, и там нашлось все, чего он желал, сам о том не зная. Даларна, с рекой, холмами, лесами и пустошами, с детства жила у него в крови. Но Форё вмиг стал для него вожделенным, и, в точности как бывало с женщинами, он завладел предметом своей пылкой страсти. Летом 1965 года, вернувшись на остров снимать “Персону”, Бергман лишь укрепился в своем первом впечатлении. Здесь он нашел свой ландшафт: формы, пропорции, краски, горизонт, звуки, тишину, свет. Здесь мог дать выход ярости, мог кричать. “Чайка свободно взмывает ввысь. В театре это станет катастрофой”, – пишет он в “Волшебном фонаре”. На Форё он мог уединиться, наслаждаясь добровольным одиночеством, когда заблагорассудится. Мог читать, размышлять, очищать душу.
Потом он и Лив Ульман влюбились друг в друга, что еще углубило его чувства к этому острову. Разговаривая по телефону с матерью, он казался счастливым и увлеченным работой, что, пожалуй, не удивительно. Он опять нашел новое вдохновение в энергии влюбленности.
Ситуация сложилась пикантная, поскольку давняя любовница Бергмана, Биби Андерссон, играла в этой драме о близнецах вторую главную роль. Андерссон, уже знакомая с обстотельствами, догадывалась, к чему все идет, и пыталась предостеречь подругу. Она ведь знала бергмановский modus operandi[33] в любовных связях. Но Ульман была на седьмом небе и чувствовала себя как первая женщина на свете, влюбленная и любимая. Впервые в жизни она встретила кинорежиссера, который позволил ей раскрыть чувства и мысли, никому другому неведомые. Бергман слушал и понимал все, что она стремилась выразить. Однажды они сидели, глядя на спокойное, солнечное море, и Бергман сказал: “Сегодня ночью я видел сон. Что мы с тобой крепко, до боли связаны”.
Сильные слова, проникающие глубоко в любящее сердце, и Лив Ульман вряд ли могла знать, что это стандартный прием. Возможно, Бергман вправду испытывал такое чувство и в ту минуту, и в будущем, но взгляд на список его грехов показывает, что примерно то же самое он говорил и своим прежним женщинам. Если исходить из того, что Ульман запомнила правильно, реплика выглядит хорошо заученной. Однако она достигла намеченной цели, и Ульман безнадежно пропала. Так начались любовная история, которая продлиться всего несколько лет, и дружба на всю жизнь.
Впрочем, в “Волшебном фонаре” он немногословен и посвящает роману с Ульман меньше десятка строк. Собственную книгу, “Изменения”, она написала десятью годами раньше, и диву даешься, насколько больше места Ульман отводит своим воспоминаниям о нем, чем он воспоминаниям о ней.
Ульман полагает, что они вошли в жизнь друг друга слишком рано – и слишком поздно. Она искала надежности и защиты и очень нуждалась в близком человеке. Он искал тепла и безыскусности материнских объятий. Вообще-то они бы могли удовольствоваться друг другом, ведь потребности были примерно одинаковы. Но жизнь на острове, где Бергман через год после съемок “Персоны” построил дом, вскоре прославившийся на весь мир, стала для Ульман тюремным заключением, там она изведала страшную бергмановскую ревность, с которой рано или поздно сталкивались все его женщины. Описывая тогдашние события, она использовала такие выражения, как “наш ад, наша драма”. На двери его кабинета они начертили несколько символов – сердце, крест, слезы, черные кольца, – отражавшие их отношение друг к другу. Вдобавок Бергман изобразил на двери что-то вроде календаря. Некоторые дни были красными, некоторые – черными, некоторые отмечены жуткими молниями на горизонте, а вокруг хоровод из давних чертенят.
Ульман быстро поняла, что должна приспосабливаться к его потребностям в покое и тишине. Когда ему не спалось, она лежала рядом в постели и не смела спросить, о чем он думает, опасаясь, что, возможно, не является естественной частью его вселенной, его острова.
В августе 1966 года родилась их дочь Линн. Длинный репортаж в “Векку-Ревюн” от декабря следующего года рисует как будто бы полное семейное счастье на суровом острове: “Эксклюзивное интервью Лив Ульман о карьере, будущем, частной жизни и дочурке Линн”. Фотографировал опять-таки Леннарт Нильссон, на сей раз снимки были цветные, а не черно-белые, как в Даларне, где он снимал Бергмана и Ларетай. Репортер, Бритт Хамди, записала, что Ульман и Бергман оставили позади целый ряд тяжелых событий, “которых посторонним касаться не стоит. Теперь, как видят все и подтверждают они сами, у них необычайно добрые отношения”.
Когда приехал погостить Вильгот Шёман, Лив Ульман “слабым голосом” сообщила, что Бергман сказал о дочери Линн: “По словам Ингмара, он впервые чувствует себя отцом”. Шёман лишь отметил про себя, что именно это пятнадцать лет назад говорила ему Гюн Грут о сыне, Лилль-Ингмаре.
Ульман приготовила спагетти под мясным соусом, за едой они пили вино. Дочка Линн, как показалось Шёману, существовала где-то в тени. Ульман не очень-то занималась ею. Бергман говорил о дочери примерно так же, как о сыне Даниеле, которого имел с Кэби Ларетай, – он, мол, очень счастлив и охотно играет с ребенком.
Что-то в этих комментариях о ребенке и отцовской роли зацепило Шёмана. Слишком уж часто повторялись одни и те же фразы, возможно означавшие что-то большое и важное, а возможно, и нет. Возможно, это была просто поза.
Лив Ульман пишет, что пыталась полюбить Форё так же, как его любил Ингмар Бергман. И, вероятно, уже в этом коренилась причина неудачи. Бергман влюбился в Форё сразу, инстинктивно, Ульман же делала над собой усилие. И когда родилась дочь, она поняла, что они останутся вдвоем. Отец, конечно, будет поблизости, но отнюдь не с ними. В “Изменениях” она пишет:
В одиночестве на острове я частенько бывала нервной и задерганной матерью. Моя жизнь с ребенком зависела от обстоятельств, в каких находилась я сама. А они не всегда были благоприятны. Порой я срывала на дочке свое разочарование. Случались дни, полные чувства вины, когда я ковриком стелилась перед ними обоими. Перед ним, что сидел один в кабинете и желал безраздельно владеть мной. И перед ней, что едва выучилась ходить и плачем призывала меня с другого конца дома. Я металась от одного к другой, вечно с нечистой совестью. И никогда не умела дать то, что хотела получить.
Ульман и Бергмана объединяло еще одно – темперамент. Никто не злился так, как он, пишет она, “разве только я”. Однажды он до того напугал ее, что она заперлась в туалете, а Бергман стоял за дверью, молотил по ней ногой и пробил насквозь, причем одна его тапка угодила в унитаз. Сцена курьезная, но ужасно похожая на эпизод из “Сияния”, где герой Джека Николсона, Джек Торранс, врубается с топором в ванную, чтобы убить жену. В другой раз он так сильно толкнул Ульман, что она отлетела на другой конец гостиничного номера.
В итоге все кончилось. В них обоих выросло отвращение, пишет Ульман, “бессловесное и совершенно неожиданное”. Во время поездки в Рим она написала ему письмо и сообщила, что все кончено.
Выход из отношений с Лив Ульман следовал той же модели, что и расставание с Ларетай, – в обрамлении газетных анонсов и крикливых заголовков. “Его новая жизнь без Лив” конечно же замечательный заголовок. Жадные до скандалов представители бульварной прессы не давали Ульман проходу, названивали ей по телефону и нагло предъявляли ультиматум – или она дает интервью, или они все равно напечатают статью. Одному понадобился телефон новой возлюбленной Бергмана, и он спрашивал, не знает ли его Ульман. Она искала поддержки у подруг, в том числе у Биби Андерссон, которая пятью годами раньше тщетно пыталась предостеречь ее от последствий связи с Бергманом.
Но прежде чем расстаться, Ульман и Бергман договорились, что на его похороны она придет в длинном черном платье. Если Бергман тогда будет женат на другой, она сядет в церкви на заднюю скамью, во время пасторской речи потеряет сознание, и под звуки псалма ее вынесут на улицу.
Это обещание она не сдержала. Пришла, конечно, в черном, но не в платье, а в длинной кофте и брюках. А поскольку Бергман умер вдовцом, Ульман не понадобилось ни скромно сидеть на задней скамье, ни падать в обморок. Напротив, она могла спокойно общаться и с Бергманами, и с четвертой женой режиссера, Кэби Ларетай, которую он бросил ради нее, и с прежними возлюбленными Бергмана Харриет Андерссон и Биби Андерссон.
Ментор и цензор
Вильгот Шёман был учеником Ингмара Бергмана. Сидел у ног режиссера и алчно подбирал крошки со стола корифея. Жаждал одобрения мастера и одно время чуть ли не одержимо следил за каждым его шагом.
Его восхищение режиссером не осталось безрезультатным. Первая большая документация по одной из работ Бергмана вышла в 1963 году под названием “Л-136. Дневник с Ингмаром Бергманом”. Шёман наблюдает за съемками “Причастия” с самого близкого расстояния, какое только возможно. Присутствует не только на съемках, но и на всех предварительных, промежуточных и последующих обсуждениях. Вооружившись блокнотом, ручкой и диктофоном, он сумел собрать уникальный материал – режиссер свободно говорил, а Шёман все записывал и зафиксировал огромное количество комментариев, которые Бергман ронял о чем угодно, но в первую очередь о себе, о своих родителях, женщинах, коллегах и сотрудниках.
О браке с Ларетай, на которой в ту пору еще был женат, Бергман рассказал, что они мало-помалу обнаружили, что оба – люди донельзя ущербные: “Пожалуй, я в большей степени. Для нее период скитаний был уже позади. А мне, мне казалось, будто я умираю”… Начиналось все очень романтично, однако романтичность вылилась в нечто другое, “куда более реальное”.
Своего отца, пастора, он называл “старикан”, правда, с нежностью в голосе. “Старикан прочел сценарий трижды, можете себе представить?” – напрямик спросил он своих сотрудников и добавил, что Эрика Бергмана интеллектуалом не назовешь, ведь он все воспринимал скорее эмоционально. Выясняется, что Бергман, появляясь на съемках, шел быстрым шагом и топал ногами, как ребенок, который требует всеобщего незамедлительного внимания.
Читатель узнаёт, что Бергман ел шоколад “Дросте” и гётеборгское “желудочное” печенье, от своих критиков отделывался заявлением, что они даже не читали лютеровского малого катехизиса, не одобрял высказывание Харриет Андерссон, что она не какая-то там глубокомысленная девчонка (“Так она говорить не должна”), но все же считал, что ее ответы интервьюеру не могут повредить его фильму.
Еще читатель узнаёт, что одним из любимых словечек Бергмана, в разговорах и в режиссуре, было “не так ли?”. “Употребляя его, он не ждет ответа. Это просто наводящее слово. Электрифицирующее. Горячая просьба к собеседнику пойти ему навстречу, понять. Если собеседник слушает и кивает – контакт замкнут, ток пошел”.
Выясняется, что на кого-то он обозлился, а этот кто-то обиделся и в результате Бергман был вынужден скрывать свою агрессивность и оттого опять-таки обозлился на этого кого-то. Шёман очень наглядно обнажает особые диктаторские приемы Бергмана, описывая нижеследующий инцидент:
Он, Ингмар Бергман, обнаруживает ошибку; виноватый просит прощения – и извинение приводит к унылому и раздраженному спору о том, как, черт побери, упомянутая ошибка вообще могла возникнуть. Поэтому обо всех промашках надо сообщать заранее, прежде чем Бергман сам их заметит. Такая предпосылка может вызвать преждевременные сообщения об ошибках вроде нынешнего – от страха. Собственная Ингмарова проблема в подобных обстоятельствах, по-моему, состоит вот в чем: его отягощает огромное недоверие. В рабочих конфликтах такого рода он действует зачастую слишком поспешно, на пределе, пробуждающем это недоверие. Контрагент слаб и неуверен, мямлит, боится его косого, бдительного взгляда, страх же действует на Ингмара в точности как признание вины, словно совесть у человека вправду нечиста и ему есть что скрывать, – и Ингмара мгновенно захлестывает недоверие.
Шёман, конечно, указывает, что сам Бергман терпеть не мог подобные ситуации, но, если недоверчивость пробуждалась, он уже не мог ее “усыпить”.
Читатель узнаёт, что после тяжелого съемочного дня Бергман тосковал по телевизору и что он только что посмотрел американскую программу об Анголе, которую нашел скучной и пропагандистской: “Черные выскочили из джунглей, принялись жать американцам руки и кричать FREEDOM, FREEDOM[34]. Ой-ой-ой”.
Узнаёт, что, если бы “в раннем детстве с ним не носились как с писаной торбой”, он бы лучше переносил одиночество. Вдобавок ему казалось, что все женщины метят в мученицы, а самое интересное, пожалуй, его взгляд на верность: “В этом пункте я похож на женщину: чтобы загореться, мне необходима душевная составляющая, необходима возможность душевного обмена с партнером. Таких, с кем меня соединяло что-то иное, можно перечесть по пальцам одной руки. И в глубине души я верный, хотя никто этому не поверит. Собственно говоря, верность – моя суть: всем, к кому я так или иначе привязан, я храню верность”.
Возникает вопрос, до какой степени он сам верил в то, что говорил, и как все разные его женщины, читая книгу, реагировали на эти странные рассуждения. Кто попадал в какую категорию? Кому из них – Марианне фон Шанц, Карин Ланнбю, Эльсе Фишер, Эллен Лундстрём, Гюн Грут, Харриет Андерссон, Биби Андерссон, Кэби Ларетай, Лив Ульман, Ингрид фон Розен – он хранил верность по той единственной причине, что так или иначе к ней привязался?
Присутствие Вильгота Шёмана на съемках “Причастия” предполагало взаимное доверие. Чтобы иметь возможность свободно передвигаться и вести запись любых разговоров, он заверил ключевых персон, что даст им прочитать рукопись, прежде чем она уйдет в печать. Большинство сделали лишь замечания по поводу мелочей, которые Шёман мог легко поправить в корректуре.
В одном из несколько щекотливых разделов речь шла о том, как поступил Бергман, когда Гуннара Бьёрнстранда сразила во время съемок тяжелая мигрень. Вместо того чтобы отложить съемку, актер договорился с режиссером отыграть сцену, когда боль была сильнее всего. Добавочное напряжение на лице и мука в глазах обеспечат отличные крупные планы. А Бергману вовсе не хотелось, чтобы больного и несчастного пастора играл человек, выглядевший здоровым, бодрым и загорелым. Однако, оказывается, за этой внешне тривиальной ситуацией таилась маленькая драма, наглядный пример, что ради создания своих шедевров Бергман не останавливался перед манипулированием. Друг Бергмана, врач Стуре Хеландер, обследовал Бьёрнстранда, поставил диагноз и назначил режим: полный покой и тишина по окончании рабочего дня, ни капли спиртного, ни капли пива, не полуночничать и никаких сексуальных контактов с женой, Лилли Бьёрнстранд. В противном случае есть риск получить инсульт и провести остаток жизни в инвалидном кресле.
По словам Шёмана, актер заподозрил сговор – в смысле, что Бергман убедил Хеландера поставить более серьезный диагноз, чем на самом деле, чтобы привести его, Бьёрнстранда, в нужное для роли настроение. Актер был здорово напуган. Плохо спал и мучился страхом смерти. Но когда обратился к другому врачу, ему сразу же сказали, что показатели артериального давления значительно снизились. Поэтому можно уменьшить дозы лекарств и постепенно отказаться от назначенных таблеток.
Писал Вильгот Шёман и о том, как Бергман смотрел на актеров. Когда-то Шёман сказал итальянскому журналисту, что этот шведский режиссер превращает актеров в “подопытных кроликов”, и Бергман не возражал против такой оценки. Кроме того, он имел тенденцию относиться к актерам по-опекунски. “Те, кого это сильно задевает, могут испытывать затруднения”, – замечает в книге режиссер и рассказывает, что пользовался так называемой режиссерской позицией, “когда сидишь внизу, в темном партере, за режиссерским столом и смотришь на актеров. Некрасивое зрелище – спать там, запрокинув голову. А вот когда наклоняешь голову, они думают, ты читаешь сценарий”.
Шёман также писал, что в своих снах Бергман путал жену Кэби Ларетай и мать Карин и как сцены в пасторском доме и на вилле в Юрсхольме сливались в одно.
Прочитав рукопись, Бергман написал автору письмо:
Дорогой Вильгот! Лучше напишу тебе сразу, пока я еще так взволнован, потрясен и доволен. Если постараться не болтать ерунду и не прятаться за кулисами гордыни, для меня это полезный урок. Прежде всего я имею в виду то, как я обращался с Гуннаром Бьёрнстрандом. Мне вправду стыдно, и по заслугам, и, разумеется, этот эпизод должен остаться в книге. Но каким же я был идиотом, что ни черта, ни черта не понимал. Это злит меня и по-человечески, и профессионально. Но я, пожалуй, попробую все уладить – если получится. Бедняга Гуннар. Ужасно жалко его. И ведь я ничего не замечал. Не знаю, помогло бы или нет, если б ты мне что-нибудь сказал, все-таки вряд ли. […] В книге есть абзац насчет моего презрения к актерам. Это очень щекотливый момент, с тех пор как я сделался шефом Драматического театра и постоянно твержу об актерском благоденствии и моральных правах. Нельзя ли снять этот абзац или смягчить? Иначе мне придется трудновато, ведь нет уверенности, что, когда актеры становятся подозрительными и кислыми, достаточно сказать “Так было тогда!”. Меня же считают ДРУГОМ АКТЕРОВ. И в принципе это верно. Или? Пожалуй, ты подходишь к правде настолько близко, насколько вообще возможно в этой книге. Со своей стороны я ничего возразить не могу, хотя краснею, когда ты рассказываешь о моих снах про маму и Кэби. Они здесь вполне на месте, и все же неловко видеть это написанным черным по белому. […] Кстати, как ты себя чувствуешь? Мы по-прежнему любим друг друга? Во всяком случае, я тебя люблю, потому что нуждаюсь в тебе почти что как в сексе. Или ты теперь вроде как покончил со мной? Я бы не удивился. Милый ты мой. Не бойся сказать прямо, если так. Ты все равно будешь ставить “Бодиль” в Драматическом.