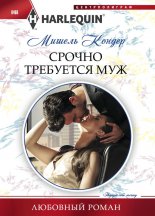Историко-политические заметки: народ, страна, реформы Явлинский Григорий
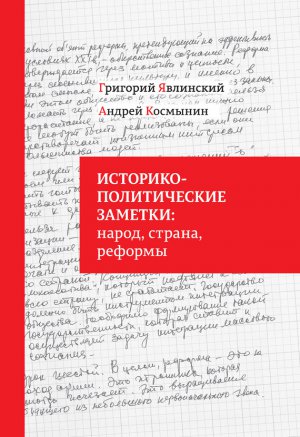
антизападники;
антилибералы;
националисты;
клерикалы.
По социальному составу:
силовики, ВПК;
левые партии и политики;
националистические организации, включая молодежные;
инертные слои населения;
политики-сюзники по Таможенному союзу, в этот круг входили Янукович и его окружение, в него входят лидеры среднеазиатских государств.
На поддержку Путина и его курса внутри властвующей группировки могут быть направлены:
новые приватизационные проекты (Большая Москва и др.);
легализация капиталов тех, кто послушен (один из показателей послушания – возврат средствиз-за рубежа);
показательное наказание за коррупцию нелояльных членов группировки;
изъятие капиталов у нелояльных.
viii Власть и церковь
Положение дел в начале постсоветского периода
В 90-е годы демократически настроенная часть элиты испытывала комплекс вины перед Церковью за притеснения советского периода. Отсюда следовало возвращение имущества, финансирование строительства храмов, а также пиетет. Характерно, что Ельцин наградил Алексия II рядом высших орденов, но Алексий не дал ему ни одной награды.
К нулевым годам такой тип отношений себя исчерпал – государство «загладило» свою вину и как бы закончило выплачивать свои долги. В обществе к этому времени закончился период массового притока в храмы и сформировалось несколько типов отношения к Церкви.
1. Церковь при всех ее недостатках – институт, направленный на сохранение внутренней свободы человека от диктаторов; она препятствует обожествлению политиков, противостоит культу личности. (Точка зрения меньшинства верующих-либералов, типа покойного отца А. Меня.)
2. Важна вера в Бога. Церковь же – чисто земной институт, не заслуживающий особого доверия. (Точка зрения, особенно распространенная среди интеллигенции.)
3. Церковь – это своего рода психотерапевт. Мы обращаемся к ней, когда нам плохо. В остальное время мы о ней не думаем. Наверное, это плохо, но так уж получается. (Точка зрения большинства населения; своего рода атеизм с примесью суеверия.)
4. Церковь – важнейшая часть русской идеи: «царь – православие – национализм – исконно русские традиции». Если Президент проводит определенную политику, можно считать его полуцарем, духовным вождем. (Точка зрения реакционеров «прохановского» типа.)
Элита сознательно сделала ставку на четвертый тип. Его сторонники получают право говорить и действовать от имени Церкви и от имени верующих.
Одновременно у светской власти формировалось отношение к Церкви по принципу «территориализма и государственной церковности». Интересно, что этот подход уходит корнями не в русскую, а в западноевропейскую модель, только очень устаревшую.
В принятом на рубеже веков и действующем сейчас документе РПЦ об этом говорится следующим образом: «В странах, где победила Реформация, а затем и в некоторых католических странах в государственно-церковных взаимоотношениях установился принцип территориализма, суть которого заключается в полном государственном суверенитете на соответствующей территории, в том числе и над находящимися на ней религиозными общинами. Девизом этой системы взаимоотношений стали слова cujus est regio, illius est religio (чья власть, того и религия).
При последовательном осуществлении данная система подразумевает удаление из государства приверженцев вероисповедания, отличного от разделяемого носителями высшей государственной власти (это не раз осуществлялось на практике)»[41].
В России принцип «чья власть, того и религия» осуществляется в наше время под предлогом возвращения к традиционным ценностям, хотя – как видим – и «территориализм», и концепция корпоративного государства как раз являются самыми грубыми примерами, как чуждые модели механически переносятся на российскую почву (то, в чем обычно обвиняют либералов).
Сегодня
Для понимания сути взаимоотношений между светской номенклатурой и РПЦ важно опровергнуть советский миф, будто отделение церкви от государства было произведено революционерами с целью оградить народ от религиозного влияния. На самом деле в России сама церковь первой поставила вопрос о своей независимости от государства.
Справка. 29 апреля 1917 года Святейший Правительствующий Синод заявил: «Происшедший у нас государственный переворот, в корне изменивший нашу общественную и государственную жизнь, обеспечил и Церкви возможность и право свободного устроения».
Осенью 1917 года Поместный собор Православной церкви одобрил постановление «О правовом положении Российской Православной Церкви». Этот документ, в частности, устанавливал следующее: «Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными Церквами независима от государственной власти и, руководясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управления и суда правами самоопределения и самоуправления».
Справедливости ради надо признать, что Позиция РПЦ в то время еще была половинчатой. Говоря о своей независимости, Церковь продолжала, например, настаивать, чтобы первые лица государства обязательно принадлежали к православной конфессии. Но важно, что первый шаг в сторону разграничения полномочий светской и духовной власти сделала именно Церковь.
В феврале 1918 г. Совнарком принял «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви». Этот закон был таким же обманом, как обещания раздать землю крестьянам и отдать фабрики рабочим. На самом деле данный декрет ставил Церковь (и не только РПЦ, но любые объединения верующих) в полную зависимость от государства. Ей запрещалось иметь статус юридического лица и владеть собственностью. Фактически, это означало, что верующие не могут сделать ни одного шага без разрешения большевистской власти.
В настоящее время, после короткой оттепели 90-х гг., власть снова взяла курс на подчинение Церкви. В корпоративном государстве Церковь по определению не может быть независимой.
Стоит напомнить, что при покойном Патриархе Алексии II Церковь практически ежегодно принимала документы, целью которых было не допустить втягивания РПЦ в политическую борьбу, не допустить ее использования властью как инструмента влияния.
Справка. В 2005 г. принимаются «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В документе говорится: «Невозможно участие церковного Священноначалия и священнослужителей, а следовательно, и церковной Полноты, в деятельности политических организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная поддержка участвующих в выборах политических организаций или отдельных кандидатов, агитация и так далее».
В данном документе давалось пояснение: общецерковная поддержка различных «политических доктрин, взглядов, организаций и деятелей» полезна лишь в условиях антирелигиозных гонений, но когда она происходит под давлением государства или политических структур, результатом становятся «разделения и противоречия внутри Церкви, отход от нее части нетвердых в вере людей».
Патриарх Алексий был прав; именно это произошло теперь.
В 2008 г. Архиерейский Собор вновь заявил, что взаимодействие Церкви с политическими партиями не должно носить характера политической поддержки.
В 2009 г. Архиерейский Собор подчеркнул «непредпочтительность для Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин, каких-либо конкретных общественных сил и их деятелей, в том числе находящихся у власти».
Можно констатировать, что правящая элита-номенклатура не только показала себя идейным противником курса прежнего Патриарха, но и произвела ревизию достижений Февральской революции 1917 г. в плане свободы Церкви.
ix В сущности, Путин относится к ликвидации Асада точно так же негативно (и по тем же причинам), как ельцинское правительство относилось к ликвидации Милошевича, хотя никакой вражды с Западом в 1999 г. не было.
Путин очень боится, что Запад разыграет против России югославский вариант, где он сам будет в роли Милошевича. Он считает, что только военная сила дает гарантию против этого. Но западные военные технологии быстро развиваются, т. к. западная экономика позволяет это. Путин пытается компенсировать это огромными расходами, которые не соответствуют возможностям российской экономики, и построением протофашистского государства.
Глава 2
История против мифа, ил Какой мы народ
Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.
Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, – эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, – этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.
Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.
Л.Н. Толстой, «Война и мир»
Азъ бо есмъ, княже господине, Аки трава блещена, растяще на застении, На нюже ни солнце сиаетъ, ни дождь идет;
Тако и азъ всемъ обидимъ есмъ, Зане ограженъ есмъ страхом грозы твоеа, Яко плотомъ твердым.
Слово Даниила Заточника[42]
Итак. Заглавным звуком в засилье застойного затишья боярского застолья ворвался грозный стук топора, которым Пётр рубил окно в Европу.
– Где рубил?
– В стене!
– В какой?
– В какой стене можно рубить топором?!… Конечно, в деревянной!
– И прорубил?
– Прорубил!
– Продолжаем! – Но боярское засилье застойного застолья, имевшее точку отпора в лице Петра Алексеевича…
– А дверь прорубил?
– Нет!
– Так значит они в окно и лазят?
– Кто?
– Ну, петровцы…
Самая сухая лекция из радиопостановки по книге Л. Кэррола «Алиса в стране чудес»[43]
История
Связь отечественной ментальности и реформ, необходимых России, – старая тема. Соответствие или несоответствие политических идей, лозунгов, действий «культурному коду», «национальному характеру», «русской душе» обсуждается самым широким кругом заинтересованных людей от философов до обывателей. Однако исследовательские работы, представляющие собой попытки именно изучения влияния ментальности на социально-политическую действительность, немногочисленны и, как правило, демонстрируют стремление разобраться в происходящем средствами какой-то одной научной дисциплины – истории, социологии, культурологии.
Прежде всего, отметим фундаментальный труд Бориса Миронова «Социальная история России периода империи», в котором прослеживается развитие российского общества в XVIII – начале XX вв. во всей полноте его многообразия. Обилие фактического и статистического материала, скрупулезное внимание к различным социальным группам – ключевые достоинства этой работы. Очень важно подробное обоснование вывода о последовательном развитии гражданского общества и правового государства на протяжении всего имперского периода отечественной истории. В то же время, нам представляется, что автор недооценил модернизационный потенциал российского общества рубежа XIX–XX вв. и преувеличил значение проблемы «небуржуазности» общественного сознания как препятствия модернизации и причины катастрофического срыва 1917 г.[44].
Важные наблюдения об особенностях формирования русского государства и политического мышления в пору создания московского государства содержит книга Т. Черниковой[45].
Аргументы, позволяющие преодолеть устойчивые стереотипы, в частности, широко распространенный взгляд на политические и экономические преобразования в России как череду реформаторских всплесков, результаты которых нивелируются контрреформами, приведены в работах А. Каменского[46] и А. Медушевского[47].
Вклад в исторический аспект изучения нашей темы вносят работы Александра Янова, который прослеживает развитие либеральной традиции в отечественной истории.
Правда, и ему свойственно жесткое противопоставление «традиционного» и «европейского» в отечественной истории и культуре, представление о модернизации как разрушении традиции или, по крайней мере, ее существенной части[48].
Говоря о западных исследователях, конечно, следует упомянуть работы Р. Пайпса и выдвинутую им гипотезу о вотчинной природе московского государства[49]. Мы ее не разделяем и вернемся к этому вопросу в дальнейшем, но отдельные наблюдения исследователя очень точны.
Социологический взгляд представлен работами Ю. Левады, Л. Гудкова, Б. Дубина, А. Левинсона. Для него характерно рассмотрение современного российского общества как общества потребления, которое хочет жить «как на Западе», но еще «не доросло» до органичного восприятия ценностей свободы и демократии, свойственного западному обществу. При этом среди специфических черт, присущих советскому и недалеко от него ушедшему постсоветскому человеку, называются: массовидность, усредненность, склонность к приспособленчеству, неуверенность в себе в сочетании с комплексом исключительности, двоемыслие, несамостоятельность…[50].
Социолог Борис Дубин: «…Преобладающая часть населения – до 60 % – не против свободы. Особого желания отправиться в лагерь или в казарму вроде бы нет. И все-таки свобода для наших соотечественников – не главное, а главное – порядок, стабильность, регулярная и постоянно повышающаяся зарплата и пенсия, чувство собственной защищенности. Связь между всем этим и свободой не просматривается. Ноу-хау развитых обществ – соединение идей самостоятельности, солидарности, свободы и соревнования – у нас не привилось. У нас все это порознь, а главное – пусть все будет как есть»[51].
Культурологический взгляд на российское общество и общественное сознание представлен работами и идеями А. Ахиезера, которые он вынашивал еще в советское время и представил на публичное обсуждение в конце 80-х – начале 90-х гг.[52]. Изначально в центре концепции А. Ахиезера стояло противопоставление инверсии (упрощения, применения простых решений к сложным проблемам) и медиации (адекватные решения сложных проблем).
К сожалению, современные последователи А. Ахиезера уходят от оригинальных идей, сводя проблему трансформации общественного сознания в современной России к переходу от иррационального к рациональному[53] и приходя к выводу о необходимости радикального избавления от ключевых элементов традиционного «культурного кода».
Как уже осуществленную перспективную попытку комплексного подхода к проблеме российской политической ментальности отметим работу В. Розова «Колея и перевал». Хотя выводы автора, на наш взгляд, вызывают вопросы, разработанный им исследовательский инструментарий можно использовать и в дальнейшем[54].
Универсальная проблема, характерная для работ различных направлений – отнесение к специфическим чертам отечественной ментальности, препятствующим модернизации, универсальных характеристик. Например, очень ярко и, на первый взгляд, убедительно, выглядит реконструкция национального характера на основе русских сказок, пословиц и другого фольклорного материала[55]. Однако ценность сделанных выводов резко снижается, если учитывать, что сказки в принципе восходят к первобытному, родовому сознанию. Во-первых, они содержат общие для различных народов сюжеты, образы и прочие элементы. Во-вторых, прямолинейная трактовка этих элементов может оказаться весьма спорной, приводящей к ложным выводам[56].
Проблема недостаточности разграничения универсальных характеристик и национальной специфики характерна и для работ социологов. Например, крайне интересны наблюдения особенностей советского и постсоветского человека, начатые Ю. Левадой и продолженные Л. Гудковым, однако без подробного сравнения, например, с «восточноевропейским» («восточно-германским», «иберийским» и т. д.) человеком трудно говорить о том, являются ли выявленные «антимодернизационные» черты, которые мы упоминали выше, уникальными, характеризующими отечественный менталитет или типическими для «массового человека», весьма неприятный образ которого нарисовал Ортега-и-Гассет.
Еще один распространенный подход – противопоставление традиционного российского сознания и «буржуазного сознания», в большинстве случаев отождествляемого с сознанием протестантским. Неизменный вывод – о небуржуазности или недостаточной буржуазности традиционного сознания как препятствии для модернизации.
Между тем, сравнение русского общества и общественного сознания с англо-американским (как образцом буржуазности) – это упражнение с заранее известным результатом: Россия, конечно, не Америка и не Англия, а православие – не протестантизм, конвертировать одно в друге можно только жесткой ломкой, которая вызовет неизбежное сопротивление.
При этом из поля зрения исследователей уходят другие европейские общества (французское, немецкое, итальянское, испанское и т. д.), степень «буржуазности» сознания и пути модернизации которых варьируются в весьма широких пределах.
Здесь-то как раз и возникают самые интересные и важные вопросы – возможность эволюции сознания, сочетание традиции и модерна, возможность приспособления традиции к новым реалиям и самое главное – так ли уж необходима для создания современного общества «ломка», жесткий и решительный отказ от традиции в целом.
Особенности формирования государства
Наше государство родственно европейским христианским государствам, сформировавшимся во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Это государства молодых народов, варваров с точки зрения Рима и Константинополя, которые, однако, стали новыми творцами европейской истории. Конечно, различий изначально было много, и существенных, в частности, славянские земли не впитали правовое наследие Рима. И все же, христианство – это родство, которое трудно переоценить. Что же касается политического наследия Византии, то, во-первых, собственно политические контакты с ней у русских земель были эпизодическими. Во-вторых, саму византийскую политику неправильно жестко противопоставлять западноевропейской (там, мол, восточный мистицизм и подковерное коварство, здесь – западный рационализм и законы). Средневековье и на Западе было средневековьем с присущими ему особенностями политического и не только политического мышления.
При этом есть основания говорить о существовании «русской системы» – особенностях устройства государства и общества и их взаимоотношений (политики), уходящих корнями далеко в глубь российской истории.
В разговоре о происхождении «русской системы» мы предлагаем обратить внимание, прежде всего, на природно-географические факторы.
На наш взгляд, особое значение для формирования моделей поведения формирующейся государственной власти и потенциальных подданных русского государства имело наличие доступных свободных земель. Этот фактор позволял отвечать на проявления активности государства, попытки подчинения и контроля уходом.
Свободные земли – это возможность выбора между кровопролитной и жестокой борьбой с государством, властью за защиту своих прав, необходимых для жизни и производства, и переселением с целью продолжения жизни по своим законам.
Конечно, речь идет не столько о прямом буквальном воплощении схемы «ухода» (при появлении князя с дружиной свободное племя сразу же переселяется на новые земли), сколько о снижении политической (противоречия внутри правящего слоя) и социальной (противоречия между властью и народом) напряженности, возможности ухода от вынужденного постоянного и плотного взаимодействия с государем и государством.
«Уход» был альтернативой борьбы за приспособление государства к своим нуждам и, в конечном счете, постепенного его преобразования, в ходе которого на Западе выстраивалась общественно-политическая практика, основанная на договорных отношениях, создавались соответствующие законы, социальные, политические, правовые институты.
Появлению на Западе Великой хартии вольностей (Magna Carta)[57]предшествовала длительная и практически не прекращавшаяся социальная и политическая борьба на ограниченном природными условиями пространстве – острове. В географическом плане это полная противоположность Руси – обширной территории с условными и подвижными границами.
Значение территориального фактора для формирования социально-политического облика русского централизованного государства – не новость для отечественной историографии. В частности, к нему серьезно относится А.Н. Медушевский[58].
Мы считаем, что наличие свободных территорий было значимым фактором и на более ранних этапах, чем формирование московского централизованного государства.
На раннем этапе этот фактор усиливался специфическим характером варяжского государства, которое изначально формировалось вокруг торгового пути с Востока на Запад («из варяг в греки»), и именно торговлю, деньги, движимое имущество, а не землю, рассматривало как основную ценность и источник обогащения[59].
Мы также обращаем внимание на функциональный разрыв между народом-обществом и властью-государством.
Смысл этого разрыва не в расхождении между интересами государства и народа (оно для средневековья как раз естественно), а в недостаточности условий для развития механизма взаимного предъявления интересов, столкновения, «притирки» и, в конечном счете, согласования этих интересов. Вместо него выстраивается своего рода симбиоз народа-общества и власти-государства, который на этапе освоения обширного географического пространства оправдывает себя и даже может служить основой развития, но в дальнейшем становится фундаментом системных проблем.
В послеордынский период (XV–XVI вв.) существованию и закреплению схемы «ухода» способствовало освоение бывших ордынских территорий. Как отмечал В.О. Ключевский, в это время колонизация становится фактором русской истории.
Церковная реформа второй половины XVII в. и окончательное закрепощение крестьян в середине XVII–XVIII вв. стали стимулом к дальнейшему движению на окраины и за окраины государства. Возможно, именно механизм «ухода» лег в основу быстрого (в пределах столетия) «триумфального шествия» русских через пространства Сибири до Тихого океана.
Не стоит забывать и о казачестве, которое находилось в особых отношениях с государством и охотно принимало беглецов со всей страны.
«Переселенческая» идея с акцентом на уход от действующей власти сохраняется как одна из основных парадигм общинного сознания до конца существования общины[60]. По крайней мере с XVII и вплоть до начала XX вв. популярными в крестьянской среде остаются легенды о «далеких землях» со справедливым устройством жизни, противопоставляемым заведомо несправедливой реальности.
Самая известная из таких легенд – сказание о Беловодье, стране находящейся где-то глубоко в Сибири или «на островах» в «народной» стране, живущей по справедливости. Легенда существовала в различных вариантах, преобразовывалась, но жила до конца XIX в. При этом надо отметить, что Беловодье мыслилось не как аллегория, фантастическое фольклорное сказание, аналог сказочного «тридевятого царства», а как реальность. Существовали маршруты достижения Беловодья, в которых реальные географические наименования перемешивались с выдуманными, предпринимались физические попытки достичь этой страны.
Исследователь русских народных социальных утопий К. Чистов о «Беловодской» легенде, отраженной в тексте под названием «Путешественник» (своего рода путеводителе для желающих попасть в чудесную страну): «Путешественник» подтверждает, что жители Беловодья «в землю свою никого не пущают». Очевидно, речь идет вовсе не о том, к кому обращен «Путешественник» и кого он призывает разыскать чудесную страну. Беловодье запретно только для тех, кто хотел бы нарушить беловодские порядки и беловодское благополучие – царских чиновников, полицейских, судей, попов. Особенно кратко и выразительно формулируют свое отношение к общественному устройству Беловодья списки второй редакции «Путешественника»: «А тамо антихрист не может быть и не будет», т. е. не будет всего, что есть в России – царя, армии, помещиков, податей и поборов, паспортов и денег с «антихристовой печатью», никонианских попов и т. д. Более того, там вообще нет никакой светской власти, никакой государственной организации: «светского суда не имеют»[61].
Мы предполагаем, что русская крестьянская община, обладавшая рядом специфических черт, – это своеобразная социальная альтернатива географическому бегству.
Если (когда) бегство от государства в буквальном смысле становится затрудненным, то уход осуществляется в другой форме: окончательно формируется закрытая, самодостаточная общность, способная существовать на одном географическом, но в разных ментальных пространствах с государством.
Это совсем не означает, что община противостоит государству. Как и буквальное, физическое бегство, она не предполагает борьбы. Система стабилизируется – с одной стороны, защищает население от государства, с другой – помогает государству контролировать население.
Общины на момент образования централизованного Московского государства существовали во всех регионах, во всех владениях и на государственных землях.
«С самого начала государственной жизни России самоуправляющиеся общины, объединяющие крестьян одного или нескольких селений, объединяющие жителей части или целого города в общественный союз во имя интересов общего блага, составляли существенную и неотъемлемую часть общественного строя страны. Общины складывались стихийно и до XVI в. являлись неофициальными демократическими организациями крестьян и посадских людей… До XVIII в. почти каждая крестьянская община и те из посадских общин, которые занимались главным образом сельским хозяйством (а таких было большинство), являлись в значительной мере самодостаточными, они могли существовать почти автономно от внешнего мира»[62] – характеризует общину Б. Миронов.
Кроме того, автономность общины от внешнего мира подразумевает не только слабость вертикальной связи (община-государство), но и горизонтальных связей внутри общества. Многоукладность русского общества как в хозяйственно-экономическом, так и в социальном плане – черта, характерная для момента основания государства, продолжавшая существовать, несмотря на смену исторических эпох, и становившаяся серьезным затруднением для модернизации.
Вторая ключевая особенность «русской системы» – ее служилый характер, наличие и особая роль «служилого класса». «Служилый класс» – это больше чем административный аппарат, но это и не родовая аристократия, связанная с княжеской или царской властью вассально-сюзеренными отношениями. Это достаточно обширный слой населения, подчиненный правителю и призванный осуществлять функцию как внешней защиты, так и организации внутреннего управления.
Такой характер взаимоотношений между князем и его окружением проявляется в отечественной истории рано. Уже во второй половине XII в. в Северо-Западной Руси сложились общественные отношения, которые серьезно отличались от вассальносюзеренных. В этой системе слуга находится в полной зависимости от господина. Князь опирается не на дружину (где он первый среди равных), а тех, кто находится в полной зависимости от него. Наиболее яркий представитель модели – князь Андрей Боголюбский[63], который впервые назвал себя «царем и великим князем».
В.О. Ключевский об Андрее Боголюбском: «В первый раз Великий князь, названный отец для младшей братии, обращался не по-отечески и не по-братски со своими родичами… <…> В первый раз было произнесено в княжеской среде новое политическое слово «подручник», т. е. впервые была сделана попытка заменить неопределенные, полюбовные, родственные отношения князей по старшинству обязательным подчинением младших старшему, политическим их подданством, наряду с простыми людьми. Таков был ряд необычных явлений, обнаружившихся в отношениях Андрея Боголюбского к Южной Руси и другим князьям»[64].
Не только жизнь и дела, но и гибель князя Андрея историки считают знаковой: «Убийство князя приближенными – это придворный заговор, дворцовый переворот, что свидетельствует об усилении княжеской власти, приобретающей первые деспотические черты. При «нормальных» отношениях между князьями и вассалами недовольство князем приводит к его изгнанию. Невозможность изгнания провоцирует убийство. Тем самым эпизод сигнализирует о том, что на смену отношениям «князь – дружина» начинают приходить отношения «государь – подданные»… Соответственно начинаются изменения и в менталитете»[65].
Появление «служилой» модели отнюдь не означало ее исторически быстрого распространения или господства. Однако именно с ней близко политическое устройство централизованного московского государства, возникшего столетиями позже трагических событий в Боголюбове.
Существует распространенное мнение, что такие отношения – это безусловное, бездоговорное подчинение, лишенное рациональной основы и коренящееся в мировоззрении, принципиально отличающемся от западноевропейского неприятием самой идеи договора. Ю.М. Лотман характеризовал подобные отношения власти и подданных как модель «вручения себя»: «Понятие «государевой службы» подразумевало отсутствие условий между сторонами: с одной – подразумевалась безусловная и полная отдача себя, а с другой – милость. Понятие «службы» генетически восходило к психологии несвободных членов княжеского вотчинного аппарата. По мере того как росла роль этой лично зависимой от князя бюрократии, превращавшейся в бюрократию государственную, а также роль наемного войска князя, «воинников», психология княжеского двора делалась государственной психологией служивого люда»[66].
Близкое по духу, хотя и более рационально обоснованное объяснение «русской» системе предложил Р. Пайпс, разработавший теорию «вотчинного» государства, согласно которой князь, а затем царь виделся жителям Северо-Восточной Руси единственным собственником всей земли, входившей в состав государства[67].
Исторический выбор в пользу служилой системы вместо вассально-сюзеренной также связывается с ордынским игом – сначала с монголо-татарским «внешним» управлением русским землями, которое навязывало модель безусловного подчинения хану и устанавливало властную «вертикаль», а затем с необходимостью противостояния той же Орде. Именно эта необходимость становится основой форсированной централизации[68].
Мы считаем, что все эти факторы в той или иной степени значимы, но первоосновой «служилой» системы был все тот же территориальный фактор и непосредственно с ним связанная модель «разрыва-ухода».
Модель «разрыва-ухода» согласует интересы народа и государства лишь в самом общем плане, но она не может быть основой для складывания устойчивой структуры, системы взаимосвязанных и взаимозависимых институтов. Между тем, централизованное государство не может «висеть в воздухе». Социальная структура и социальные отношения, которые не сложились естественным образом, через долговременное взаимодействие, на договорно-правовой основе, утверждаются «сверху».
А.Н. Медушевский: «На Западе отсутствие свободных пространств и высокая плотность населения сильнее обостряют социальные противоречия, что ведет к большей консолидации сословий и ускоряет законодательное укрепление сословных и личных прав. В России в период складывания централизованного государства, напротив, острота социальной конфронтации длительное время снижалась за счет оттока населения на окраины… Развитие социальных отношений на больших пространствах и систематический отток населения до известной степени замедляет рост социальной напряженности, видоизменяет формы ее проявления… В этих условиях государство активно вмешивается в процесс формирования и законодательного регулирования сословий с целью обеспечения консенсуса, рационального функционирования всей системы. Решение проблемы было найдено в создании особой служебной системы, при которой каждый слой общества (сословие) имел право на существование лишь постольку, поскольку нес определенный круг повинностей»[69].
При этом необходимым элементом системы, в которой, в принципе, на службе у государства оказываются все подданные, становится особый социальный слой, на который государство опирается прежде всего и для которого служба становится основной функцией.
В основе отношений этого слоя с властью не отсутствие договора, а его своеобразное воплощение. Этот договор скорее похож на армейский контракт, в котором готовность служить и безоговорочно подчиняться обменивается не на абстрактную «милость», а на вполне осязаемые и поддающиеся рациональной оценке блага. На раннем этапе это, прежде всего, гарантированные защита и материальное обеспечение со стороны власти.
Тем, кто составил основу «служилого слоя» формировавшегося московского централизованного государства в XIV в., «социальный контракт» с центральной властью приносил вполне конкретную выгоду – поместья. В XV в. происходит перестройка земельных отношений, в результате которых основой землевладения становится не наследственная вотчина, а поместье, выделяемое казной за службу.
Р.Г. Скрынников: «Московские самодержцы не обладали достаточной властью, чтобы насильно навязать знати и дворянству принцип обязательной службы «с земли». Подобно западным суверенам они не могли обойтись без «общественного договора». Почвой для договора послужила насильственная и быстрая перестройка системы земельной собственности, принесшая огромные выгоды московскому дворянству. Веками на Руси господствовала вотчина, обеспечивавшая старому боярству известную независимость по отношению к государю… При обилии земель сложился порядок, при котором казна стала наделять поместьями детей и внуков дворян, едва они достигали совершеннолетия и поступали на службу… Суть общественного договора состояла в том, что казна взяла на себя обязательство обеспечивать дворян необходимой для службы землей. В свою очередь дворяне согласились на обязательную службу»[70].
В отношении населения, не входившего в «служилый слой», договорная составляющая не столь очевидна, и именно поэтому повинности, которыми каждый социальный слой обязан государству, при отсутствии понятной платы воспринимаются негативно, как неизбежное зло.
Представление о том, что Земля Божья, царь служит Богу, а народ – царю при всей своей внешней стройности содержит важную ошибку. Оно описывает отношения Бога-царя-народа на западноевропейский (точнее даже, французский) манер, как вассальносюзеренные. Однако на эти отношения нераспространим принцип «вассал моего вассала – не мой вассал». Народ в собственных представлениях о себе, становясь «слугой царю», не престает быть слугой божиим напрямую, без царского посредничества. Поэтому наряду с моделью Бог-царь-народ в народном сознании традиционно присутствует модель Бог-народное представительство-народ. Конечно, размытое и мифологизированное понятие о народном представительстве далеко от идеи парламента или парламентской демократии, но жестко увязывать русскую политическую традицию с царизмом тоже неверно.
Еще один значимый фактор, определявший политический облик русского государства и политическую психологию его подданных – религиозный. Христианство пришло в русские земли из Византии. Византия – часть и наследница Римской империи, хранитель и транслятор как античного наследия, так и христианской традиции.
То, что Киевская Русь приняла христианство именно через посредство Византии, можно объяснять многими причинами. Мы скажем только, что это было вполне обоснованно географически.
Однако политически такой шаг повлек долговременные последствия, выходящие далеко за пределы прагматических расчетов конца X века. Распространение христианства в русских землях, его проникновение в глубь национального сознания, соединение с более древними пластами религиозного сознания, наконец, превращение в один из ключевых элементов национальной самоидентификации, в историческом времени совпадало со всё углублявшимся расколом христианства. Католический римский мир и Византия расходились всё дальше.
Жак Ле Гоф, характеризуя ментальность средневекового европейца, отмечает: «Реальностью был христианский мир. Именно применительно к нему средневековый христианин определял и всё остальное человечество, и свое место по отношению к нему. И прежде всего свое отношение к византийцу. С 1054 г. Византиец считался еретиком… Те и другие не понимали больше друг друга, особенно западные люди, из которых даже самые ученые не знали греческого языка. Это непонимание мало-помалу переросло в ненависть, дочь невежества»[71].
Отчуждение между католическим Западом и Византией, росшее с 1054 г., достигло пика к началу XIII в. В 1204 г. крестоносцы взяли штурмом и разграбили Константинополь.
В то же время население русских земель, весьма далекое от Священной Империи как географически и политически (здесь как раз настоящим соседом Византии была Западная Европа), так и по образу жизни и мысли, идентифицировало себя с православием. Православие было одним из ключевых, а может быть, и просто ключевым фактором, объединявшим жителей политически разрозненных городов и княжеств в культурно-историческую общность.
Таким образом, в конкретно-исторических условиях формировался барьер между православной Русью и католической Европой, который надолго пережил ситуацию своего возникновения.
При этом упадок Византии способствовал формированию идеи о русских землях как последнем оплоте православия и русском царе как наследнике христианских императоров.
Идея уникального положения и уникальной миссии «Святой Руси» в мире стала одной из основ идеологии централизованного русского государства. Ее значимость возрастала после заключения Флорентийской унии (1439 г.)[72] и падения Константинополя (1453 г.).
Таким образом, национальная самоидентификация через православие способствовала объединению и созданию централизованного государства и в то же время выделяла это государство в особый мир, в котором религиозное, национальное, государственное переплеталось и сливалось.
Собственно, католический Запад также ограничивал христианский мир зоной своего влияния, а Московская Русь выглядела для него таким же чужим, странным, непонятным миром[73].
Существенная разница в том, что Запад, не связывал религиозное единство с одним государством. В русско-московской же части Европы пересечение государственной границы стало восприниматься как нечто экстраординарное. Е. Анисимов, анализируя феномен «измены» в московской Руси, отмечает: «… На всякий переход границы без разрешения государя, на любую связь с иностранцами смотрели как на измену, преступление. При этом было неважно, что эти действия могли не вредить безопасности страны и не наносить ущерба власти государя. Сам переход границы был преступлением. Заграница была «нечистым», «поганым» пространством, где жили «магометане, паписты и люторы», одинаково враждебные единственному истинно-христианскому государству – Святой Руси»[74].
Новое русское время (XVI–XVIII вв.)
Ни своеобразие социально-политической практики, ни религиозные различия не отделяли территорию русского государства от общеевропейских социально-политических процессов.
Московская Русь находилась не только в постоянно военно-политическом взаимодействии с Западной Европой (такое взаимодействие было и с Крымским ханством), но переживала «тектонические сдвиги», определявшие движение европейской цивилизации.
Хозяйственная отсталость, особый характер государства, о котором говорилось в предыдущей части, не соответствуют европейскому Новому времени. Однако изменения, происходившие в сознании, очевидны, так же как и попытки осознать «вызовы времени». Средневековое сознание просто не смогло бы справиться со Смутой. К тому же, «европеизация» России как технико-технологическое заимствование и приглашение иностранных специалистов – процесс, который насчитывает несколько веков до петровских реформ, сделавших формально европейским внешний облик российского государства и части его подданных[75].
При этом как в массовом сознании, так и в государственном мышлении, сохраняется масса средневековых черт, но это общеевропейская характеристика. Жак Ле Гофф в предисловии к русскому изданию своего труда о цивилизации европейского средневековья, отмечал:
«Сегодня я настаивал бы на расширении временных рамок, на «долгом» Средневековье, охватывающем эпоху, начинающуюся со II–III столетия поздней Античности (о которой так и не был написан том, предусмотренный планом серии) и не завершающуюся Ренессансом (XV–XVI вв.), связь которого с Новым временем, на мой взгляд, преувеличена. Средневековье длилось, по существу, до XVIII в., постепенно изживая себя перед лицом Французской революции, промышленного переворота XIX в. и великих перемен века двадцатого. Мы живем среди последних материальных и интеллектуальных остатков Средневековья»[76].
Трансформация сознания вообще и политического мышления от Средневековья к Новому времени – не привнесенная извне идея, а объективно обусловленный переход, в целом совпадающий с подобными процессами в Европе.
Как только Московское государство с присоединением Казанского и Астраханского ханств выполнило миссию «собирания земель», оно столкнулось с системным внутренним кризисом, кризисом управления. Отсутствие опыта столкновения-согласования интересов между государством и сословиями, фактическая дистанцированность государства от народа обусловили неустойчивость власти, вынужденной постоянно искать (и в большинстве случаев не находить) точки опоры.
Здесь надо заметить, что рост личной власти самодержца не синонимичен укреплению государства. Государство – это институты. В случае с русским государством XVI – начала XVII в. мы имеем дело не с завершением строительства деспотически-самодержавной государственной системы, а с проявлением кризиса государственности. Опричнина Ивана Грозного – не просто порождение худших черт личности государя и параноидальной боязни своего окружения, не каприз деспота. Это попытка форсированного выстраивания системы управления, одновременно компенсирующей разрыв и защищающей «одинокого» государя в отсутствие институтов, на которые он мог бы опереться. Для элиты и народа эта политически наивная попытка справиться с новыми вызовами созданием чего-то вроде средневековой дружины, была трагической, для государства – разрушительной. Именно опричная катастрофа, а не последовавшее пресечение династии, стали главной предпосылкой Смуты начала XVII в.
Фундаментальная же ее причина – кризис средневекового государства и соответствовавшего ему политического мышления. Смута была не противостоянием сословий, классов, старого и нового, архаичных и модернизационных идей. Ее суть – распад, атомизация, хаос. Гражданское противостояние затронуло все группы общества. При этом власть фактически оказалась оторванной от страны, лишенной опоры. Наглядным проявлением кризиса государства стал феномен самозванства, тесно связанный с распространением в конце XVI–XVII вв. народных утопических легенд о лидере-избавителе[77]. Это, на наш взгляд, не что иное, как реакция общественного сознания на разрыв между обществом и государством.
Страну спасла консолидация общества, которое нашло в себе силы заполнить разрыв между властью и народом.
Кроме установления новой, легитимной династии и относительной стабилизации власти[78] в Московском царстве XVII в. происходят процессы, свидетельствующие о развитии общества и государства: формирование сословий, их формализация, юридическое закрепление прав (в Соборном Уложении 1649 г.). Существовавшие социальные группы приобретали новое качество, консолидировались, шел процесс самопознания и самоосознания, в том числе осознания своих интересов и прав.
По мере стабилизации ситуации в стране после Смуты началось осмысление пережитого, в котором, помимо свойственной средневековому сознанию идеи о национальном бедствии как наказании за грехи, появляется рациональное осмысление социально-политических причин катастрофы.
Появляются публицистические и социально-философские сочинения, принципиально отличающиеся от средневековых текстов. Сочинения Авраамия Палицына, Ивана Тимофеева, Ивана Хворостинина, Семёна Шаховского – попытки осмыслить события Смутного времени, извлечь уроки. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» – аутентичное, возникшее на русской почве принципиально новое сочинение, сосредоточенное на размышлениях о судьбе страны и конкретных людей в период перемен.
Исследователь отмечает: «В самосознании русского общества XVII в. под влиянием событий смутного времени, когда широкие народные массы принимали активное участие в решении судеб страны, человек стал рассматриваться как самостоятельная природная и общественная единица. Появляется осознание человека как личности… <…> Из области сакральной (грех, греховность) причины Смуты стали искаться в области ментальной (а затем и социальной): истинная причина всех бед, постигших Россию, оказывается крылась в слабости общественной инициативы, в социальном равнодушии, когда люди стали думать не о государстве и его судьбе, а «мысляще лукавне о себе»[79].
В середине XVII в. появляются интеллектуальные центры осмысления прошлого и будущего государства и народа. Одним из таких сообществ был «кружок ревнителей древнего благочестия», в который входили будущие участники драмы церковного раскола. Несмотря на название, его участники были устремлены не в прошлое, а в будущее. Ими двигало осознание необходимости кардинального пересмотра образа жизни, выхода к какому-то новому качеству.
Религиозная по преимуществу форма, которую имели реформаторские искания, не должна вводить в заблуждение. «Религиозное» отнюдь не синоним «средневекового». В Европе трансформационные процессы также принимали религиозную форму.
В то же время в середине и во второй половине XVIII в. Московская Русь переживает приток культурно-интеллектуальных новшеств из Южной Руси (с территории Украины): от новой манеры церковного пения (партесное пение) до западноевропейского подхода к научному знанию и образованию. В 1687 г. в Московском царстве было открыто первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия.
Новшества, к которым Россия примерялась – это и другая модель социальных отношений, предполагавшая большую самостоятельность сословий. При этом не обязательным и даже проблематичным выглядело совпадение социально-политической трансформации с культурной или военно-технической.
Вообще, противопоставление следования за Западом и сохранения самобытности как двух расходящихся путей – очень серьезное упрощение, на грани отрыва от исторической реальности. Для России XVI–XVII вв. речь шла не о столкновении с совершенно чуждой, но более прогрессивной цивилизацией, создающей внешнюю угрозу, становящуюся главным стимулом внутренних перемен. Еще раз повторим – постановка вопроса о пути развития страны и государства, поиск ответа на него, осознание необходимости перемен – эндогенные процессы. Так как раньше нельзя было жить и управлять, прежде всего, по внутренним причинам.
Автор исследования по истории политики, образа мышления и жизни верхушки русского государства в конце XVII в. П. Седов отмечает: «Фёдор Алексеевич[80] и его окружение готовы были дать сословиям «слободины», но с опаской приглядывались к короткому иноземному кафтану и европейской науке, при этом восприятие иноземных новшеств не подразумевало резкого отказа от московской «старины». Возможно, такой путь не был слишком эффективным в военном и политическом отношении, что само по себе не означает невозможности его реализации. Пётр I, напротив, решительно резал длиннополые кафтаны и бороды, посылал учиться за границу, но считал, что сословные вольности западных стран неприменимы к России «как к стене горох». Усиление церковной иерархии при Фёдоре Алексеевиче вело к укреплению сословных прав духовенства, но стесняло заимствования в области культуры. Ликвидация патриаршества превратила церковь в часть государственной машины, зато позволила провести решительную европеизацию»[81].
Исследователь также замечает, что попытки ограничения самодержавной власти, предпринимавшиеся в XVIII в., их современниками оценивались как возвращение к некогда существовавшему, но нереализованному потенциалу социальных перемен: «затейка верховников» в 1730 году[82], панинский проект ограничения самодержавия при Екатерине II, конституционные проекты Александра I можно представить как высохшее русло реки, по которому так и не пошло развитие государственного строя в России»[83].
В качестве же одной из ключевых причин того, что развитие страны пошло так, а не иначе, П. Седов указывает разобщенность сословий, прежде всего то, что «связанная со двором верхушка была оторвана от менее привилегированных низов»[84].
Вопрос о том, насколько реальной была социальная эволюция Московской Руси, требует особого исследования, прежде всего, конкретно-исторического[85]. Нам же представляется крайне важным обратить внимание на эволюционный потенциал государства и общества.
Этот потенциал существовал, но не был реализован. Переход в поиске нового качества от мыслей к действиям обернулся новыми серьезными потрясениями.
Крупнейшим общегосударственным событием второй половины XVII в. стала церковная реформа, породившая раскол.
Сама реформа отражала не мнение и интересы сколько-нибудь значимой части общества, а представление о необходимых переменах царя, патриарха и части их окружения. Это – не случайность, причина которой – личности царя и патриарха, а закономерное следствие феномена разрыва.
Такой же была модель петровских реформ. Конечно преобразования были масштабнее, затрагивали больше сфер жизни, были ориентированы на Европу и европейскую политику (то есть на тот момент – на объективный центр мировой политики и экономики) и более соответствовали объективным потребностям времени. Однако проблема связи власти и ее планов со страной от этого не становилась меньше.
Специфика общественной реакции – мощное и затронувшее все слои общества выступление против форсировано осуществлявшейся «сверху» церковной реформы «вылилось» в реакцию ухода – как буквального, в труднодоступные места, так и в иной мир.
Преобразования XVII–XVIII вв. от церковной реформы до петровских реформ и резко негативную реакцию на них значительной части населения часто описывают с диаметрально противоположных точек зрения:
как попытку прорыва к новому качеству, вызвавшую «всплеск архаики», при этом деспотический характер жизненно необходимых реформ был практически неизбежным в отсталой стране[86];
как столкновение общества и государства, в котором главным проявлением архаики был деспотический характер действий государства по отношению к населению, к обществу[87].
На наш взгляд, ключевая проблема как раз в том, что реформы, качественные изменения, направленные на приведение государства и общества в состояние, адекватное потребностям времени, не преодолевали исторически сложившийся «разрыв».
Мы не можем «задним числом» требовать от политиков, живших и действовавших 300 лет назад, осознания и постановки задачи социальной и институциональной модернизации. Однако мы можем говорить о значимости этой задачи и влиянии на развитие страны того факта, что она так и не была решена.
Самое главное – реформы Нового времени в том виде, в котором они были проведены, обеспечили целый ряд изменений, необходимых для продолжения существования общества и государства в условиях европейского Нового времени, но не преодолели и даже закрепили «разрыв».
Кризис государства был преодолен за счет актуализации идеи службы и служилого сословия как главной опоры государства. Платой за службу по-прежнему была земля.
Кроме того, ужесточились и стали фактически непреодолимыми межсословные барьеры.
Крепостное право стало одной из основ государственнообщественного устройства.
Институционализация крепостного права в середине XVII – начале XVIII в. – процесс, который не был прерван петровскими модернизационными реформами, напротив, стал одним из инструментов реформы. Именно этот средневековый по сути институт компенсировал разрыв между обществом и государством и в то же время закреплял его, блокируя естественное развитие и трансформацию крестьянской общины.
В результате в XVIII в. сформировалась и развилась социокультурная пропасть между образованным обществом, с одной стороны, и крестьянским большинством, с другой. Это не просто различия в экономических и политических интересах, уровне образования, культурных предпочтениях. Фактически, речь идет о цивилизационной разнице. Созданная система подчинения крестьянства, основанная на крепостном праве и консервации крестьянской общины, ее закрепляла. Были созданы предпосылки возникновения и углубления социального кризиса по мере естественного развития элементов гражданского общества.
Европеизация не привела к качественным изменениям в системе государство – население – внешний мир: несмотря на интенсификацию контактов с внешним миром, эти контакты по-прежнему рассматривались властью сквозь призму возможной государственной измены.
Е. Анисимов: «Несмотря на головокружительные перемены в духе европеизации, Россия при Петре I оказалась открытой только «внутрь», исключительно для иностранцев. В отношении же власти к свободному выезду русских за границу, а тем более к эмиграции их, никаких изменений не произошло. Безусловно, царь всячески поощрял поездки своих подданных на учебу, по торговым делам, но при этом русский человек, как и раньше, мог оказаться за границей только по воле государя. Иной, т. е. несанкционированный верховной властью выезд за границу по-прежнему карался как измена. Пожалуй, исключение делалось только для приграничной торговли, но и в этом случае временный отъезд купца за границу России по делам коммерции без разрешения власти карался кнутом. Прочим же нарушителям границы грозила смертная казнь»[88].
Государство исповедовало закрытость, а в конце XVIII – начале XIX в. (после начала революции во Франции и в особенности после казни Людовика XVI) и антиевропейскость не потому, что опиралось на вековую русскую традицию или было вынуждено считаться с традиционалистским давлением снизу.
Идеи гражданских свобод, ограничения власти государя, народного представительства во власти в той или иной форме казались (да, по сути, и были) разрушительными для сложившейся в XVIII в. социально-политической системы[89].
Как в итоге выглядело общество во второй половине XVIII–XIX вв.?
Огромный материк «крестьянского сознания», на котором проживало абсолютное большинство населения страны, связанный с государством посредством крепостного права и административно-бюрократической системы, а с обществом, если под ним иметь в виду европеизированную и социально активную часть, почти никак не связанный.
Что важно для сознания – политическая утопия. Модель ожидания избавителя-мессии. Не религиознго, а социального. Закрепление «ухода». Утопичность политического сознания. Отсутствие связи политики с реальной жизнью абсолютного большинства населения, не имевшего политического представительства.
Империя и Великие реформы
В то же время российская история второй половины XVIII–XIX вв. – это постепенное развитие образования, поступательное движение к правовому государству и гражданскому обществу.
Уже в реформах Екатерины II прослеживается стремление «не просто осуществить определенные перемены в той или иной сфере, но реализовать научно обоснованный план последовательных и взаимосвязанных преобразований, основанных на важнейших достижениях социальной и правовой мысли того времени…, трансформации политического строя России в «законную» легитимную монархию, опирающуюся на прочный фундамент «непеременных» законов и сословную организацию общества»[90].
Движение было медленным, неравномерным, но это не качание маятника, не пароксизмы реформ, сменяющиеся «всплесками архаики», разочарованием и депрессией. Приведем характеристику реформ императорского периода, данную Б.Н. Мироновым: «В целом, в России в императорский период происходила социальная модернизация: во-первых, люди получали личные и гражданские права, человек становился автономным от коллектива – будь то семья, община или другая корпорация – и как бы самодостаточным, иными словами, приобретал ценность сам по себе, независимо от корпоративной принадлежности и родственных связей; во-вторых, малая семья становилась автономной от корпорации и высвобождалась из паутины родственных и соседских связей; в-третьих, городские и сельские общины изживали свою замкнутость и самодостаточность, всё больше включались в большое общество и систему государственного управления; в-четвертых, корпорации консолидировались в сословия, сословия трансформировались в профессиональные группы и классы; из них формировалось гражданское общество, которое освобождалось от опеки государства и верховной власти, становилось субъектом власти и управления; в-пятых, по мере признания объективных публичных прав граждан возникали конкретные правовые пределы для деятельности органов государственного управления – государство становилось правовым. Словом, суть социальной модернизации в императорской России, как и всюду, состояла в том, что происходил генезис личности, малой демократической семьи, гражданского общества и правового государства»[91].
«Моментом истины» этого процесса стали Великие реформы 60-х гг. XIX в., инициированные государством.
Важно понимать двойственную роль государства в процессе модернизации. С одной стороны, его оторванность от общества, мотивированность сиюминутными (в историческом масштабе) политическими и геополитическими интересами – препятствие динамичному развитию, с другой – государство – главный инициатор, двигатель и проводник реформ. Иного стратегического курса, цивилизационного выбора, кроме общеевропейского, у русского государства и у страны в целом на протяжении XVIII–XIX вв. не было.
Составной частью этого процесса было возникновение в России общества в его современном понимании – значительного числа граждан, способных думать о самом широком круге проблем, связанных с жизнью и развитием страны и стремящихся тем или иным способом участвовать в решении этих проблем.
Другое дело, что неотъемлемой составной частью общеевропейского процесса были развитие рыночных, капиталистических отношений и политическая эволюция, движение к представительной демократии. И то и другое вступало в реальное противоречие с политической системой, основанной на крепостном праве и полицейской бюрократии. В результате такого когнитивного диссонанса необходимость движения к отмене крепостного права и более широкому кругу реформ начала отчетливо осознаваться уже в начале XIX в., но действия, направленные на решение этой задачи, были предприняты только через 50 лет.
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. предусматривали серьезное переустройство общества в соответствии с давно накопившимися внутренними потребностями. Вектор реформ был направлен на развитие и дополнительную легитимацию института частной собственности, развитие правового государства и гражданского общества, создание институтов, обеспечивающих обратную связь государства и общества. Земская реформа предусматривала создание впервые в России выборных внесословных учреждений.
Процесс подготовки крестьянской реформы 1861 года соединил усилия государства и гражданского общества, которое к середине XIX в. заявило о себе в полный голос и стало субъектом отечественной общественной жизни и политики.
А.Н. Медушевский: «Традиционные сословия, сложившиеся в ходе длительного развития, оказались перед лицом вызова времени, требовавшего отчетливой самоидентификации и динамического изменения. Наиболее динамичными в этой ситуации становились относительно новые социальные группы – просвещенная бюрократия, рационально мыслящие представители правящего класса и либеральная интеллигенция. Интеллигенция выступала как своего рода выражение противоречий общества и государства. Опираясь на эти силы, административный аппарат абсолютизма консолидировался, использовал управленческий опыт и подготовил обоснование реформ 1860-х гг., обеспечив механизм их реализации»[92].
Результатом стала концепция реформы, сохранявшая правовую преемственность в отношении собственности на землю, но в то же время направленная на достижение социального компромисса.
Реформы запустили механизм эмансипации большинства населения, разложения традиционной крестьянской общины, формирования в России гражданского общества. Чрезвычайно важной с точки зрения модернизации общества были судебная, земская и военная реформы.
Кратковременный, но крайне плодотворный союз общества и государства распался, не завершившись формированием устойчивых институциональных связей, реформы теряли темп, их продвижение встречало сопротивление как архаично настроенной значительной части элиты, так и радикалов, влияние которых на атмосферу в обществе было значительным. Однако страна развивалась в направлении, заданном в 60 -70-х гг. Также и сознательно недооцененные советской историографией реформы П.А. Столыпина, продолжавшие вектор крестьянской эмансипации, действовали и продолжали изменять страну и после смерти их вдохновителя[93].
Продолжением политических реформ стали изменения, введенные Манифестом 17 октября 1905 г.