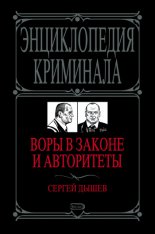Железная кость Самсонов Сергей

— Да действительно, господи, — я ведь с кем говорю! Обрадовался, да?! Кулаки зачесались? Есть теперь разгуляться где, да?! Ты смотри у меня! Слышишь, нет?! — Кулачком его в ребра пихает — хоть на сколь-нибудь глыбу вот эту подвинуть, тягу сбить в нем, Валерке, на зряшные подвиги.
— Что смотри-то, чего?
— Чтобы я без тебя не осталась — «чего»!
И опять к нему льнет, ищет губы, глаза, своим телом связать его хочет, придавить, не пустить воевать, и ее, не стерпев, опрокидывает и звереет над ней, подминая, — от ее жадной силы телесной, от ее звонкой крови, что под кожей бьется, толкаясь в него: прорываются будто под руками незримые русла, брызжет сок, что их склеивает так, что не разорвать, — это с мясом придется, и она ему в ухо — в кратчайшее дление их предельной сродненности — с непонятной, новой, подгоняющей жадностью: «до конца… разрешаю…» — вот какие права ему и свободы дарованы, вот его, значит, чем привязать к себе хочет, вот какой самой сильной и самой простой связью-завязью в чреве, ну а если и эта порвется, то тогда уж и вправду, значит, света конец.
ОСАДА
1
Ждали-ждали, готовились — все равно как на голову снег, сходом селя, Мамаем, в полвосьмого утра в понедельник. Рассекли город надвое плугом мгновенным, ломовым многосильным пролетом вороных вездеходов: тут таких и не видели — высоченных, подъятых на огромных колесах, ростом чуть не с БелАЗ, лакированных, сыто лоснящихся, с наварными таранными рамами, в каждой мелочи облика американских… прямиком на завод по натянутой хорде моста над Уралом.
Волочились Валерка с отцом по извечному руслу в составе многоногой ползучей могутовской силы, что втекала в ворота второй проходной, и вот тут загудели им в спины в спокойной уверенности, что расступятся все и отхлынут к обочинам, и почудилось каждому в лаве, в реке, что качнуло тебя, потянуло с дороги и стоишь на коленях, пропуская вот эти стальные вороные куски и колючие злые мигалки: все равно не заметят и проедут вперед, раздавив, и качнулась внутри и плеснулась Чугуеву в голову злоба, руки сами собой налились раскаляющим зудом и свелись в кулаки… «Ну, видали теперь? За людей не считают!» — проскрипел за спиной у Чугуевых Степка, но пока только молча — что ли от неожиданности? — провожали глазами текучие свои отражения на зеркальных боках проплывающих джипов: не давали им эти бока, затемненные стекла ни секундной задержки их рабочего облика, не впускали, не видели. Поднимая метель из березовой палой листвы, ломанулись прочерченным резко маршрутом к трехэтажному белому дому правления.
Распахнулись все разом, как крылья, вороненые дверцы — волкодавы, бычье, скорохваты поднялись, озираясь рывками, в президентскую службу охраны играя всерьез: «пятый, пятый, ответьте второму», открывая хозяевам дверцы, прикрывая их спинами — поднимавшихся с задних сидений лысолобых, лощеных, сверкающих золотыми очками, часами из-под снежных манжет, тонколицых, с одной усмешкой на всех — неподвижного знания: будет все так, как скажут они.
— Деловые! Здороваться надо вообще! — Степа в спину пришельцам кричит. — Когда входят, стучатся вообще-то, перед тем как зайти. Или что, мы стеклянные? Че ты лыбишься, лысый?! Да тебе я, тебе! — Это длинному он, с головой лобастой плешивой, — морда прям как у фрица в 41-м на марше. — Что, не терпится к креслу примериться, лысый? Только кресло вот это на наших плечах, на горбах наших, понял?!
И у Валерки челюсти сами собой расцепляются:
— Жарко тут, как в аду, — вошебойка! Все бациллы московские дохнут на нас!
И рвануло — улюлюканье, гогот, свист и гул прут стеной от рабочей толпы, только те-то, пришельцы, как шли, так и дальше шагают, не вздрагивая от ударов воздушных, от гогота. С нерушимой улыбочкой этой своей — на крыльцо и под вывеской скрылись, лишь охрана осталась одна у дверей мертвоглазая.
— Когда уголь дадут нам, который зажилили, — вот бы это спросить у господ, — выдает кто-то из стариков. — Не зашли на завод и уже ползавода угробили! Ледниковый период по цехам — это как?!
— Что, и уголь они нам?
— А ты думал как? Все заточено на истребление, — подтверждает всем Степка. — Знают, суки, что мы от угля, как от хлеба, зависим! В чистом виде блокада!
— Может, прямо сейчас из правления выкинем гадов? — Кровь в Валерке гудит, распирает, бьется в стиснутых пальцах, в висках тупиково.
— А вот выйдут пускай и ответят, что они там решили с нашим Сашкой в верхах. Что, и дальше продолжат морозить завод или как? — Егзарьян приговор свой выносит.
— Не расходимся, слышь, мужики, не расходимся! — над толпой Степа голос возвышает до срыва. — Не предъявим сейчас наше право — завтра нас и не спросит никто!
2
Голосил, заливался в припадке на столе телефон, секретарша Раиса грызуном пропищала по громкой: «Алексананатолич, тут к вам… из Москвы». Слабой, слизистой плотью, выскребаемой из раковины, влип Чугуев в высокое тронное кресло и бессмысленно слушал, вбирал нарастающий грохот шагов выдворяющих… дверь взрывом распахнулась и вошли, как в аварийное, дизентерийное, разбомбленное помещение, трое.
— Шаги командора, Сашок, принимай, — тот из трех, кто был Сашей узнан, — Ермолов, с длинной, чуть лошадиной иностранноарийской мордой, двинул стул к гендиректорской перекладине «Т» и подсел, навалившись на локти. — Ты что, Сашок, за митинг нам устроил? — Разглядывал с глумливой укоризной, примечая в чугуевском смятом лице то же, что и во всех лицах уничтожаемых, — усилия скрыть дрожь. — Ну-ну, понимаю, играешь рабочую карту. Создать нам обстановку нетерпимости. Твое вот это стадо, допустим, встанет грудью. Только где же тут ты, дурачок? Ты посылку мою получил? Читать вообще умеешь? Это даже не вилы — это нет тебя больше вообще. Давай сдавай нам скипетр с державой, бери в зубы сколько ты стоишь — и сгинул, исчез. Семь миллионов, оно лучше, согласись, чем десять лет лишения свободы.
— Завтра, — усилился морозным тоном отчеканить, — мы проведем по вашему вопросу собрание акционеров, вот тех самых, которых вы под окнами счастье имеете видеть. — Да почему же сразу голос у него срывается на какой-то щенячий раздавленный писк? Перед этим Ермоловым, правой или левой рукой углановской, чутким носом, клыками, языком для общения с низшими, третьим или четвертым человеком в «Финвале»? — Большинством голосующих акций утверждаем эмиссию и размываем твою долю до нуля.
— Тю! — Ермолов с состраданием разглядывал знакомые повороты хорошо изученной болезни, известные науке проявления активности предсмертной. — Нет у тебя, Чугуев, никакого завтра, не говоря уже о том, что все твои эмиссии — чистейший онанизм. Слив фантиков себе же самому по доллару за тонну — с понтом размещение, — да в эти игры нынче даже самые старперы не играют, которые еще Брежнева застали молодым. Мы это в Высшем арбитражном оспорим за минуту… Да, кстати, я что, вас еще не представил? — оглянулся испуганно на подчиненно молчащих своих. — Алексей Николаич Костенко, первый зампредседателя УФНС по Уральскому округу. Ну а это полковник Ахметьев, УБЭП. Будешь плохо вести себя, Саша, — дядя Слава тебя заберет. Потроха твои вынет из сейфа сейчас, и перешьем учредилку на дядю Борю из четвертого подъезда. Или чего, под доверителя пакетик свой увел, сидишь теперь и радуешься, да? Ну ниче, нарисуем арест тебе задним числом… — Уморился и от страшной тоски простонал: — Что ж тугой ты такой? Мы чего, твою хату родную сожгли с ребятней и старушкой-матерью, чтобы ты на нас с вилами? Забирай свой кусок по размеру ротка и живи. И спасибо скажи, что повадки у нас не бандитские. Что пыхтишь еще благодаря нашей элементарной брезгливости.
— Что-то слишком ты, слишком меня уговариваешь. — Чугуев упирался, напрягал отсутствующие мускулы, шарил, шарил впотьмах по подмытому скользкому склону, сползая…
— Еще раз для особо понятливых: я хочу сделать все без нарывов, без вони.
— Без нарывов, ага, в виде массовых выступлений толпы с арматурными прутьями. — Только это держало Чугуева.
— Вячеслав Алексеич, придется его в изолятор, — с дежурной интонацией главного врача продиктовал Ермолов санитару. — И посмотрим, кому тебя надо, трибун ты народный, в этой самой толпе. Может, эта толпа нам сейчас аплодировать будет, в последний путь тебя, родного, провожая. — И как раз, подгадав, пароходом у него под рукой загудела «моторола» массивная. — Да!.. Ну и что?.. Вотжежматьтвоюа! — И затлелось в его немигающих ровных глазах разумение: что-то сделалось там, на земле, в сталеварном бродильном котле заоконном, не так; с говорящей трубкой у уха, проворно вскочил, выбрел на этот трубочный голос к окну, повернул жалюзи, запуская вовнутрь стальной, полосующий, режущий свет комбинатского утра. — Вот порода-то, а! — С недоумением брезгливым вглядывался сквозь щели в заклокотавшую могутовскую лаву, в шевеления червей земляных, столь устойчивых к перепадам давлений и температур. — Это мозгом каким обладать надо, а? За кого лбом об стенку, бараны? Вас же этот хозяин как только не драл, с перестройки годами дерьмом вас без хлеба — и чего, за него? — Обернулся на Сашу с каким-то насилу смиряемым непониманием: — Объясни мне — вот как?! Как ты их сагитировал? Как они вообще тебя сами до сих пор еще не разорвали? Это ты им про нас — что вредители с Запада, марсиане, масоны, Пентагон нас заслал? Это ж каким дерьмом должны быть бошки набиты вот у этого народа, чтоб верить в эту большевистскую риторику о расхитителях народного добра? Что ж, вечно надо с ветряными мельницами драться и вечно, тварь, страдать не от того, что реальной причиной твоих бедствий является? Проблема же в одном хозяине конкретном. Нет, образ врага себе надо придумать, буржуев, которые во всем и виноваты — в том, что ты сам работать не умеешь и не хочешь, с молочной кухни, с мамкиной, блин, титьки!
— А ты пойди им это объясни! — Саша почуял подымавшую его, в нем распускавшуюся силу: нет, он не хрустнул, он не камушек в углановском ботинке, не своротить его, не выломать отсюда, пусть эту прочность придавала — ни за что и вопреки чугуевским «грехам» — ему сейчас могутовская масса, которая не за него стояла — за себя, но вот и за Чугуева ведь тоже.
— Чему ты радуешься, дебил, чему?! — Рука Ермолова взметнулась вспугнутой птицей — мазнуть его по морде скрюченными пальцами. — Пускай твой дом сгорит, по логике, лишь бы у нас корова сдохла? Живых людишек под бульдозер подставляешь — и не жалко?
В дверь постучали — всунулся поживший, с непримечательным лицом и стертыми о снайперский прицел глазами:
— Андрей, обложили. Не менее двух тысяч человек. Настрой агрессивный. Возможен силовой контакт. Самим с территории не выйти. Если без мокрого, тогда задавят массой.
— А если с мокрым, то на части разорвут. — Ермолов уже не присаживался, туда-сюда шагами мерил кабинет.
— Они хотят, чтоб этот ихний вышел к ним и подтвердил, что вы тут ничего не подписали. Если «гена» не с нами, — мертвоглазо кивнул на Чугуева, — нам отсюда бумажки не вынести. Не дураки — устроят шмон. Их лидеры явно уже подготовлены.
— «Тяжелых» вызывай — по стойлам пусть разгонят это стадо.
— Ну, это не сейчас, Андрюш. Сейчас бы нам самим отсюда ноги унести, без преувеличения. И разговаривать с людьми придется, мое мнение, чтоб красненьким эту промплощадку не сбрызнуть… Да и ладно бы сбрызнуть — сколько их, посмотри.
3
Обложено заводоуправление столпотворением восставших пролетариев — в единый организм спаялся молодняк, из сотен мощных глоток, словно из одной, скандирование беспрерывно извергается: «А ну-ка давай-ка … отсюда! Родного! Завода! Ворам не отдадим!»
— Что требуем?! Собрания требуем! — В первых рядах Степаша лаем надрывается. — Хозяин твой, хозяин сюда чтоб вышел к нам! Чугуева, Сашку нам, Сашку сюда! Пусть подтвердит, что ничего вам не подписывал и все по документам нашим уставным осталось, как и было! И вон пошли отсюда — так не входят!
— Ну так все и должно быть, мужики! Мы просто сейчас сядем и уедем! — Начальник охраны банкирской бросает обещания жирные в рабочие разинутые глотки. — Там ничего не решено, не будет сегодня решаться вообще! Голосование, собрание — все будет!
— Чугуева, Чугуева сначала! Пусть подтвердит, что вы тут не хозяева! А если нет — замесим только так!
— Да повыкидывать их всех отсюда без порток! В Урале искупать козлов! На память!
— Про уголь, про уголь вопрос! Когда на кокс откроете, душители?! Кокс, кокс! В природе есть такой, слыхали, металлурги?! Завод же гробите — чего, не понимаете?! Пусть уголь нам дадут сперва! Без этого вообще не будет разговора! — Кричат все те, кто чует заводские батареи как продолжение собственного существа, свои кишки, печенку, селезенку.
Только в ответ им — взрывом! — рев и грохот: грузовики армейские огромные прут в разведенные центральные ворота и с равнодушной, слепою, словно без водителей, неотвратимостью — в рабочую халву! Из-под тентов защитных картохой заломились, посыпались, раскатились по площади топотом ног в вездеходных протекторах — туши в бронезащите, железные головы — и сомкнулись, составили жестяные корыта в напорные стены, в метростроевский щит, чтоб пойти, грохоча, молотить их, рабочих, дубинками, и отрывистый в лай в мегафон над всей площадью: «Граждане! Прошу вас сохранять порядок и выполнять все требования сотрудников милиции! Мы находимся здесь для того, чтоб пресечь незаконные действия. Не надо обострять и усугубливать!»
— Я тебе сейчас так усугублю, что из земли не встанешь, мусор! — Из Валерки Чугуева рвется, как зверь, все, что внутри под ребрами копилось и не переваривалось — гнев на бессилие свое, на то, что можно человека так непрерывно, невозбранно принижать и только так и будет продолжаться, будто бы кто его с рождения, Валерку, в это бессилие, как гвоздь по шляпку, вбил.
И точно так же каждого в несмети вот это пламя-злоба прожигает — неумолимой тягой подхватывает, мгновенно начисто защитный навык убивая, и вся их тьма рабочая, качнувшись, из берегов выходит разом, общим вздохом — затрещала, враз просела стена щитов омоновских под лавой, под ломовой, молотобойщицкой силой: уж тут какой ОМОН, какая жесть смешная, когда вот так, насосом сквозь тебя качают — так, что вмещаешь в свою маленькую душу всех железных, — общую кровь, вот вся она в тебе?
И, разгромленный, Валерка самым первым, будто передним, самым крупным камнем в камнепаде, в строй гуманоидов омоновских врубается — кладку за кладку, уровень за уровнем бетонобойной бомбой пробивая, в белом калении свободы, в первом крике новорожденного достоинства: он есть! Жмет всею массой, за хоботы резиновые по одному бойцов из строя вырывает, перехватив дубиночный удар, — и нет уже через мгновение никакого строя перед ним, все замешались в кашу, словно в барабане завертевшемся: где тут чужие, в панцирях и касках? Одни свои уже, рабочие, защемили его, Чугуева, в плечах и потащили… Уже крыльцо заводоуправления перед ними — и вот сейчас под общей грудью рухнут двери, и хлынут внутрь, ликует он, Валерка: победил, поставил так себя, что поперек ему не становись, но только в горле запершило вдруг, царапнуло как наждаком или зернистой теркой изнутри — дым повалил навстречу им, рабочим, все становясь тягучей, едче, злей на вдохе, встал непродышной, теснящей белой тьмой; будто набили в глотку, в грудь горящей ваты, которую не выхаркать в сгибающем и выворачивающем кашле, все от жжения злого ослепли, друг дружки не видя, — каждый ломится в этой давильне в одиночку к отдушине, за куском, за глотком промывного проточного воздуха… и Валерка с налитыми жгучей мутью глазами — туда же… и по спинам, по ляжкам, по ладоням утопленников продавился на волю, вобрал, разодрав рот на полную, воздух, и тотчас темнотою хлестнуло его по затылку, и еще раз, еще — резиновыми разрядами, жгутами электричества, и стоит все, чугунный, не валится: в восемь рук его, в восемь дубинок охаживают, и в ответ он, в разливе совершенно звериного остервенения, наугад кулаками молотит, попадая во что-то мясное и твердое, еще больше ментов распаляя и вводя в безразличие, куда попадать, лишь бы только свалить его, бивня такого, и стоит все, стоит, не ломается, пока в башке его, последнего рабочего бойца, не полыхнет и не взорвется лютым белым электрическая лампочка и не станет Валерка вообще не в курсах, на каком он, на этом или том уже свете.
4
Лучше б уж кончился в отмеренных мучениях, не дожил до этих дней позора и распада, чем видеть то, что уготовано заводу, чем оставаться на агонию его. Как драчевым напильником кто-то проходился ему по нутру, и когтистая лапка сжималась на горле при виде застывшего в лётке расплава, при виде замерших, замерзших на катках, покрывшихся неразбиваемой окалиной слябов — уже унылой череды могильных плит, а не живых, малиново светящихся первородным калением слитков, — при виде разносившихся вконец, держащихся на честном только слове осей и втулок арматуры непрерывного качения, при виде испохабленных, надтреснутых, внутри себя надломленных валков, пошедших трещинами в самой сердцевине, покрытых сеткой сколов безобразных, пропаханных кривых, извилистых бороздок, будто отлежанная гладкая округлая щека железного ребенка, в которую впечатался узор от складок тяжкой слябовой подушки, при виде полного отсутствия запасных деталей с Уралмаша… и все равно без выбора горбатился в приямках и колодцах, перебирая становящимися чуткими, как у слепца, большими черными руками каждый винт, каждую вилку роликодержателя, по миллиметру на коленях проползал весь километр от машины непрерывного литья до концевых летучих ножниц и клеймения — чтобы вращал валки и ролики, катился его стан, не превратился в протянувшуюся вдоль немого выстывшего цеха груду хлама, загадочного вследствие утраты назначения и не могущего жить в верном напряжении службы. Но опускались уже руки, не в силах охватить растущую скрежещущую, стонущую уйму всех новых срывов, переклинов и надломов, при виде криворукого, бездарно-равнодушного, ленивого, нахального молодняка, который заступал на смену старым мастерам, до полусмерти износившимся в работе — лишь для того, чтоб безразлично множить мелкие халатности, перерастающие в беды страшной тяжести. Даже его, чугуевская, собственная бригада более работать не хотела и выходила из повиновения с регулярностью вот этих бабьих течек из влагалища.
Люди напитывались мертвой водой предрешенности и безучастия к тому, за что были ответственны, к самим себе, желавшим только жрать и спать и злящимся, что жрать и спать им вдосталь не дают. Вот это знание, что хоть ты тресни, а все продолжит точно так идти, как шло, угля не будет, хлынет безработица, уже как будто не страшило никого, но проникало в кровь и мозг баюкающей силой: страх оборачивался радостью исчезновения добровольного с земли, почти не греющей радостью повиновения безличной высшей воле, постановившей, что заводу навсегда не быть.
Мерзлый город-покойник, в котором уволили с комбината всех жителей, больше не был угрозой, перспективой — на глазах становился заключением прозектора. Он, Семеныч, нисколечко не сомневался, что московские гости пришли развалить комбинат и продать по кускам за границу промышленным ломом (никакой другой цели и смысла у этой породы не могло просто быть), и готов был с другими могутовскими могиканами голосовать за сохранение прежней власти до последнего. И когда заявились во плоти москвичи, вышел вместе со всеми на площадь врубить: не трогайте машины, производящей все железные опоры и основы, материал, без которого ничего невозможно построить: от ракет до последней поварешки несчастной — под вами же самими проломятся мосты и на головы рухнут вам кровли и стены, вы этого не понимаете и не хотите понимать, мы это понимаем, этим кормимся, тут наше место службы, тут наш хлеб, другого мы не знаем и переделывать себя в торгашеское племя не хотим. Эх, был он от природы неспособен к выражению того, что ясно теплилось в нем говорением немым: имея поделиться чем, все точно понимая про смысл жизни собственной и назначение человека, в слова была бессильна переплавить это знание чугуевская безъязыкая душа.
В соединении с такими же, как сам, в сцеплении, в монолите имеющих одно и то же убеждение работяг куда как легче было высказать свои потребности и волю. Ну да, пожалуй, слишком уж нахально повел себя рабочий молодняк, но понимал Чугуев: накопилось — когда уже вот прямо речь заходит о распаде всего, на чем ты держишься, то выражения не выбирает человек. Он еще верил: будет разговор; он еще думал: стоя здесь, они, рабочие, не позволяют совершиться окончательному страшному, чего от Сашки новые хозяева хотят и что сейчас из Сашки за закрытыми дверями выжимают. Но вот как только вместо всех ответов на вопросы на них ОМОН с дубинками спустили, все стало ясно вмиг и окончательно: все едино полезут вперед и раздавят, и можно только уходить, как в землю, в нерассуждающую скотскую покорность под нажимом или уж брать тогда в ручищи арматуру и молотить по черепам вот эту власть, которая вжимает рабочий класс обратно в состояние до революции 17-го года. Только это уже без него. Он свое уже прожил, Чугуев: все, что успеет он увидеть, — это смерть завода; с каждой минутой бунта, забастовок будет расти слой вечной мерзлоты на стенках домен и машинах непрерывного литья — и сдохнет в сознании бесплодности прожитой жизни, порушенного смысла, самой плоти всех трудовых его, чугуевских, усилий — вот как с ним жизнь паскудно рассчиталась за все усердие, за верность, за любовь.
Как из песочной кучи пялился на полыхнувшее короткое побоище: как накатил и проломил омоновскую стену не стерпевший такого обращения с собою молодняк, как заходили бешено дубинки по головам и спинам безоружных, как без следа его Валерка канул в самой гуще и повалил и стал душить рабочих белый дым, и вот уже у самого в глазах отчаянно защипало, и зашлись в раздирающем кашле и они, старики, в отдалении от дома правления стоявшие смирно; затиснутый собратьями металлургических пород, так за ворота проходной и выбрел слепо в составе многоногого ползучего, хрипящего, перхающего гада. И чуть вот надышался впрок, промыл свои окуляры воздушной струей — уже в толпе глазами шарит: где Валерка? На каждый чей-то хрип и кашель оборачивается, как на Валеркин голос, чудящийся всюду. Чуть посвободней стало — заметался, вставая на пути, сграбастывая встречных:
— Валерка где, Валерка? Валерку видел, нет?.. С тобой же был — как «нет»?!
И все молчат, таращатся бессмысленно и головами отрицательно мотают — сгинул Валерка, там остался, на задымленной площади перед заводоуправлением.
— Ниче, ниче… — сплошь сверстники Валеркины перхают, с лицами красными, как сваренные раки. — Сегодня вы, а завтра мы вас палками железными! Срок только дайте! Поперек горла газы вам сегодняшние встанут, мусора!.. На кого тянете, фашисты?! За кого?! На свой народ — за пидоров московских?! Друзья, блин, школьные, росли в одном дворе!.. Да кто?! В пальто! Михеев Витька, не узнал? Володька Кривокрасов с «мебельного», он! Глаза в глаза мне через дырки — узнаёт! Вот узнаёт и бьет! Вот бьет и плачет!.. Чего?! «Приказ»?! Своих мочить — приказ?! Нет, как вы с нами, так и мы! Раз вы вот так — кровью завтра умоетесь! Так и бредут в магнитном поле, из которого нет выхода, да и не надо выхода уже, а вот как раз наоборот — с неумолимостью их тащит, молодых, обратно на завод, и есть особое, больное наслаждение в этой тяге, все раскаляющей и раскаляющей всем мозг.
— Валерку — видел?! Сына?! — Один лишь он, Чугуев, поперек течения становится. — С тобой был — ну?!
Нет сил вздохнуть, растет оборванное чувство к сыну в пустоту. И видит: вон несут кого-то на руках — и что-то вклинилось рывком меж тесных ребер, как стамеска в щель, и с каждым скоком внутрь просаживало, как побежал вот к этим четверым, связанным ношей, туловищем чьим-то… нет, не Валерка, щуплый для Валерки. Ну а Валерка где ж тогда?!. и выперлась из толчеи еще четверка санитаров:
— Ну вот, Семеныч, принимай. В полном комплекте механизм, вроде исправный, не разобранный. И обвалился перед сыном на колени: разбито все, валун, надутый кровью, — не лицо, но шевельнулся, замычал, дубинушка, и сразу истине исконной подтверждение, что если умер человек, это надолго — если дурак, то это навсегда:
— Это мы что? Согнули нас, хозяева?! С земли своей, с завода отступили?! — В бой снова вырвется, вырвидуб несломанный, огромной неваляшкой чугунной поднимается, руки товарищей, как плети, сбрасывая с плеч, — насилу вновь его в шесть рук дается усадить.
— Тих, тих, Валерка, тих! Ты посиди маленько. Это тебе башку, видать, встряхнули здорово. Дай только срок, Валерка, — будет! Отольются им наши кровавые слезки — умоются!
И слышит он, Семеныч, это все, с новой силой страха понимая: не удержать ему и никому вот эту безмозглую немереную силу молодых, которая сейчас, в них запертая намертво, ни на какое созидание быть направлена не может, и только так они сейчас и могут ответить власти, жизни вот самой на унижение и бессмыслицу существования своего — лишь беззаконно и уродливо, лишь кулаками, смертным боем.
— Стой, мужики, нельзя нам по домам сейчас! — откуда ни возьмись Степаша опять рабочую ораву баламутит. — А что с заводом может за ночь — не подумали?! А то, что опечатают все за ночь приставы с ментами! Все входы-выходы задраят изнутри! Такое может быть? Реально! Сейчас уйдем — обратно не зайдем! А для чего же выдворяли нас дубинками? И пустят только тех, кто в ножки им поклонится! Кто акции свои отдаст, вот только тот в родной свой цех иди горбаться дальше!
— Ну так а что нам, как?! Что ли вот к мэру с красными знаменами? Или на рельсы, как шахтеры: Ельцин пусть услышит?!
— Да что ж мы лаз на свой завод, пока не поздно, не найдем? — Степаша наущает. — Пока они там чухнутся-освоятся, а мы тут все, каждую трещинку в заборе — как у жены спустя пять лет совместной жизни!
— Так это ж вон сейчас мы — через третий ККЦ! И по путям через депо к заводоуправлению!
— Вот именно! Но только надо, чтоб сейчас! А как залезем, уже сами все входы-выходы заварим изнутри. Завалим так — бульдозером не сдвинуть! Ну, мужики, желающие есть? — Степаша бешено глазами всех обводит, а все и так уже чуть не дерутся за место в этой группе штурмовой: «Я! Я, друг, я! Да хоть сейчас меня бери — о чем базар?!»
Ну и Валерка, битый-перебитый, — мозг из ушей не вылез — снова, значит, в бойню, как под откос, как в прорубь, до конца!
Будто с зашитым ртом, ни мускулом единым не дернулся за сыном он, Чугуев, — бессмысленность любых увещеваний понимая.
ГУ-ГУГ-Г-ГЕЛЬ!
1
Черносмородиновой ночью ледяной прут сквозь кусты упрямые, бодливые — вниз под уклон, в бурьяне утонув, и шустро вверх по склону, вырвавшись из дебрей. И вдоль бетонного забора двухметрового в молчании крадутся. Встали, толпа парней рабочих, как один. Спиной к плите, отвесно врытой в землю, руки в замок — подножкой для собрата. Заброс на гребень. Могут кое-что. Один, другой, последний — и вот уже ползут по потолочным трубам муравьями и с ловкостью древесных жителей по ригелям спускаются. И тишина такая, что в животе прихватывает аж, и слышно собственное сердце, бьющееся часто и весомо, и оглушает собственная кровь. «Спокойной ночи, малыши, уснули, самое время тепленькими брать!» И, не таясь уже, шагают в простершейся на много километров пустоте, в чернильной тьме конвертерного цеха словно белым днем, настолько всем им тут на ощупь, до заусенца, трещинки знакомо. Три километра напрямую через цех и по путям примерно столько же еще. И другие еще штурмовые отряды сейчас к точке сбора шагают-крадутся — ручейками, речушками по цехам и железнодорожным путям. Взять телеграф и почту в свои руки.
И вдруг какой-то звук железный в отдалении — вот вне пределов собственного ставшего оглушительно слышным огромного тела.
— Стой, мужики! Слышь, впереди шорохается кто!
— Да кто там? Показалось, дура!
Но снова стук тяжелозвонкий. Не шорох — поступь кованая там. Остановились, замерли — и стихло. Снялись вот только с места — и опять!
— Есть кто-то, есть! Кто может?
— Да работяга, кто! Свои, свои, раз так наверх залезли просто. Пошли, пошли — сейчас узнаем.
И в вышину уже все смотрят, в тьму высотную на марше.
И вроде тень, еще черней, чем обнимающая тьма, там завиднелась впереди, на храмовой зиявшей высоте. И загорелась огненная точка, словно глаз, — ну зрачок сигаретный, понятно, — и все равно вот жуть прохватывает, необъяснимый холод, ужас тот из детства, когда их всех в кроватках на ночь Гугелем пугали.
— Э, слышь! Ты кто там такой?! — Степаша шепотом, шипением выкрикивает.
И железный удар им в ответ, сигаретный зрачок полыхнул на затяжке опять и царапнул тьму огненной пылью.
— Слышь, не молчи там, чучело, дай голос!
И ничего — молчание… гром железный в вышине — человечески необъяснимый хохот всем в уши ломится, гнет лопатой к земле. Вот будто ковш у них над головами свои стальные жвала расцепил, с пятиэтажной высоты обрушив металлоломную проламывающую груду, будто состав чугуновозов с рельсов опрокинулся и покатились под откос, взрываясь, шлаковые глыбы — и увидели: не человека, незыблемо вросшего в сталь меж мостками и кровлей, не бывает таких, не бывает башки у людей на такой высоте, не бывает трех метров от макушки до пяток. Освещалась костистая морда-череп затяжками, нос остался, но будто в лице — одна кость или только литое железо.
— Кто ты, кто?! — сквозь катящийся хохот, загулявшее эхо Степаша надсаживается — голос рвется сквозь щель и уже не проходит, у губ обрывается.
— Хозяин твой, хозяин! Новый, старый и вечный! Бог всех богов твоих чугунных, сталевар!
— Гуг… гу… гу-гуг-г-гель!.. — самый зеленый из всех них, штурмовиков, вмиг дурачком становится, от стужи помертвев, крик из себя насилу выжимает, обеспамятев.
— Я его сейчас, этого Гугеля! — Никаких великанов, чудовищ, восходящих из донных отложений наследственной памяти, не боится Валерка. — Фонарь мне, фонарь! Счас посмотрим, какой это Гугель! — И срывается с места, к которому всех приварило; свет фонарный — рывком в потолок, на мостки: кто бы ни был там, что за шутник великанского роста, человек или не человек — мимо лесенки спустит сейчас за такую потешку глумливую… только нет никого уже на верхотуре — пустота в белом поле наведенного света. И вот кто это был? Или что это было?
Как рассудок миллионов современных хозяев компьютеров, тепловизоров, атомных станций приколочен гвоздями «НЛО» и «пришельцы» к действительности и во многих местах подымаются ночью могильные камни, исцеляет святая вода и душистой смолой сочатся иконы, так свои есть в Могутове у железных предания о всегдашнем присутствии, осязаемом веянии силы, и одно из них, главное, страшное, как и все, во что верят язычники, — о хозяине подлинном, первом комбинатском директоре Гугеле, людоеде гигантского роста, что стоял в 31-м над самой котлованной бездной на Магнитной горе, и решал, сколько русских положить в основание завода, и клал — сваебойной рукой — рядовых той бесплатной трудармии без разбора на зэков и истово-пламенных добровольцев строительства, деревнями, родами, бараками непрерывно подбрасывал в адову топку — от мигнувшей во мраке ледяной искры Замысла до алтарного зарева, грохота непрерывного тока броневого листа, и вот сам полетел бы, машинист, в ту же топку, если б стройка запнулась хоть на час, хоть на дление, если двигаться все начало бы со скоростью меньшей, чем вторая космическая, если б в срок он не выдал социалистической родине все, что он ей обещал. Столько стали, наваренной на рабочих костях, сколько надо ей, родине, чтобы из лапотной, пахотной и деревянной стать железной до несгибаемости, непреклонности ни перед кем. И, все выдав, исполнив, сам в огонь полетел — сам объявлен врагом был народу и вырезан изо всех групповых фотографий, из могутовских святцев, которые он открывал, расстреляли строителя за шпионаж и вредительство, только весь — даже после расстрела — не умер, настолько перешел и впитался своим чистым духом в саму плоть завода: каждой ночью встает и обходит владения свои; можно встретить его по ночам — тяжело, на железных подметках ступающего великана в пальто, да и днем чистым духом приблизится, встанет за спиной работяги невидимо, за разливкой следя через синее стекло, и как гаркнет со своей высоты, примораживая к месту: «Что ж ты, гнида, за корочкой ни черта не следишь?! Почему не играет на двух сантиметрах от стенки?! Второсортица, падла! Снова брак при прокате?! Раздавлю тебя, пыль!» — крановщиков, разливщиков, вальцовщиков хватала иногда огромная рука, так и туда бросая, что от человека не оставалось вовсе ничего, на валки, под валки, на налившийся алым сиянием сляб на рольганге, конвертеры взрывались, как хлопушки, под невидимой ногой, окатывая огненными брызгами литейщиков, до костей их проваривая и приваривая к полу вонять сладковатым прожаренным мясом; могутовских детей пугали этим ужасом ночным: «Будешь мамку не слушаться — как придет к тебе Гугель…»
Разделились, короче, во мнениях, кто там был — человек или Гугель — и что им, авангарду рабочих бойцов за завод, сообщить хотел этим появлением своим: вот кому он завод отдает, у кого забирает — у захватчиков диких московских или вот вообще у людей, отчуждая все домны и станы в свою замогильную собственность, наказав всех железных за их вырождение, ничего не оставив бесхребетным и млявым рабочим для жизни. И смеялись, конечно, одни над другими, что наслушались бредней стариков суеверных, но сами вот, сами человеческого объяснения найти не могли. Человек? Тогда кто? Чтобы так вот шутить? «Ну а делся куда?!» — «Да на кровлю ушел вверх по лесенке, дурочка!» — «Ну а рост, рост три метра?! Все же видели, все!» — «Да в темноте не то еще покажется!» — «По башке менты били? Котелок повредили — лечись!» — «Может, с газов все это, которыми нас? Что они там такое пустили на нас? Есть такие, с которых — видения». — «Да какие видения?! Ясен перец, что перец обычный, черемуха! Глотку жжет и глаза!» — «Все равно дядя Степа как минимум! Кто у нас такой рослый, кто знает?»
— Да ну хватит ла-ла! — еле сглатывает Степа клокотнувшую злость. — Дело кто будет делать? Ну вот чего такое было-то, чего?
— А, что ли, не было, Степаш?
— Ну было! Ну и что, так давайте назад повернем теперь, а?! Чтобы Гугель нас всмятку не дай бог своей пяткой железной. Ну вот кто, кроме нас, свой завод сбережет?! Может, Гугель?! Ау!
2
Растирают подошвы гранитную крошку. Угловатые кучи камней под ногой как на тормоз поставлены: нажимаешь — и туго скрежещут в колодках, рассчитанных на столетия службы, но нетнет и утопишь в пустоту педаль спуска рокочущей осыпи. Вверх по склону Магнитной горы черно-синей ночью карабкаются — кто давно уж ко взлету на лифте привык, на ракетоносителе, все другое уже не устраивает: слишком медленно, слишком настойчиво, оскорбительно напоминает о давно позабытой, отмененной телесности, о земном их замесе, из того же податливо-ломкого теста, что и все земнородные, — что еще не совсем они, не навсегда сведены к чистой власти, господству без телесного марева, без оболочки, что когда-то где-то способна испытывать притеснение трудностью — унижение вообще невозможностью получить сразу все и любое, про что только помыслишь: «мое». Очень длинный один, долгоногий, как цапля, нескладный — тот, кто первым идет и прицепами остальных за собой в гору тащит, — наступает на шаткую кучу, обрывается вниз, обдирая колени и локти, и подхватывают тотчас его берегущие руки, как ребенка огромного: «Все в порядке, Артем Леонидыч?»
И уже на вершине они, в полный рост свой пугающий распрямился «Артем Леонидыч», он же Гугель ночной, царь Магнитной горы, вечный бог всех окрестных пространств; вид на город открыт с верхотуры — вдоль реки по равнине размазанную лягушачью икру фонарей, окон многоквартирных домов и огней сортировочных станций в тьме кромешной падения свободного с самолетных небес — протяни и возьми, зачерпни — уместишь огневое скопление низовой этой жизни в горсти… тянет к самому краю Артем Леонидыч второго: «С фонарями сюда». К винтовому провалу карьера, в котором можно захоронить целый город, — в пропасть следующий шаг, в пустоту опрокинутой, врезанной в глубь земли многоярусной башни, по лекалам расчерченной, гармонической незаживающей раны колоссального взлома и добычи из матерых гранитных пластов. Свет сильных фонарей вылизывает срезы доисторических, ацтекских горизонтов, вниз спускается по круговым великанским ступеням, доходя до предела сужения, затопленного непроглядно-дегтярной донной тьмой.
— Вот отсюда, Ермо, начинался завод.
— Эх, чую, Темочкин, потащит нас на это дно вот этот комбинатик.
— Ты ничего не понимаешь. Что такое сталь? Сталь, сталь, металл и топливо — вот истинные деньги человеческого мира, вечно живые, вечно покупающие. Все остальное — резаные фантики. Только помыслить: миллиард — и вот он, миллиард. Это рассудок твой тебе вот этот миллиард дает в кредит. А вот это — порода. Кредитов она не дает. Природа только то тебе отдаст, что ты сам у нее сможешь взять. И квоты на добычу самые жесткие — повсюду упираешься в конечность и невосполнимость, и хоть обратно в шкуры одевайся, чтобы выжить.
— Что-то, Тема, тебя понесло в экологию.
— Не в экологии дело, а во власти над реальностью, которая прирастать должна, а не наоборот. А власть над пустотой прожранного — это не власть уже, а нищета. Вся денежная масса мира сегодня обеспечена реальными активами процентов от силы на десять — пятнадцать. Что мы сейчас имеем — цифры на счетах? Виртуальную сущность, которую мы бесконечно гоняем по миру, как лысого у себя в кулаке? Взяв комбинат, мы власть над плотью денег получаем, вот над причиной их возникновения, дебил.
— Охрененная власть! Всю жизнь о такой вот мечтал. Взять на прокорм сто тысяч ртов голодных, которые уже сегодня на куски порвать тебя готовы. И груду ржавого металлолома невхеренную, которую чтоб оживить — нет у нас таких денег сегодня вообще. Угля жрет, электричества немерено… — загибать начал пальцы, кляня аппетиты ненасытно прожорливой твари, махины, из-под которой им живьем уже не выбраться. — И от всего зависеть непрерывно: от нефтей, валютных курсов, банков, индексов, погоды, от ипотеки в штате Флорида и наводнения в Новом Орлеане. И с домнами ты ничего не сделаешь, со спутника не сбросишь на Багамы. Мы, Тема, были теми, кто имел бюджет Российской Федерации, а теперь нас, как тряпку, все будут крутить, чтобы этот бюджет оросить. Вот не готов я как-то на такие донорские жертвы.
— Что, надорвался уже, да? Струхнул, еще не вставив? — Рывком обернулся, давяще навис. — Вы вбили себе в голову, что можно только так, что либо ты баран, либо мясник, а человеком никогда не станешь. Хозяином своей земли, хозяином завода. Что те, кто что-то производит, пашет, — это рабочий скот, навоз, судьба у них такая. А ты, пока ты банк, имеешь все, эта система тебе сразу вываливает все, что пожелаешь: держит рублевый курс такой, который нужен нам для наших форвардов, и ГКО вот эти сраные печатает, чтоб завтра в собственном дерьме и захлебнуться… круговорот мертворожденных и бесплодных денег. Сколько можно гонять миллионы дохлых сперматозоидов? Ну насосешься под завязку, на разрыв. Такой же бесполезной тварью и останешься, навозом тем же самым, на который весь изойдешь, когда настанет срок удобрить собой землю. И нехера оправдываться тем, что по-другому ты не можешь, — иначе от кормушки отлучат. Это твой выбор, твой, надо ломать систему под себя, чтоб стало, как надо тебе, а не ей от тебя. Это мой завод, Дрюпа… Я родился в Могутове. Это моя земля, ее мой дед разведал и Сталину в зубах принес проект вот этого всего. Словно Сибирь Ивану Грозному… Не говорил, но думал непрерывно. С детства. У нас в детдоме на заборе была надпись — черной краской, огромными буквами — ТЫ БЕСПОЛЕЗЕН. И я ходил мимо нее два раза в день, и у меня одно стучало в голове, как дятел: я должен доказать. Открытие сделать там, изобретение, стать космонавтом — в термосферу выше всех… ну что еще тот мальчик мог себе представить? Сделать что-то такое, что могу один я. А потом нас, щенков, лет в двенадцать повели вот на этот завод — предназначая нам такое будущее, да, прекрасен труд советских сталеваров, бла-бла-бла, ну а куда еще девать нас было, беспризорных? В ПТУ. И я увидел льющуюся сталь, она стояла у меня перед глазами, вечно живая, вечно новая, как кровь, метаморфозы эти все расплавленного чугуна, и ничего я равного не видел этому по силе, вот по тому, как может человек гнуть под себя исходную реальность, — это осталось тут, в башке, в подкорке. Все, что я делал в своей жизни, еще и сам того не зная, я делал, чтобы откупить себе вот это все… Чего ты боишься, Ермо? Все потерять боишься? А что такое это «все»? Того, что жрать тебе с семьей будет нечего, боишься? Что дочку с сыном в первый класс не соберешь? Ты боишься за свой лишний жир. И поэтому надо купить комбинат за копейку и скинуть поскорее индусу за рубль. Что ж без толку горбатиться — лучше уж сразу в яму и баиньки.
— В наших реалиях, кстати, логика железная.
— У, мать твою, да с кем я говорю? — заметался по гребню и, развернувшись, накатил, подпихивая очкастого Ермо к самому краю. — Тебе чего, обосновать реально и конкретно, что сколько будет стоить через год и где кто будет через десять лет? Я тебе что тут — комсомолец первого призыва? Я стопроцентный сопроматчик, ты забыл? Я целиком сувайвер, выживальщик. Ты в состоянии видеть будущее дальше, чем на год вперед? Ну ринулись с Брешковским вы в нефтя. Брешковский ручки потирает, чуя перспективочку подорожания барреля за сотку. Наш дядя Боря, царь демократический, протянет максимум еще года четыре. Один раз в президенты его на больничной каталке протащим, чтоб получить вот это все, про что мы договаривались, а дальше все, износ материала. Кто будет следующий, ты можешь мне сказать?
— Следующий будет лысый, — пообещал Ермо авторитетно. — Горбач был лысый, Ельцин — волосатый. Я, кстати, вот лысый, а что, Тем?.. давай.
— Лысый, лысый. И я тебе скажу, какой он будет, — подтянутый, спортивный, аккуратный действующий гэбист, отличник боевой и политической, с приказной четкой речью и несущий чтото такое прочно-обнадеживающее людям, как дядя Степа веру во всесилие и доброту родной милиции, с лицом таким, чтоб каждый русский мог подставить в пустой овал свою физиономию.
— Вы его что, с Березой уже выбрали?
— Это надо быть яйцами глист, чтобы верить, что можешь в Кремль кого-то поставить. Это поток, Ермо, поток народного заказа, и он выносит наверх того, в ком есть потребность именно сейчас. Сейчас потребность в том вот самом, что мы потеряли. В государстве, которого как такового сейчас нет вообще. Это сейчас силовики в загоне и обслуживают нас, без вариантов отдавая в наши руки недра и заводы, поскольку сами на балансе и держать не в состоянии. Как ты там говоришь: кто имеет бюджет, тот и правящий класс. Дрюпа, держать бюджет будут они. Они вернут, «обобществят», — взметнулись в воздух руки с пальцами «кавычек». — Основные потоки. Кто там у нас обсел сейчас все нефтяные лужи от Январска до Ноябрьска? Олег Ордынский с Мишей Ходорковским? Ну вот их… — И пошлепал ладонью в кулак недвусмысленно. — И никаких залоговых аттракционов и прочих инвестиционных шапито, а право на убийство, раз, и право на посадку, это два, вот какая у них монополия, самая главная.
— Так ведь и комбинат забрать с такой же легкостью реально.
— А комбинат не скважина — запарка, геморрой. Кто только что мне это говорил? Для сталеваров во всем мире норма прибыли — семь-восемь процентов, предел. И на заводе ты как на подводной лодке: нажал не на ту кнопку — и хлынула вода в открытые кингстоны. Не говоря уже о том, что к каждой такой лодке по сотне тысяч работяг пожизненно приковано. Затопишь лодку — это будут орды лишившихся работы и жратвы. Как раз и хорошо, что можно в случае чего спихнуть ответственность на нас. В систему подчинения можно все включить, но комбинат есть сам система. Автономная. Заточенная изначально на управление изнутри, а не из центра сверху. Это как самая далекая колония в империи, с той только разницей, что нашу автономность не удаленность в километрах от метрополии обеспечивает, а степень непонятности самой твоей машины для всех, кто в полном ауте и домны от мартена не может отличить. И ты в этой машине — деталь незаменяемая. Что будет с этим ледоколом, то и с нами. Взаимная зависимость смертельная. Ты гонишь полтора миллиарда виртуальных денег, а ты попробуй город на плаву сталелитейный удержать. Построить государство в государстве — вот где драйв истинный, Ермо, и понимание, кто ты есть на самом деле. И еще одно главное — в чем наш ресурс. Вот эти самые десятки тысяч работяг, машине приданный особой человек, он ничего не понимает про добавленную стоимость и сокращение издержек, мы за него все это будем понимать, надо всего лишь изначальный, отведенный смысл ему вернуть, завести в нем пружину вот эту опять, к отреставрированной машине прикрепить и тупо кормить хорошо. Он дешево обходится, рабочий, — в шестнадцать(!) раз дешевле, чем во Франции, Германии, Канаде, дешевле только даром и в Китае. Этот народ, он даст тебе такую синергию и прорыв, что это уже будет космос натуральный.
— Если только на части прямо сейчас не разорвет. А к этому все, к этому идет.
3
За ночь власть на заводе сменилась, рабочим — вся власть.
Весь ОМОН у правления в кучу стеснили ломовым своим натиском — пусть с дубинками все, с автоматами, а вот вмиг дурачками заделались, отморозило руки на крючках спусковых, только обдало их дыханием рабочих в упор.
Баррикадами за ночь перекрыли все въезды — уж что-что, а ворочать бетонные блоки за железные ушки умели, в три ряда их составили, в стену высоты двухметровой на главных воротах, арматурными связками ощетинились, ломом, кирпичей навалили, чтоб метать их в ментов; надо будет — из слябов завтра выстроят стены, уложив их, как маты в спортзале.
Только дальше вот что — дальше собственных этих баррикад и не видят. Сколько так длиться может? Сколько можно по «ящику» в новостях про себя репортажи смотреть и лощеные морды новых властных скотов, выходящих к народу, наблюдать по ту сторону голубого экрана и пустые посулы их вживе из-за стенки бетонной выслушивать? Столько так вот в осаде просидят днем и ночью — без жратвы, без всего? Дети мал мала меньше у каждого, жены. Может, только того им и надо, хозяевам новым, — чтобы все они тут, на своих баррикадах, передохли естественной смертью, и бери не хочу тогда вымерший, опустевший завод?
Сутки так вот проходят, другие, и на пятые сутки — движение на том берегу, по мосту над стальной рекой, по которому протянулись в тумане отвернувшиеся от воды фонари в ореолах белесого слабого света, похожие на пушистые головки одуванчиков. Зашумели моторами и вспороли мглу лезвиями раскаленных злых фар членовозы, кареты, джипы сопровождения власти; поехали все: гаишники на бело-синих «жигулях», губернатор и мэр на своих черных «Волгах», целых двадцать машин скорой помощи, вездеходы защитных окрасов, тащившие полевые, с дымящими трубами, кухни… поползли по мосту вереницей в понимании, что сделалось на заводе совсем уж не то, — старики еще помнили бунт и расправу 63-го года, перемалывающий скрежет и стальные ручьи бронетанковых траков — и уперлись в последнюю, непроницаемую полоску злого воздуха. Распахнулись все дверцы, и земные правители к ним, рабочим, пошли непривычно пешком, принужденно, набыченно, с дополнительным явным усилием отрывая ступни от земли, проходя трудный путь к «обретению консенсуса», оделись поскромнее, в курточки, без меховых воротников, но уж выкорма, лоска наеденных ряшек не скроешь… И как будто затворы плотин поднялись одновременно — прорвались, разом хлынули отовсюду рабочие ручьи, захлестнув, затопив площадь перед воротами, не вмещаясь, давясь, прибывая; спрессовались в халву, но никто меньше не становился, не чуял тесноты и удушья в несмети — напротив, вырастал и прочнел сам в себе, ощущая прямящую силу в сцеплении со всеми своими: вот мы все, наша правда, не пропрешь, не задавишь теперь.
Меж Жоркой Егзарьяном и Борзыкиным зажатый, Чугуев озирался и не видел ничего, кроме поля упрямых рабочих голов, кроме синих сатиновых и землисто-зеленых брезентовых спин молодых и согбенных, видел сына Валерку, что залез на фонарь и висел под плафоном, обнимая ногами железную шею. Грузовик подогнали активисты рабочие, и в него, на него забрались делегаты — выше массы рабочей, над нею стоят, но вот жалкой, жмущейся кучкой, с беззащитными новыми лицами и насилу нацеженным выражением тактичности, дружелюбия, участия, приглашения выслушать и поладить добром. Мэр могутовский вон, Чумаков, вон московские гости — мышцы в лицах холеных, прежде производившие ровную полуулыбку презрения, занемели теперь, и другие мышцы в лицах невольно работали, заставляя приметно подрагивать кожу — в ожидании будто удара, попадания в голову чем-то прилетевшим тяжелым. А на самом краю, над откинутым в пропасть бортом, притулился, застыл в напряженном упоре — не сорваться с платформы в рабочее море — чугуевский Сашка, беспризорный, отвязанный, ничему, никому уже тут не хозяин. И вот не было жалко Анатолию сына сейчас: сам себя так поставил — жрешь сначала своих, работяг, а потом жрут тебя — кто умней и сильнее, чужие; вот тогда-то все и началось, когда Сашка начал перерождаться в носителя собственной, узкой эгоистической правды; труд в сознании русских людей — вырождаться из естественной, данной человеку потребности — внятной каждому тяги к созиданию прочных изделий — в жадноскотский инстинкт присвоения и обладания. Каждый, кто присвоением живет, забывает о том, что уже он — хозяин вещей, и чем злее грызется за частную собственность, тем только больше похабит растения природы и изделия рук мастеров.
Целый замгубернатора области долго проигрывал ту же пластинку: что пришли москвичи на завод по закону, что противиться этому баррикадами и арматурой — это значит самим встать против главных законов страны и подпасть под ответственность; что «Финвал-Инвестбанк» — это добрая сила, которая приведет в регион миллионы рублей на поправку могутовских станов и домен, на постройку больниц, поликлиник и школ, что не будет, он голову лично кладет, никаких увольнений… но вот как-то все так ненадежно-виляюще, скользким мылом в руках излагал, что своими посулами поднял брожение, клокотание в могутовской массе, и уже раскрывал рот безмозглой рыбиной в нарастающем гуде и реве. Но как будто бы что-то стряслось у него за спиной — закачались и загомонили иначе возле самой платформы ряды работяг; задрожал, заискрил от высокого напряжения воздух, как под самой мачтой ЛЭП, и почуяли все, кто стоял на гектаре, дуновение силы — вот каким-то особым, отведенным для этого органом слуха, железой, что у каждого есть, вот хребтом, даже он, Анатолий, находившийся так далеко от передних, почуял животом непонятное «это». Кто-то новый вошел в онемевшее столпотворение, как в воду, как таран, ледокол, и вот тут всем стало на площади тесно по-настоящему, так себе много места потребовало это явление. И тем с большей готовностью расступались железные перед этим нажимом, что ничем человечески ясным, понимаемым каждым двуногим как сила — там погоны, оружие, проходческий щит — это требование не было подкреплено, ни на чем не держалось, кроме полного, голого, безоружно-душевнобольного отсутствия страха. Это было его — ну того, кто пришел, — естество, как если бы в толпу вломилась лошадь, и наконец и он, Чугуев, увидал — над головами всех — качавшуюся голову, жирафа, так несуразно высоко торчал тот над толпой, двухметровый жердина, и жалкий, и страшный своей невместимостью в человечьи рамки по росту, по облику, с чем-то внутренним сильным в себе, совершенно отдельным от облика, вот таким, что магнитило всех, заставляя молчать и заслушаться.
— Так ведь он это, он! — крик мальчишеский чей-то в толпе. — Ночью, ночью в цеху! Гуг-гу-гугель!
Протолкнулся к платформе и — руку, чтоб его затянули наверх, еле вытерпел краткое промедление встречающих рук, неделимую долю секунды, что ему — как недели простоя; подтянули, взлетел с неприязненным, нескрываемо всех презиравшим лицом — всех его тормозящих, от него отстающих, скудоумных, дебилов наверху, на платформе, и внизу, на земле, вот еще вырос вдвое над всеми, вырвав сразу из рук окончательно отключенного замгубернатора рупор, и смотрел на рабочие головы сверху, как на кладку, которую будет сейчас разбивать и в которую он задолбался долбиться, как на глину, которую будет месить и, вот как бы она ни была неподатлива, все равно из породы могутовской сделает то, что надо ему. Крикнул что-то беззвучно, позабыв нажать кнопку и немедленно снова скривившись: вот тварь! матюгальник, и тот подают невключенным! Убивающе ткнул пусковую и двинулся в глубь рабочего мозга сверлом:
— Всем рабочий привет, гегемоны! Три минуты молчания, а потом что хотите творите, вы тут сила и власть, и никто вас с завода, никакие ОМОНы не выкинут. Я — Угланов Артем Леонидович, вот тот самый владелец заводов, газет, пароходов, который вас всех с потрохами купил. Вон он я, гад, пришел разграбить ваш завод. Распилить на куски все прокатные станы и продать их на вес за бугор. Вас на улицу выкинуть, чтоб вы сдохли от голода. Так вам сказали ваши прежние хозяева. Ну допустим, я вор. Вор, вор, вор, мироед и жучило, поискать таких надо! Да только вор, он выгоду имеет! Что такого могу я на вашем заводе украсть? Восемь домен огромных, которые чугуном закозлели? Станы мертвые, да, на которых не то что валки, а станины от старости треснули? А в третьем ККЦ чего?! Металл под кровлей, наплавленный за годы! Такие трещины — кулак засунуть можно! Все стыки по нижнему поясу — швах! Опорные фасонки — в любой момент любая оторваться может! Ну и сколько цехов таких, где не сегодня, так завтра вам на головы кровля обрушится на хрен?..
Откуда знает это все, Чугуев поражается. Совсем вот на заводе новый человек? По самоей своей породе изначально, неизлечимо для завода чужеродный. Как будто сам горбатился в приямках и колодцах и на карачках ползал под клетями и станинами.
— Я, что ли, в этом виноват? Я, что ли, полвека стальные пролеты растягивал? Я в аварийные цеха вас, как баранов, загонял? Я, что ли, домны столько месяцев таким говном кормил? Вместо нормального КСНР лишь бы только купить где-нибудь уголек по дешевке? Я, что ли, так вот рассуждал, что это все сегодня еще выдержит, а завтра тут меня уже не будет — и гори оно синим огнем?! Я тут рулил заводом десять лет? Ну и кого сейчас отсюда гнать? Меня?! Или вот тех — не будем пальцами показывать? И вот он я, залез вот в эту вашу жопу мира и поживиться чем хочу — дерьмом? Вы что ж — «Норильский никель»? На мировых запасах платины сидите? Кому вас надо, а?! Да во всем мире вас никто теперь не купит даже за копейку, никакие буржуи заморские! Я заплатил правительству России сто миллионов долларов за акции Могутова. А оборудования тут у вас, железа на десять — двадцать миллионов, если я его, допустим, захочу куда-то там как вторсырье продать. Ну, посчитали мой навар? Купил за рубль и продал за копейку. Тогда зачем я вообще сюда пришел? Ответ один: поставить дело. А потому что тупо больше незачем! Вы тут сейчас стоите и думаете все: явился хер с горы, спаситель комбината самозваный. Не верите — и с полным правом! Буржуй же ведь московский, который со своих вершин ни разу не спускался до земли.
Рефлекс безусловный сработал. Хер ты в чавку, Угланов, получишь, а не наш комбинат! Горбатиться на вора не хотите. А на кого хотите? На государство, да, великую идею? Нет больше государства, нет абсолютной силы, которая нуждалась в вашей стали, в самолетах и танках из могутовской стали. И на кого тогда? На Сашу Чугуева с Буровым? Так они пятилетку уже тут у вас отрулили. И где вы, и кто вы, и с чем вы? Хозяева вам ваши говорят, что это мы там из Москвы все развалили: систему сбыта, связи отраслей, задрали цены до небес на все, что только можно, на электричество, на газ, на уголь, на железную дорогу, что это мы перекупаем вашу сталь у Саши за бесценок, что это мы даем кредиты под грабительский процент, что это мы вогнали вас в долги. Я даже этого не буду отрицать. Пальтишко это видите? — рванул за ворот на себе невзрачный серый плащик. — Стоит тысячу долларов. Полугодовую зарплату вальцовщика! И ту, которую вам всем сто лет уже не платят. Да только на ваших хозяевах точно такие пальтишки. На машинках таких же они ездят, как я. Так что же это получается? Что Саша Чугуев, что Тема Угланов! Один и тот же хер, только вид сбоку! Они вам что все это время заливали, Сашка с Буровым? Что спрос на сталь в России нулевой, что во всем мире спрос упал почти до нуля. Поэтому вы нищие? Да тогда бы у вас были горы неотгруженных слябов и стального листа. Где они, эти горы? Не вижу! Да потому что шли отгрузки, шли, бесперебойные.
В Германию, в Турцию, в Польшу. Не похоже на правду, которую знать не хотите? Да, я перекупал весь этот ваш металл — вот у него! Так я на то и банк, «купи-продай». А он себе в карман как будто ничего не складывал. И где все это сложенное, где? В ремонт цехов и кислородных печек вложено? Ну и чего? Вы за него стоите? За его миллионы на секретных счетах за бугром, те, которые вашим горбом нацедил? Железные люди — железная логика! Убиться лбом об стену за того, кто вас и обирал, мозги вам ежедневно трахал с перестройки. Поймите вы одно, элементарное, что сами понимать должны: быть может, лучше жить вы подо мной не станете… допустим!.. но ведь и хуже, чем сейчас, уже не станет. Так и так подыхать! Вас всех стращают массовыми увольнениями. Так половина вас уже уволена по факту! Ведь половина мощностей стоит! На каждую исправную машину вас по десять, по двадцать человек дармоедов, там, где справиться может с машиной свободно один человек. Один вот этот пашет, а остальные водку жрут и анекдоты травят. И тащат, тащат через проходную все до последнего гвоздя — на вторчермет чтоб за копейку сдать и еще две поллитры купить и залить себе мозг этой водкой, из себя чтобы выжечь к хренам изначальный нормальный человечий инстинкт созидания. Вы ж скоро сами, сами, без меня все свои станы по кускам растащите. На валках молибден, никель, хром — можно это все скупщикам сдать и детей своих раз и другой накормить, пока все до конца не прожрете! Так вы завод свой любите и за него стоите, пролетарии?! — Гвоздил и раз за разом попадал: Чугуев проседал под этими ударами и чуял, как чуть ли не каждый в могутовской кладке рабочий вот так же, как он, подается. — Так вы завод свой из говна хотите вытащить? Меня-то, понятно, заслали ЦРУ и марсиане. А вы откуда сами прилетели?! С Марса? И тут есть только два, ребята, варианта. Можно оставить все, как есть, можно оставить тут за каждым из вас вот эти вот рабочие места, которые на самом деле никакие не рабочие, и продолжать у государства клянчить деньги на зарплату. Стоять на паперти с протянутой рукой. И вам так нравится, вы к этому привыкли. Получайте и дальше раз в год подаяние. А завод будет гнить, вы его же и топите. Потому что сегодня завод, он как плот, может сотню людей только взять, тех, которые будут вот сами грести, а возьмет если тысячу всю, то под тяжестью потонет. И отсюда второй вариант, он тяжелый, он страшный, вы его не хотите — половину отправить из вас в неоплачиваемый отпуск. Мне нечем вам платить зарплаты, государству — тем более нечем, вот поэтому-то оно вас мне и продало, чтобы я вас кормил — не оно. Да, у меня есть «мерседес», да, у меня есть миллионы. Да только что же я их — жру, в себя закидываю лопатой? Деньги — это же жидкость, это кровь, это топливо, которое в машину надо заливать, чтобы она и дальше ехала. Я могу вам всем выплатить разом сегодня зарплаты, всем восьмидесяти тысячам, вот один только раз — ну и все, нету больше моих миллионов. Вы один раз нажретесь, а с машиной что будет, со станом, с конвертером, с домной? Вот и стоит передо мной выбор — или вашей машине быть живой или сытой, или вас накормить. А зарплата выплачивается с прибыли. По ре-а-ли-зации! Вот вложиться в железо надо будет сперва, а потом уж в людей. Вот сперва научиться такую прокатывать сталь, какую на сегодня больше в мире не делает никто — ни немцы, ни французы, ни китайцы, и предлагать ее на рынке во всем мире так задешево, как больше, кроме нас, никто не сможет предложить. Без вас я этого, конечно, не смогу, без вас, людей, все комбинатское железо — груда хлама. Но и вы без меня. Потому что я снег эскимосам зимой продам, бедуинам в пустыне песок, ну а вы никому даже сталь свою втюхать не можете. Поэтому вы мне нужны довольные и сытые. Поэтому вам нужен я. Я, я, головка от часов «Заря». Взаимная зависимость смертельная. — Рассверливал рабочим череп в мегафон, вскрывая, пробивая слой за слоем, этаж за этажом, в спокойствии, в уверенности полной, что скоро он дойдет сверлом до мозжечка, до корневой породы спящего инстинкта пробурится. — Но сперва надо выбрать тут каждому. Сегодня не уволим треть рабочих — физически не будет завтра самого завода. А уволим — получим возможность вложить миллионы в ремонт и отладку машины. А те, кто остаются на заводе, лучшие спецы… вы сами знаете их тут, кто лучшие из вас… вот те тогда и будут пахать и за себя, и за уволенных. Иначе никак. Вот все! Теперь решайте сами. Я никакого рая вам не обещаю, потому что не будет его на земле никогда. Все одно работяге вставать каждый день в полседьмого. Но поднять свой завод и самим себя снова через это начать уважать — вот задача реальная. Ну и что мы решили? — Засадил, не давая им продыха, будто надо решать это было сейчас. — Вот чего вы стоите и меня на завод не пускаете? А я вам скажу почему. Потому что вам страшно! Боитесь жизнь свою менять, судьбу свою взять и сломать об колено. Вы так привыкли, что вас все имеют в хвост и гриву — Чубайс, правительство, московские банкиры, — что уже никакой другой жизни для себя и помыслить не можете. У вас одна мыслишка — не было бы хуже. Так вам хоть жрать дают, а я сейчас у государства эти ваши акции пришел и откупил — надежды больше нету никакой — на большого и сильного. Ну а сами вы, сами? Не большие и сильные разве? Но в одиночку жить вам страшно! Своим умом жить страшно. Вас этот страх погнал на баррикады, а не желание завод от разорения уберечь, никакая не гордость рабочая — что вас, как крепостных скотов, с заводом вместе покупают. А когда ваших дедов забросили в эту голую степь? Построили бы они вот здесь завод с такой психологией?
— Тогда была идея, — по-стариковски кто-то хрипнул из толпы.
— Идея? А вот тебе моя идея. Моя страна, которая имеет в недрах всю таблицу Менделеева, сегодня на карачках перед миром ползает и клянчит: «Купите мою нефть, купите мою сталь хотя бы за копеечку», — вот в чем моя идея. Это дело менять. И самим диктовать, что почем. Вот я стою тут перед вами — человек, который столько денег насосал, что и за жизнь теперь не переваришь. Деньги что — сколько ты их ни жри, а все равно на выходе одно только говно, а эти деньги могут кровью быть живой, которая вот эту машину разгоняет. Это как с бабой — можно изнасиловать, можно купить и выбросить через неделю на помойку, как одноразовую грелку, а можно — если ты нормальный человек — на жизнь до смерти под одной крышей заложиться, чтоб щи-борщи варила, да чтоб род твой продолжался. Ну вот что нужно человеку, мужику прежде всего? Что, только жрать, подмять как можно больше людишек под себя? Мужик живет инстинктом созидания. Не производишь ничего — считай, ты не живешь. Ну, это как потомства не оставить. Вот ваш прокат, ваш рельс — это такое же потомство, это ваши стальные дети, на которых и после смерти держится весь мир. Вот я зачем пришел — вот это вам поставить. Я все сказал, спасибо за внимание.
РАСКОЛ
1
Что с ними сделал этот человек. Вломил — и сразу грохот ледохода, ударная волна разбегом по цехам — бегущая по тверди, под ногами, растущая невидимая ломаная трещина, и вот уже кричат, друг дружку окликают, как со льдины, челюскинцы — папанинцев: ау! С одной кричали тысячи, бригады: «За Угланова!». С другой — и тоже тысячи — надсаживали глотки: «За Чугуева!», до дыр, до пустоты проигрывая старое: «Родного! Завода! Ворам не отдадим!» И третьи еще были — большинство, которое как в воду провалилось, не зная, куда плыть, не то, наоборот, осталось на земле, под придавившим всех сомнением: за кого? — впустую не желали глотки драть, толкались и простаивали сутки на собраниях, выслушивая прения враждующих сторон — акционеров, рабочими мозгами усиленно скрипя и ни на что бесповоротно не решаясь. А баррикады вот они — остались, ничьей, ничьей нет власти над заводом, и сам завод стоит и умирает. И днем и ночью по цехам чугунный гул неразбиваемый стоит, спаявшийся из криков костерящих друг дружку на чем свет стоит агломератчиков, вальцовщиков, литейщиков, грохотчиков, коксовиков, сварных и слесарей-инструментальщиков.
Уж глотки шершавятся, как наждаком, ободранные лаем, нет больше слов, нет голоса, чтоб выхрипеть свою единственную правду-правоту: скопилась вся внутри без выхода и ломится — лишь кулаком уже, похоже, и могущая быть вбитой в чугунок того, кто не согласен, кто не слышит, стоит, тупарь, за смерть завода своего и сам того, чушка, не понимает. И непрерывное, растущее в руке желание ударить, и даже сам себе никто не удивляется: сколь люто! И сорвалась одна рука, не вытерпев каления, и полетела молнией пудовой в чей-то котелок — со взбесившейся силой, которой все едино, в кого и куда попадать: в своего вот! рабочий — рабочего! И бьются горновые первой домны с цехом холодного проката № 2, и полыхнуло по цехам, как от проводки заискрившей, и в самой гуще он, Валерка, — как же без него? — своими машет рельсами-ручищами, дружкам по детству челюсти сворачивая и мастерамнаставникам раскраивая лбы. Уже и сам не знает, бьется за кого, — вместе со всеми глотку надрывает: «За Чугуева!» — и вроде как сам за себя, но и за Сашку-брата, как иначе? Хотя чего ему вот Сашка, если так-то? Что ль кучу денег отвалил, чтоб он, Валерка, за него тут крови не жалел? Чтоб брат за брата пер сейчас на брата? Заговорился аж — вот так уже запутался! Что он, Валерка, вместе с Сашкой теряет? Кто вообще ему, Валерке, может что-то дать, кроме рабочей каторги и знания, что чем упорней вкалываешь ты, тем только больше рассыпается завод, а с ним и личная твоя вся будущая жизнь? Как, как ему, Чугуеву, достоинство вернуть, вот это чувство верное прямое, что в жизни что-то от него, Валерки, самого зависит и меняется? Только в побоище последний смысл находит, спасение от вопросов без ответов, что бьются мухами чугунными в башке, — срубает с ног, заваливает, топчет, ударов встречных пробивающих не чуя… вместе со всеми по путям бежит куда-то. Беспощадный прожекторный свет бьет в лицо, разрезает глаза, раскаляет мозги, в слепоту замуровывает, и откуда-то сбоку табун на них ломит — словно зрячие против слепых; с торжествующим ревом врубились, и уже он один, неваляшка, кулаками молотит, размахивая налетающих по сторонам, в пустоту раскаленную белую наугад кулаки отправляет, и христосят его вчетвером — выключателем щелкает кто-то в башке: чернота, белизна, чернота от ударов, потянуло к земле, головой вперевес, и уже не командует больше собою — колода. И вот радость какая-то, что его больше нет… Только есть он, Валерка, не дают ему кончиться: потянула какая-то сила с земли — и стоит на ногах, макаронинах словно вареных. Держат трое в клещах. И дуплетом вопрос в оба уха, сквозь горячую муть в голове:
— За кого?! Чугуева?! Угланова?! Кого?!
— Чуг-гуева, Чуг-гуева… — вот себя называет, фамилию рода.
— Неправильный ответ! — И рельсом сразу в ребра, под вздох ему без жалости.
— Да стой ты, стой! Чугуев он, Чугуев! Чугуев в смысле самтЧугуев он и есть! Брательник Сашкин, ну! Чугуев-брат, рабочий!.. Валерка, как?! А ну-ка, брат, вставай! — И с братской уже заботой теребят, ощупывают: цел ли.
А он, Валерка, чухнулся, как кнопку в нем какую под ребрами нажали, — насосами, рывками расперла его сила…
— Да ты чего, алло, Валерка, ты чего?! Тимоха я, Тимоха! Ну крановщик с плавильного, смотри! А это Колян с Витьком, ну?! Мы ж все на свадьбе у тебя! Сервиз вам с нею чайный — это мы! Ну, то есть, не мы, а Людка наши с Катькой! Сам хоть себя-то помнишь, кто ты есть?! Валерка ты, Валерка! — Сковали, задавили буйного тройной своей тяжестью и сами, обессилев, рядом повалились, измученно воздух в себя широкими хватками набирая. — Вот ведь, Валерка, как — ты с нами тут, а братец твой над нами, иуда, без зазрения! Так за кого — ты, так мы и не поняли?
— За Сашу Чугуева! — как есть, им выдыхает в рожи.
— Вот номер, а! Ты че ж, мы, значит, правильно тебя?
— Зачем, Валерка, почему? Ты ж с нами тута, на земле, а братец сверху над тобой куражится. Тебя, брат брата, обирает! Чего ж, не понимаешь?! Какой тут голос крови?! Озолотил тебя по-родственному, может, чтоб ты вот так сейчас тут за него?
— Ага, вон весь прям в шоколаде! — Смех начинает бить его, безудержный, как кашель.
— Тогда зачем, Валерка, за него?!
— А вот чтоб вы меня тут положили наглушняк, наверное! — Крупнозернистой теркой смех по отбитому нутру его проходится: и больно — жуть, и мочи нет сдержаться.
— Совсем дурак, Валерка? Надо жить! Жизнь поворачивать свою своею волей!
Паяльником ему, Валерке, — в мозжечок! И вспышка лютым белым, замыкание:
— Сейчас своею волей! Ждите! Как на карачках ползали, так дальше все и будете! — В душник Коляну локтем! И на ноги рывком! — На тысячу баксов углановских клювы разинули?! Что на заводе вас оставит?! На рай рабочий, да?! За пазухой у пидора московского! Нагнет вас втрое прежнего — такой вам будет рай!
— Смотри, Валер, обратно сейчас вот заперцуем, как просил! — как с островка, со льдины, беззлобно-обреченно ему в спину.
Куда бредет — не знает. Полсотни даже метров в звенящем оту пении не пробрел, как новый топот сзади, табун нахлынул новый, потащил, врубили под ногами словно ленту транспортера: бежит со всеми вместе, не зная, за кого — Угланова, Чугуева, — плечами и ребрами бьется о камни катящихся плеч и голов, и встречная лавина на них, как под уклон, срывается в молчании… схлестнулись и вошли, как вилы в вилы. Сгорели все вопросы, как спичка отсыревшая во мраке, и снова он, Валерка, рубит лес, взбесившейся проходческой машиной дорожку пробивает в хрипящей и надсадно кхыкающей массе, чугуевцам наотмашь челюсти круша, углановцам раскалывая ребра — все без разницы. И вот уже один — прошел насквозь всю кучу. Не видит и не слышит, не хочет даже знать, чья верх взяла, вбирает только воздух непрерывно со сладкой распирающей болью: болит — значит, живой он, настоящий. И снова налетели со спины, объятиями сковали, радостные очень:
— Свои, свои, Валерка! Ну даешь! Уделали углановских как нехер! И ты опять, вот ты! Машина наша врубовая, сила! А мы уж было думали, что все, Чугуева в больничку положили! А он, Чугуев, вот — стоит опять и машет! — И рожи все знакомые до трещин, до прожилок — Митяй, Мишаня, Викыч, с борзыкинской бригады все ребята, с кем языком глухонемых давно уж научился возле домны изъясняться… ну и Степаша тут же, главный закоперщик, вот разжигатель бунта — как же без него? — Нет, ну откуда столько их, углановцев?! Плодятся почкованием — Угланову поверили!.. Да ты чего, Валер, как неродной? Ну не сегодня — завтра выдавим паскуд! Они ж врасплох нас, светом ослепили — только из-за этого!.. Куда, куда?! В обход давай! Не вырвемся!
И вместе — вдоль бетонного забора. И по шлаковой куче на гребень. И с гребня — кубарем по склону, сквозь кусты. Прокатились и вырвались прямо к черной реке. Продышались, поправились.
— Ты, Валерка, давай, — на ходу выдыхает Степаша, — завтра утром опять приходи. Без тебя нам никак, ты — наш главный таран. Если мы перед ними прогнемся сейчас, то уж больше не встанем. Эх, Угланов, ну сука! Половине народа башку задурил! Про подъем производства, рабочую честь! Крысолов, блин, умеет на дудочке! И вот, главное, да, половину под зад с комбината, признает это, сука, в глаза, все он так и задумал… и что?! Все равно половина за ним: увольняй нас, москвич, мы согласные! Это мозгом каким вообще?! Так что завтра как штык чтоб, Валерка!
И во что-то в Валерке попал: прохватило волной безнадеги и злобы на бессмыслицу этих штурмовых их приливов и отливов с завода, на какую-то безличную, непонятную, неумолимую силу, что магнитит их и волочит, куда надо ей и куда ему лично, Валерке, не надо. Молотить с первобытным озверением своих, вот одной с собой крови, породы — оно ему надо? И рванулся, попятился от дружков-собригадников, как от чужих, зараженных, засаженных в новое тело:
— А идите вы все со своей войной! Все конем оно кройся!
— Да ты чего, Валерка?! Мозг тебе встряхнули? Ведь завод же за нами, завод! — Заклинание Степаша выдыхает всегдашнее, от лица высшей силы вещает, проводя в массы волю чугунных богов.
Но замкнулся Валерка в себе уже наглухо — верит, что насовсем изнутри запаялся, не подцепишь его, не потащишь никогда уже больше в дробильню, как вот этих всех осумасшедшевших, — и сорвался так резко, словно выдернул провод какой из себя, побежал своей собственной волей, в праве быть там, где выберет сам, отделенный от всех, только вот с каждым шагом не прочнеет, а наоборот, все пустее, прозрачнее, жиже становится, на бегу загибается вот от этой свободы своей, неприкаянности, непричастности к правде какой бы то ни было: видно, сделан таким, что не может он сам по себе, слишком легкий и маленький, чтобы в нем отдельном нуждалась земля.
Вот куда он теперь, вот к кому, как же он без завода? — бьется гирькой чугунной в башке. И спасибо, хотя бы на один из вопросов дается ответ — взглядом в этот ответ на бегу упирается, сразу и не поняв, что там вдруг за явление: у моста, на мосту в кучу сбились и глядят, как на зарево заводского пожара, сотни баб, утеплившихся телогрейками мужниными и платками пуховыми, чуть не весь женский город. И качнулась толпа мягкотелая, слабая, будто брюхом единым, Валерке навстречу — поскорей разглядеть, кто там вышел еще невредимым из боя. Жили только глаза на старушечьих лицах, усохших и сжавшихся в бурый комок, словно палые листья, на морозно горячих и свежих, налитых молодыми звенящими соками. Беспокойные черные ранки, сколь голодные, сколь терпеливые, выедали Валерку в упор, разрывали, расклевывали, кляли — будто было из них что-то вырвано и нельзя приживить, возвратить, пока муж или сын не вернется. Вот один вопрос в каждой пронимающей паре наставленных: где там мой? что там с ним? вы когда отдадите мне назад моего?
Побрел средь причитаний бабьих, всхлипов: «Они между собой воюют, а нам тут стой трясись, куда его ударят, мужик он или клоун после будет!» — меж мягких толстых спин, в покорность стекших рук, среди грудей кормящих, откормивших, средь животов округлых и наполненно твердеющих, выпирающих в мир беззастенчиво и беззащитно — предъявлением зреющей в них новой жизни, выставляемых перед собой бессильной и огромной по силе нутряной укоризной: на кого нас оставили с животами, мужья?
«А Кольку, Кольку видел моего?! С Трактористов мы, Клюевы, ну?!» — от цепляний настойчивых он отбивается, от знакомых, соседок, у которых на свадьбе гулял, от старух, кому с детства божился не тащить больше сына их за собой на бесчинства и в увечные драки… и по брюху вдруг крик полоснул его, вскрыл, охлестнул ликованием: «Валерочка!» И Натаха, Натаха к нему сквозь толпу, как с горы, полетела, с разгона влепилась в него, дурака, всей своей задохнувшейся огненной тяжестью, жалким телом, зазябшим на ветру и юру.
— Никуда тебя больше не пущу, гад, запомни! — детски шмыгая носом забитым, по щекам его гладила безостановочно — не то кровь с его морды разбитой стирая, не то будто стараясь сберечь его, гада, лицевую штамповку, единственность черт под защитной стяжкой слез и соплей и чего-то еще, что текло в него жадной бессловесной мольбой, оставаясь надолго, высыхая не сразу.
2
— Ты что ж это творишь?! — Человек покупательной силы огромной в гостиничный номер ворвался, будто бы из огня, и навис над жердиной, воткнулся в лежащего сквозь очки убивающе. — Трибун народный херов! Схлестнул между собою гегемонов, поп Гапон! Месилово, война полномасштабная! Уже такое, что вообще нам не отмыться никогда… от крови. Ты, когда делал это, думал вообще?! Виртуальное измерение, виртуальное измерение! Решил теперь в живых людишек поиграть?! В рабочих, блин, солдатиков?! Ты понимал, что вот они — живые, ты понимал, что кровь у них течет, понимал или нет?! Менты обделались: в забив уже не сунутся! — И заметался, шастает по номеру: вот здесь, у него под ногами, уже разлилось, и некуда ступить — замарывает ноги.
— И как там, трупы есть? — с койки ответ пустым и ровным голосом, с какой-то беспощадной властью знания, что все идет так, как не может уже не идти.
Ермо прожгло, остановило, развернуло:
— А иди посмотри, посчитай, сколько там их уже! Сколько ты! их уже!
— Если б не я, то кто-нибудь другой. Это реактор, Дрюпа, он рванул, и никакие фартуки свинцовые не сдержат. В них всех сейчас уже такая злоба, что только с кровью может выйти. Им все равно, кого ломать и за кого. А если б мы на них ОМОН? Дивизию внутренних войск? Ты так бы хотел? Сколько тогда бы было трупов? Гарантированно. Ты знаешь, что здесь было в шестьсят третьем? Когда им власть советская единокровная сказала: жрать будете то, что дадим. Их только танками тогда загнали в стойла. Здесь аномалия магнитная, Ермо. Ты думаешь, кто они? Люди? Они даже не русские. У них не то что пугачевщина — у них новгородское вече в подкорке. И с ними надо разговаривать. Чтоб за тебя кричали, за Угланова. А иначе тут не утвердишься. На каждом шагу под тобой проламываться будет.
— И ты поговорил!
— Я с ними так поговорил, что половина из них на площади стоит и продолжает меня слушать. А еще больше тех, кому все фиолетово — чья на заводе будет власть. А напусти на них ОМОН? Тогда бы все на нас пошли, все те, которые сейчас засели тихомирно по домам.
— А подождать вот тупо — не приходило в голову такое?
— Подождать, пока сдохнут все домны? И никакой нам «Свисс Кредит» и «Стандарт Чартер» таких объемов не дадут, во сколько встанет такой завод реанимировать? Мне сейчас надо этих железных поставить к машинам — сейчас! Вот насколько их хватит? На три дня, на четыре? Пару бошек друг дружке пробьют, кровь увидят — и встанут.
— Кровь же, Тема, ведь кровь!
— Ну а какие роды могут быть без крови? Главное, чтобы выжила роженица. И плод. Вот прогорит сейчас в них без остатка эта злоба, и озираться станут: где мы, кто мы? И вот тогда уж, на пустые головы, я окончательно им это объясню.
3
— Нет, нет и нет! — Натаха на нем виснет — в пустившем корни, запустившем когти страхе, что он, Валерка, завтра на вой ну еще раз побежит. Волочит за собой какой-то материнской уже властью, в дом загоняет наказание свое, и топает послушно огромный малышок, без единого взбрыка повинуясь пока что. — Еще, Валера, только раз — не знаю, что тогда с тобою сделаю! Ты не молчи, ты «да» скажи, Валера! Пообещай, что больше никогда!
— Судьба завода вообще-то, — автоответчик в нем, Чугуеве, включается, под всей разламывающей болью в голове, под спудом знания, как все оно бессмысленно, как безнадежно, как непоправимо.
— И как она, вот как она решается?! Что вы, рабочие, друг друга кулаками?! Что за война такая, кто на вас напал?! Чем это кончится?! Это ж, Валера, могут так тебя ударить… и можешь ты ударить, ты, что это все, Валерочка, тюрьма! Они там все, дружки твои, воюют — ну и пусть! А ты умнее будь, с людей бери пример! На батю посмотри вон, на Семеныча! Он не пошел, Борзыкин не пошел, Клименко оба, Сомовы, Самсоновы — вот все, кто умнее, никто!
— Куда им, старперам?
— Целее тебя, молодого, зато будут все! У Нинки с Веркой дома их мужья! Вот просто голову имеют на плечах. И ты б, Валерик, тоже вон лучше б на собрания тихо-мирно походил, вник, что к чему, чего кто обещает, ясней бы разобрался, что и как.
— Да уж куда ясней! И под Углановым кирдык, и под брательником родным уже не жизнь. Чего-то я совсем запутался, Натаха.
— Ну так домой пойдем, Валерочка, распутаемся, — зазябшим телом, внутренне горячим, прижимается: туда, где просто все, уже не промахнешься, Валерку тянет огненной лаской. И притянула, затянула — в их частный сектор переулками ночными. Вон отец с папиросой на крыльце полуночничает — уж которые сутки не спит.
— Ну что, навоевался? — прохрустел. — Котелок еще не раскололи?
— Иди, — толкнул Натаху взглядом, — я сейчас… Да уж лучше бы, батя, видать раскололи, — потянуло к земле, на ступеньки, сел рядом, захватив в обе лапы загудевшую голову.
— Несешь чего-то… это самое… совсем уж… — клокотнув, кулаком сунул в спину отец — протрясти, выбить дурь, да уж где там — обессилела, рухнула на ступеньку рука.
— А как мне жить-то, батя, как, скажи! — От черепушки оторвал приваренные руки и надавил кричащими глазами на отца.
— От тебя же зависит.
— Так ведь в том вся и штука: от меня — ничего! Что же я — не работник? Пашу! Не смыкаю очей, как завещано. Домна дышит еще до сих пор только лишь потому, что вот я! Ну дышит — и что? И еще только хуже! За себя поднялись — показать, что мы есть, не скоты, чтоб терпеть, — и опять только хуже!
— Все еще может повернуться, — толкнул отец с какой-то неживой убежденностью, так, будто сам в себе неверие пересиливал.
— Кто повернет-то, кто?! — стиснутым ртом Валерка простонал. — Угланов этот, может, балабол? Тоже ему на старости поверил, крысолову?
— Так дело ж говорит. Сашка потек, а этот — все по полочкам. Послушал бы сначала, охламон, вместо того чтоб рогом упираться. Все расписал по пунктам, что намерен делать на заводе. Руду под Бакалом нашел. Считай, что у нас под ногами, вот новая Магнитная гора — возить ниоткуда не надо. Экономия какая. И с углем то же самое. Вот уже у казахов два разреза купил. «Богатырь!» И опять от нас в ста километрах. Прокатный стан на две пятьсот — четыре новых клети методических с шагающими балками. Пять новых слябовых машин пятиручьевых. Вот в самую точку сажает прицельно, в больные места. Я вообще после Ракитина не слышал, чтоб кто-то масло так в башке гонял за комбинат. Он же не только в бухгалтерию уткнулся — он существо машины понимает. Вот он прошел по моему, чугуевскому, цеху и сразу все стыки по нижнему поясу видит. Что надо делать, чтоб на бошки кровля не упала. А кто у нас когда в правлении про это говорил? Мы им говорили — они нас не слышали. И главное — про воровство. Вон конторские наши за Сашку горой — почему? А инженеры, Новоженцев-жулик почему? А потому что воровать он им дает! Валков новых нет, а по бумажкам они все у нас закуплены. И я их по пять раз на дню меняю — по бумажкам. А деньги себе инженеры в карман. Начальники цехов с конторскими на пару. Они вон у Сашки воруют, а Сашка у них, и все они вместе — у нас, у рабочих. Так он чего, Угланов, — вешать будет, говорит. Я, говорит, в тюрьму не верю, а только в возвращение телесных наказаний. Такой контракт вот с каждым трудовой, что в трех поколениях потом отдавать им придется. Полицию свою на каждой проходной.
— Ну прямо Пиночет какой-то, а не сам главный вор. Вот это что тут у тебя?.. Лапша с ушей свисает до колен. Не проходили разве, нет? Все за рабочий класс, пока на шею нам не сели. Они же только этому обучены — ла-ла.
— А Сашка с Буровым все эти годы не ла-ла?! Ты думаешь, я слепой, ты думаешь, я дурак? Все заразились, вплоть до слесарей! Валки своими же руками, твари, гробили, до голых мест, паскуды, шкурили, чтоб никель на продажу. Сталь нержавеющую, никель, молибден. Через забор связка за связкой катапультой. Не цех ремонтный — черная дыра! И все всё видели, и всем всё было похеру! Складские лыбятся, начальники облопались, а работяги — надо ж как-то жить, не проживем, Семеныч, без иудиной копеечки.
— И вот Угланов, значит, с этим кончит?
— Кончит! — Захрустели в отце рычаги, завращались валы, перемалывая знание, опыт, что вот ни разу так не сделалось с приходом новой власти, чтоб прекратилось или хоть убавилось от наведенного на человеков страха воровство и каждый зажил навсегда в непогрешимом напряжении службы. — Если не он, тогда вообще никто. Давай, Валерка…
— Чего давай-то? Воевать заканчивай?
— И это тоже. Давай мы это… акции ему… — как что-то стыдное, стыдящееся собственной наивности, но все равно живучее выдавил отец.
— Давай, бать, давай! — аж до кишок озлился на отцову вот эту душевнобольную надежду. — Я, правда, думал ими стенки в туалете, но для такого дела, бать, в зубах их завтра принесу. Мало мы, что ли, им в зубах вот эти фантики? Сначала Сашке, Савчуку, потом обратно Сашке, а как на брюхе, батя, ползал, так вот до смерти уж теперь и доползешь! — Что-то совсем не то, слетев с катушек, выплюнул и задохнулся собственным паскудством, увидел, как лицо сломалось у отца. — Да погоди ты, бать, да я не в этом смысле!
Отец толкнулся, встал с превозмогающей натугой, и на мгновение почуял он, Валерка, что как-то уж слишком просторно заклокотали силы жизни в мощном, грузном теле совсем еще не старого железного — слишком свободно помещаясь и просясь наружу из разношенной клетки и истершихся в службе кузнечных мехов, и отчаянным необъяснимым детским ужасом страшно стало вдруг за отца, что пошел в дом без слов и в чьей поступи явственно слышалась перетруженность материала.
4
Переполняют воздух тысячи рентген, да только вот никто не валится от дозы облучения — наоборот, три раза надо с ног срубать, чтобы уже не встал железный; незаживающей дырой, жрущей пастью глотает упертых бойцов комбинат. И не хотел Валерка снова в этот кипяток, а ноги сами принесли.