Опрокинутый рейд Шейкин Аскольд
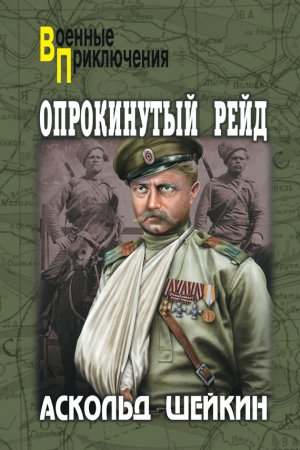
Пролог
Лето 1919 года было трудной порой для Советской страны. На подступах к центральным ее губерниям, к Москве, Петрограду больше года не стихали бои. Белые армии захватили Север России, почти всю Белоруссию, почти всю Украину, значительную часть Средней Азии, Кавказ, Закавказье, Сибирь, Дальний Восток. Повсеместно не хватало хлеба, одежды, топлива. Замирали заводы. Болезни, голод косили людей. Гражданская война становилась все более ожесточенной.
Слова эти — «гражданская война», а значат они, как известно: «вооруженная война классов, война внутри государства», — тут, впрочем, не очень точны.
С первых дней существования нового государства началось вмешательство в его дела других стран. Деньги, советники разного рода, оружие щедро предоставлялись ими сторонникам прежней власти. Потому-то они и поднялись, сплотились.
Одним из центров, где происходило это сплочение, оказался степной, южный край с городами Новочеркасском, Ростовом-на-Дону, Александровском-Грушевским, Таганрогом — Область войска Донского. Ее коренным населением было казачество, в основной своей массе потомки беглых крепостных крестьян. Русской Вандеей теперь этот край называли. Полки его — Донская армия — действовали в составе Вооруженных сил Юга России совместно с так называемой Добровольческой армией, подчинялись общему их командованию.
- Ой, ты батюшка, славный тихий Дон,
- Ты кормилец наш, Дон Иванович.
- Про тебя идет слава добрая,
- Слава добрая, речь высокая.
- Как бывало, ты все быстер бежишь,
- Ты быстер бежишь, все чистехонек.
- А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
- Помутился весь сверху донизу, —
поется в одной из старинных казачьих песен.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Рубеж
Первого августа 1919 года части 40-й стрелковой дивизии 8-й армии Южного фронта красных, с севера наступавшие на Область войска Донского, заняли Бутурлиновку. Бой за овладение этим городом шел двенадцать часов. К концу его силы дивизии исчерпались. Нач-див-40 Матвей Иванович Василенко, кадровый военный, в прошлом подполковник царской армии, один из не так уж многих советских командиров тех лет, имевших за плечами курс Академии Генерального штаба, трезво оценив обстановку, приказал перейти к обороне всем полкам дивизии, которая занимала теперь рубеж, простиравшийся от Бутурлиновки до Новохоперска. Восемьдесят верст холмов, низин, лугов, лесов, кустарников, чересполосицы крестьянских пашен! На штабных картах, изображенный двойной сплошной линией, этот рубеж выглядел вполне внушительно. В действительности же красные части, лишь кое-где успев наспех отрыть окопы, цепочками караулов стояли только у околиц хуторов и деревень, у дорог, и долгие версты отделяли такие островки один от другого. Точных данных на тот момент, несмотря на все расспросы и архивные изыскания, автору обнаружить не удалось. По косвенным данным он полагает, что бойцов и командиров тогда в дивизии было от четырех до семи тысяч, вместо пятнадцати по штату, и, примерно, столько же нестроевых лиц, причем как раз накануне наступления на Бутурлиновку полки получили секретный приказ за подписью начдива-40:
«Запас гранат в складах дивизии всего 400, и пополнения скоро не предвидится за отсутствием запасов в армии. Запас патронов не превышает 400 тысяч, и опять-таки штабармом-8 приказано в день выдавать всего по 10 патронов на человека и по 40 на пулемет, что составит 150 тысяч патронов в день на всю дивизию. Категорически приказываю командирам полков прекратить расход патронов и особенно снарядов, открывая огонь только с близкого расстояния и по верным целям, и вместе с тем прошу командиров понять, что, расходуя много патронов и снарядов, они сами ведут дивизию и полки к гибели, так как в один тяжелый день окажется, что дивизия не будет иметь ни одного патрона, и люди разбегутся…»
Впрочем, только ли в патронах, снарядах была нужда?
«355-й полк. Недостаток обмундирования, много разутых и раздетых» — это из донесения комиссара полка политотделу дивизии.
«356-й полк. Хлеб доставляется несвоевременно и плохого качества. Мясо покупают у местного населения, которое продает по твердой цене неохотно. Красноармейцы разуты и раздеты, приходится без шинелей ночью лежать в цепи…
1-й заградотряд. Все без шинелей, и много босых. Недостаток продовольствия…
358-й полк. Всего в полку 315 человек совершенно босых, и от усиленного похода по скошенным полям и кочкам ноги разутых красноармейцев болезненно пухлы, и они выбывают из строя…»
Конечно, притом политкомы, как чаще называли тогда комиссаров, сообщали:
«355-й полк. Настроение красноармейцев бодрое. Поведение в бою отличное. По просьбе красноармейцев был повторен спектакль-митинг „Борьба за волю“.
359-й полк. Отношения красноармейцев с крестьянами товарищеские…
354-й полк. Необходимы бумага и карандаши. Нужна литература. Много интересующихся астрономией, географией и историей».
И в том же донесении:
«... Пойман пленный 4-го Мигулинского полка, с которого снят допрос. Получены следующие сведения. Против нашей дивизии действуют 4-й Мигулинский, 79-й, 1-й, 2-й, 50-й, 51-й и другие полки… 15 тысяч казаков при 30 орудиях. Масса офицерства. В каждом полку по 12 пулеметов…»
Противник, хотя и был выбит из Бутурлиновки, не прекращал наскоков конными разъездами, вылазок пешими отрядами, с особым упорством повторяя их то на правом — у села Ново-Архангельского, то на левом — у деревни Бурляевки — флангах дивизии.
Так — в «активной обороне», как говорилось в приказе начдива-40, - прошли на этом участке красного Южного фронта сутки, затем еще одни, начались третьи — 4 августа 1919 года.
• •
В сотне метров от неширокой дуги недавно вырытого окопа горел костер. Неяркий красноватый свет выхватывал из темноты десяток красноармейцев. Двое из них, караульные, присев на обрубок поваленного осокоря, положив на колени винтовки, покуривали. Остальные тут же, у костра, спали, подмостив сена, травы. Ночь выдалась теплой. Землянка никого не приманивала.
Еще четверка бойцов находилась в секрете у проезжей дороги, в восьмистах шагах от этого места.
Застава у Терехова, крошечной станции на железной дороге Бутурлиновка — Таловая, была тыловой. Линия фронта пролегла от нее в двадцати верстах южнее. Примерно столько же оставалось отсюда до Таловой, где стоял штаб дивизии.
Время тянулось медленно, неторопливо вился разговор.
— …Я подбежал: «Дяденька, на! Ты вот сейчас обронил». Что думаешь? Он первым делом плеть поднял, потом уже в седле ко мне обернулся.
— И забрал?
— Взъярился: «Марш отседова!»
— Это потому, что он в тебе иногороднего признал.
— Слушай, — продолжал тощий, со впалыми щеками, совсем еще молодой красноармеец. — «Ты, говорю, кисет доставал, кошелек твой выпал». Он меня плетью — ж-жах! «Будешь указывать, что у меня откуда упало!»
— Эка ты!
— Я бежать. Потом гляжу: кошелек-то старый, а денег в нем полтора рубля.
— Тогда на это погулять было можно.
— Еще бы…
Второй красноармеец, уже лет под сорок, с крупными чертами лица, босой, в рваном крестьянском кафтане, сказал:
— Обиделся, вишь, что перед иногородним растеряхой предстал.
— Да какая там ему была разница!
— Не говори. Я с малых лет по станицам. Батрачили. И батька, и сам я… У них, тебе скажу, если свадьба, то сперва у жениха да невесты по неделе гуртуются, потом по другим дворам идут. И вот послушай: чеп бьют. Кол такой. Кто его последним ударом в землю вколотит, тот и вино на гулянку в этот день всей компании ставит.
— Кто же его будет вколачивать? — изумленно и весело взглянул на напарника молодой красноармеец.
— Будет. И опосля до последнего гроша выложится. Честь! Дружков угостить, стариков, станичного атамана. У них свой — так свой. Зато ты вот, ну я приду, и что ему ни говори — не поверит. Для него коли не казак, так и не человек вовсе. Как отрезано.
— У-у, — глухо донеслось из темноты. Молодой красноармеец вскочил на ноги:
— Голос чей-то?
— Сова, — не отрывая глаз от костра, ответил его напарник.
— В поле роса, а пыль на дороге сухая, теплая. Мыши гулять выходят. Сова — тут как тут.
Молодой красноармеец свернул цыгарку, раскурил ее от головешки.
— Пойду, — он кивнул в ту сторону, откуда донесся глухой звук. — Огонька отнесу ребятам.
— Дуй, — согласился напарник. — Еще помрут, не куривши…
Шаги парня затихли вдали.
Костер догорал. Темнота становилась гуще. Караульный, ссутулясь, вглядывался в язычки пламени, пробегавшие по раскаленным углям.
В той стороне, куда ушел красноармеец с цыгаркой, послышались ругань, крики, затем приближающийся топот.
Подбежал один из тех бойцов, что находились в секрете.
— Где взводный? — спросил он.
— Спит, — ответил караульный.
— Где он? Который?
— Пусть спит. Просил, пока светать не начнет, не тревожить. Один из лежавших возле костра зашевелился.
— Что там? — спросил он.
— Пластуна поймали, — ответил подбежавший красноармеец.
— Дезертир?
— Кто его знает.
Взводный поднялся, застегнул шинель, затянул ремень с кобурой, поправил на боку полевую сумку.
К костру уже подходили. Трое красноармейцев плотно обступали невысокого мужчину в галифе, в гимнастерке, в ботинках. Слипшийся от пота чуб косой прядью пересекал лоб.
Взводный сделал шаг навстречу:
— Этот?
— Он самый, — задыхающимся от радости голосом ответил молодой красноармеец. — Иду, а он притаился, рожу, чтобы не белела, к коленям прижал. Я сперва подумал: пень. Потом гляжу — пень-то мой побежал!.. А до секрета полсотни шагов. Я туда. Со всех сторон обложили. Он просит: «Не стреляйте. Свой!»
— Оружие было? — спросил взводный.
— Нет. Ничего не нашли. При нем только вот это, — красноармеец протянул взводному сложенный в малую долю газетный лист.
Взводный расправил его, поднес к костру и, даже не вчитываясь, сразу узнал: «Правда»! Та самая, которая выходит в Москве!
— Это что же? — он озадаченно смотрел на задержанного. — Вместо пропуска?
— Ваш я, — тот приложил к груди руки. — Ваш.
— Жаль, что ты пушчонку с собою не приволок. Мы бы тогда еще больше поверили, — отозвался взводный.
Поднялись остальные красноармейцы, обступили задержанного. Один из них бесцеремонно рванул его за штанину:
— А галифешки-то ничего! Задержанный встревожено оглянулся.
— Не бойся, — продолжил боец. — Если б с лампасами… Вот разве только ботинки твои кому подойдут…
Ботинки на задержанном были рваные. Все рассмеялись. А тот проговорил совсем уже смело:
— Товарищи! В газете, что вы у меня нашли, подлинная казачья правда.
Кто-то из красноармейцев подбросил в костер хвороста. Стало светлей. Теперь взводный уже с улыбкой смотрел на задержанного. И тот, ободренный этим, заторопился:
— Я, когда ее прочитал, не пойму, что со мной сделалось. Ну чего генералам служу? Против братьев сражаться!.. У нас там среди народа голод. Только и живут спекулянты да лавочники. Честному человеку одна дорога — тюрьма…
Взводный смотрел на него все так же с улыбкой, наконец сказал:
— Да верю. Первый ты, что ли, такой?
— Я так и знал, — подхватил задержанный. — Товарищи!..
— Кто на часах сейчас? — спросил взводный. Отозвались те двое, что и прежде были караульными.
— Отведете в землянку. Один возле останется, — обратился к ним взводный и, обернувшись к задержанному, добавил:- Сам знаешь — служба.
— Товарищи, — начал было задержанный. — Я всей душой…
— И мы также, — прервал его взводный. — Утречком в роту доставим, там о себе все расскажешь. Может, потом в наш взвод служить придешь. Всяко бывает… Идите.
Взводный присел на обрубок осокоря, вновь по своим местам расположились бойцы.
Караульный постарше возвратился к костру, неся поясной ремень и ботинки задержанного. Швырнул к ногам взводного, сел рядом с ним.
— Зачем так-то уж? — укоризненно проговорил взводный. — Знаешь, что за это бывает?
— Не дам, — упрямо ответил тот. — Не к сватье на пироги. Я с самой весны босой. И в свое время от ихней братии натерпелся.
— Вернешь, — уже с угрозой продолжал взводный и кивнул на ботинки:- Ишь ты! Еще и под нос мне совать…
Прекрасны в этом краю августовские предутренние часы. Понемногу светлеет восточная сторона неба. Поначалу неуверенно, изредка, но все громче раздаются птичьи голоса. Временами налетает теплый ветерок, и словно бы это он сдувает пелену ночной темноты с дальних и ближних горушек, низин, деревьев, кустов, и они как будто проявляются, откуда-то выплывают.
Взводный глядел в огонь. То же, сидя с ним рядом, делал и караульный. Потом он поднял ботинок, повертел в руках: ботинок был явно нерусского фасона — с широким рантом, с рифленой подошвой. Грязь на нем и то, что верх его местами полопался, караульного нисколько не отталкивали. Он ощупывал, мял его, потом, продолжая свое исследование, сунул руку внутрь. Стелька мешала. Он ее вынул. Под стелькой было что-то еще. Он вынул и это: металлическая, сложенная вдвое, тугая пластинка. Караульный разжал ее. Внутри белел листочек бумаги.
Взводный протянул руку, раскрыл листок. Он был исписан колонками цифр. Взводный не раздумывал. Тотчас он спрятал листок в нагрудный карман гимнастерки, оторвал осьмушку от первой попавшейся в полевой сумке бумажки, втиснул ее в металлический зажим, вложил его в ботинок, прикрыл стелькой, поставил ботинок на землю, наклонился к караульному:
— Чтобы никто ничего. Понял? И обувку вернешь. Скажешь, временно брал. Чтобы не смог убежать. Так, мол, положено.
Тот утвердительно кивнул.
— К утру не вернусь — к командиру роты доставишь. Головой отвечаешь…
Из допроса у командира роты:
— …Третьей сотни?
— Ну да. Я и говорю. Я все вам, как на духу.
— А полк?
— Что-полк?
— Номер полка какой?
— Бес его знает. Сколько раз меняли! То сорок четвертый, то десятый был. Сейчас какой — так и не знаю… Я вам правду. Истинную правду. Не верите?
— Что ты, милок! Верим тебе мы…
— Я всей душой. Такие слова!.. Трудящийся казак! У тебя общие цели с крестьянином и рабочим. Будем же вместе, плечом к плечу, строить новую жизнь… У настам измываются господа-благородия.
В нашем полку казаки пытались подняться: «Доколе война?» Их в плети! Расстрелы да порка. Приказ такой от Деникина. — Да верим тебе мы, верим…
• •
Из допроса в штабе батальона:
— …Та-ак. Третьей сотни, значит. Тут ты не врешь?
— Да я все вам точно, товарищи!
— Сколько сейчас в сотне сабель?
— Девяносто пять. Еще коноводы, кузница, швальня.
— А во всем полку сколько?
— Откуда мне знать?
— А если подумать? Это ведь нашему делу большая помощь. Оно теперь и твое. Да кто и поверит, что не знаешь? Неужели вас всем полком ни разу не собирали?
— Не собирали. Всюду одной своей сотней… Сколько ден уже! Истинный крест!
— Ну а где сотня стояла, когда с тобой все это стряслось?
— Скажу. На хуторе за Бурляевкой, верстах в десяти.
— Хутор как называется?
— Кто его знает? Пришли туда вечером, темно было. Жителей у домов — ни души. Спрашивать у своих? Никому не известно. Шли-то ведь строем. К сотенному разве сунешься? А утром еще до подъема меня арестовали. «Ты что это, говорят, казакам большевистскую газету читал? Как ты смел? Знаешь, что за такое бывает?» Двое суток на воде да хлебе! Сапоги отняли, мундир отняли. Швырнули дранье. Командир полка зверем орал: «Всю часть опозорил! В штаб корпуса отвезут — запоешь!..»
— Видишь как? Значит, на хуторе был сразу весь полк размещен, коли сам командир тобой занимался. Разве не так? А говоришь: «Одна только сотня… Номера полка не знаю… Кто командир, не знаю…»
— Не отрицаю. Товарищи! Прямо спросили — пожалуйста! Это скажу: Космачев.
— Имя как? Отчество?
— Куприян… Куприян Капитонович. Полковник. Чего тут скрывать? Я всей душой…
— Номер полка? И не темни. Мы проверим. В твоем положении врать…
— Где же я врал? Товарищи!
— Мы проверим. По фамилии командира. Ты понял? Либо ее наврал, либо сейчас будешь врать… В твоем положении…
— Пожалуйста! Сорок восьмой конный.
— Дивизия?
— Откуда мне, рядовому? Хоть бы уж я урядник был… Другое дело!
— Дураками ты нас не считай.
— Това-арищи, я же к вам…
— Так и давай тогда выкладывай. Командира полка знаешь по имени-отчеству, а номер дивизии тебе неизвестен? Кто поверит? А еще говоришь: «Всей душой к вам».
— Ну хорошо. Скажу. Тринадцатая донская. Генерала Толкушкина.
— А корпус?.. Да говори, говори! Это проверка тебе. Думаешь, мы не знаем, в какой корпус ваша Тринадцатая дивизия входит? Дивизия! Не иголка же в сене.
— Генерала Мамонтова, Четвертый конный.
— Вот это другое дело. А то крутишь-крутишь. Не видать, что ли?.. Штаб корпуса, куда тебя грозился командир полка отправить, где стоит? Тоже будешь крутить?
— Разве я кручу? В Березовке… Я вам всю правду…
• • •
Из допроса в штабе полка:
— …Вы сказали, что штаб корпуса расположен в Березовке?
— Так и есть. Когда мы только-только на хутор пришли, слышу, командир полка приказывает: «Послать курьера в Березовку, в штаб корпуса». У меня сестра в том селе замужем, вот и запомнилось.
— Ваша сотня пришла на хутор, и вас сразу арестовали?
— Никак нет. Это уже утром было. «Откуда у тебя, спрашивают, — большевистская газета? Кто тебе ее дал? Кому ты ее из казаков читал? Не хочешь сказать? Под арест!» А газету-то не отобрали. В кисете моем осталась. Я ее сразу под стреху в сарае спрятал. Думаю: «Теперь пойди докажи». На следующий день выводят: «Одумался?» Молчу. «Ах так! Мы тебя, подлеца, расстреляем. Такой-то на тебя показал и такой-то». Не пропадать же! За ночь стенку руками подрыл — вот, смотрите, кожа ободрана…
— Сегодня четвертое августа. Вчера весь день вы шли к линии фронта.
— Быстрей-то, по лесам хоронясь, разве пройдешь? Даль такая! Верст сорок, не меньше.
— До того двое суток находились под арестом. Значит, курьера в Березовку командир вашего полка посылал четверо суток назад, то есть тридцать первого июля.
— Так точно. Мы только на хутор пришли. Еще кони не расседланы были.
— Как объяснить тогда, что, вопреки вашим показаниям на допросе в штабе батальона и вот здесь, сейчас, на самом-то деле, как нам совершенно точно известно, штаб Четвертого конного корпуса стоит в Березовке лишь с позавчерашнего дня?
— Как с позавчерашнего? Не может с позавчерашнего! Вы, товарищи, подозреваете? Я всей душой. Да что же вы?
— Снимите правый ботинок.
— Товарищи? Как это понять? Вот и статья в газете… И приказ Реввоенсовета вашего был: с пленными обращаться как с братьями. Другое дело — казаки. Разденут, разуют — и в балку… Я даже не пленный, я по своей воле к вам.
— Держите его. Дайте ботинок. Что это?..
• • •
В избе, где шел допрос, находилось тогда шесть человек. Этот задержанный, четверо красноармейцев и политком 356-го полка, приземистый широкоплечий мужчина лет тридцати, в кожаной тужурке и кожаной фуражке с красной звездой на околыше. И вот он-то поднес к глазам задержанного вынутый из металлического зажима листок:
— Что это?
— Не знаю, — лицо задержанного заблестело от мелких капель пота. — Поверьте… честное слово…
Тут же, высвободив руку, он выхватил этот листок, сунул в рот и начал жевать.
Его сбили с ног, стали душить. Он мычал, извивался, бился головой об пол и — жевал, жевал. Как трудно, оказывается, проглотить комок бумаги!
Наконец это ему удалось. Перестав сопротивляться, он обессилено вытянулся всем телом.
Его поставили на ноги.
— Дура, — сказал политком. — Твой вот где.
Из ящика стола он вынул другой листок, но теперь уже держал его подальше от задержанного.
— Три, семь, восемь, один, пять, — начал было читать он и резко оборвал себя:- Хватит волынить! К кому шел? Ну? К кому?
Задержанный вновь задвигал челюстями, и так яростно, что политком рассмеялся:
— Дожирай, дожирай… Вот же он, подлинник.
Судорогой свело все тело задержанного. Его опять повалили, стали раздвигать зубы. Политком растолкал всех, упал на колени, склонился к самым губам его:
— К кому шел, говори! Задержанный прохрипел:
— Сегодня всех вас порубят, мерзавцы. Глаза его остекленели.
— Отравился.
Политком 40-й дивизии Михаил Ермоленко прищурясь смотрел на политкома штаба дивизии Григория Мишука. Тот продолжал:
— За щекой у него была капсула с ядом. Допрашивающие этого не заметили. Думали, все еще жует подсунутую ему бумажку.
— Ошибка грубейшая.
— Кто мог подумать? Считали: пусть пожует. Потом подлинник записки предъявят, скиснет.
Ермоленко молчал, и по виду его нельзя было понять, достаточно ли ему этого объяснения.
— Что несомненно? Шел он к кому-то сразу за линией фронта: с собой ни шинели, ни еды, ни денег, ни оружия. С расчетом, что вскоре встретят, выйдет к своим.
— А если расшифровать записку?
— Этим займутся. Но сегодня надо не упустить другое: пока свежо, опросить всех, кто с ним встречался в полку, в роте, во взводе. Не пытался ли он уже кого-то известить о своем задержании?
— Кто вел допрос?
— Политком Триста пятьдесят шестого полка. — А-а, я его знаю.
— Да. Рабочий, хороший парень. Сто раз проверенный делом.
— Вот ему и сказать: или он этого курьера раскроет, или — под трибунал. Можно ведь и так толковать: специально дал ему умереть.
— По-твоему, он намеренно сделал?
— Нет. Но, понимаешь, в каком мы все теперь положении? Могу я думать, что этот курьер шел к тебе? Сюда, в штаб дивизии, в Таловую… А ты можешь думать, что шел он ко мне… И на начдива можно подумать.
— А он на нас. Они помолчали.
— О последних словах этого курьера доложили начдиву? — спросил Ермоленко.
— Да.
— И что он? — Учтет…
В десять часов утра того же дня начдив-40 Василенко отдал приказ о немедленном уходе из Таловой обоза дивизии. В самом приказе никакой мотивировки решения не приводилось, вызвано же было оно неопределенностью, внезапно возникшей в раздумьях начдива.
Вопрос о том, к кому на связь шел задержанный у станции Терехово курьер, Василенко совершенно не интересовал. Другое! Почему этот человек все же оказался именно у той станции? Судя по ночным донесениям, активность противника по-прежнему проявляется лишь на флангах дивизии. И прямо на центр ее позиций, и уже на двадцативерстной глубине от передовой, выходит вражеский курьер. Случайность? А не затем ли, чтобы внушить, и в первую очередь ему, начдиву-40, что здесь-то казачье войско и намерено нанести главный удар? А такой удар может быть. Будет! Мысль об этом утвердилась в сознании его еще неделю назад, задолго до наступления на Бутурлиновку. Он стал думать так, в сущности, с той самой минуты, когда из сообщения Агентурной разведки 8-й армии узнал, что в белом тылу, почти напротив его дивизии, всего в какой-то сотне верст за линией фронта расположен корпус Мамонтова. Отдыхает, пополняет состав. И все время, пока шло наступление на Бутурлиновку, Василенко помнил об этом и, едва оно завершилось, сосредоточил резервы дивизии — три стрелковых полка — в восточном секторе, у деревни Елань-Колено. Там был стык с 9-й армией. Самое, в общем-то, уязвимое место.
Но какой неожиданный поворот событий! Вражеский тайный курьер объявился в пятидесяти верстах западней! И поведал: «Я из корпуса Мамонтова», — и: «Сегодня всех вас порубят». И это «вас порубят» он сказал, пребывая уже в таком состоянии, что не поверить в его слова очень трудно.
Резервы дивизии ограничены. Так, может, курьер провалился сознательно и себя самого не пожалел ради того, чтобы они были отведены под Терехово? Или под Таловую, что оперативно, впрочем, то же самое. При ударе с юга на север эти станции лежат на одном направлении.
Для переброски бойцов каких-либо транспортных средств у дивизии нет. Пеший марш. И вот, едва только резервы отдалятся от Елань-Колена, белоказачья конница молниеносно обрушится на стык армий. Прием очевидный. Значит, резервы трогать с места нельзя. Но и нельзя не считаться с тем, что удалось узнать от курьера, а верней — с самим фактом его появления. Следовательно, единственный шаг, который можно уже предпринять, это убрать из Таловой обоз. Пока подводчики раскачаются да сложат все на возы, запрягут… Сегодня же пусть выступают на север, к Александровскому поселку. Двадцать верст. За день или хотя бы за два осилят. В случае чего, это облегчит потом маневрирование полкам, штабу.
Так. Только так. Как единственная уже сейчас возможная ответная мера.
Василенко думал об этом, стоя в штабной избе у распахнутого окна. Ярко светило солнце. Мир за окном был ослепителен, зелен…
• •
А на заставе под Терехово тем временем шла обычная жизнь. Повар запоздал. Кашу разобрали в одиннадцатом часу дня. Ложками работали ловко, переговаривались:
— ... Казаки услышат — решат: пулеметы стрекочут.
— Пулемет разве так? Он: та-та-та…
— Накличешь!
— Не! Сегодня уже не начнут. Кавалерист любит по росе налетать. И конь тогда резво идет, и шашка — жик-вжик! — не затупится.
— Ты, что ли, пробовал?
— Знаю… Теперь-то уж до завтрашнего утра всяко доживем…






