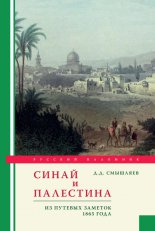Танец бабочки-королек Михеенков Сергей

– Под Юхновом, товарищ командующий!
Командарм снова окинул взглядом старшину:
– Значит, готовы снова драться?
– Точно так, товарищ командующий!
– Ну вот и молодец. Поправляйтесь и – в свою сто тринадцатую.
Таня занялась перевязкой, ловко пеленая старшину Нелюбина поперёк груди. А Маковицкая повела командарма в палату, где лежали тяжелораненые.
Возвращаясь в избу на краю посёлка, старшина Нелюбин кутался в шинель, которую ему выдали на госпитальном складе и которую он аккуратно заштопал суровой ниткой в трёх или четырёх местах, подкоротив её снизу на ладонь, чтобы выкроить материю на заплатки. Ещё и ещё раз он возбуждённо переживал разговор с командующим. Генерала в своей жизни он видел впервые. И теперь, восстанавливая в памяти все подробности случившегося, вдруг спохватился, что, глядя на генерала, не разглядел главного – генеральских лампасов. У генерала ведь должны быть галифе с красными лампасами! А их-то он и не видел. Вот и получается, что генерал ли это был? Действительно ли командующий армией? Не знал старшина Нелюбин, путаясь в своих сомнениях и одновременно радуясь случившемуся, что очень скоро судьба вновь сведёт их вместе…
Зима между тем наступила нешутейная. Медлила, медлила, перемежаясь с дождя на мокрый снег, с ночных морозцев на дневную гололедицу, да и завалила поля и леса снегами, придавила крыши домов и надворных построек, стожки сена и поленницы дров. День ото дня всё крепче и основательнее прижимали морозы. Вечерами в полях таяло калёное сплюснутое солнце, а после заката на полнеба выплёскивалось и долго стояло сизое, с зеленцой, морозное зарево. Ночами в овраге с упругим эхом лопался перемёрзший ручей. Старуха, занимавшая печь, крестилась, шепча торопливую молитву и снова мучительно и беспокойно захрапывала в сонном своём тепле. Не спали только танкист Серёга и старшина Нелюбин. Башенный стрелок Т-26, Серёга после ранения и контузии плохо переносил ночь и тишину. Если вдруг и засыпал, его начинали мучить кошмары, он кричал, звал своего лейтенанта и зло матерился. Замковый «сорокапяточник» Саушкин говорил в таких случаях:
– У Серёги опять башню заклинило…
Саушкин тихо, стараясь никого не разбудить, накидывал на перевязанное плечо шинель и выходил во двор покурить.
Ранило Серёгу действительно после того, как их лёгкий Т-26, неосмотрительно выскочивший на опушку леса, атаковали сразу два Т-III. Болванка, выпущенная немецким стрелком, заклинила башню. Механик-водитель резко включил заднюю и загнал машину в лес. Пока выбивали стальной сердечник бронебойного снаряда, немцы окружили их. Серёга начал отстреливаться, посылая в поле снаряд за снарядом. Там мелькали коробки немецких танков, и следом за ними чёрным прерывистым пунктиром перебегала пехота. В лесу их снова засекли. С третьего или четвёртого выстрела Т-III, зайдя сбоку, поджёг их танк. Серёга запомнил сильный удар, треск лопнувшей стали и дым, мгновенно заполнивший тесное пространство, в котором он все эти минуты боя торопливо работал возле орудийного замка.
– Серёг, – спросил его после одной из таких ночей старшина Нелюбин, – а кто такой Семёныч? Командир твой, что ли?
– Да нет, лейтенанта моего звали Иваном Николаевичем, – ответил танкист, догадываясь, что что-то наговорил во сне. – Это я, наверное, про деревню эту бредил, про Малые Семёнычи. Бой там у нас был. Там, под Малыми Семёнычами, и сгорел наш танк. И танк, и все ребята…
Старшина Нелюбин из рассказа Сереги знал, что в танке погибли и лейтенант, командир их танкового взвода, и механик-водитель. Серёгу из горящей машины вытащили пехотинцы и, отступая, унесли с собой в лес. Потом вместе со своими ранеными доставили в медсанбат.
Серёга лежал до утра с открытыми глазами. А утром натягивал на голову одеяло и до полудня засыпал крепким сном.
Иногда и старшине Нелюбину не спалось. И он тихо переговаривался с Серёгой.
– Серёг, ты родом-то откуда? – спросил он в одну из первых таких ночей.
– Ярославский, – ответил тот, немного округляя «о». – Городок у нас такой есть, Переславль-Залесский называется.
– Большой город-то?
– Нет, небольшой. Меньше Наро-Фоминска.
– Ну, Наро-Фоминск-то большой… А речка у вас там есть?
– Есть. Нерль называется. И озеро есть.
– Большое?
– Большое. Называется Плещеево. Слыхал про такое? Сказка даже есть про наше озеро. Как-нибудь расскажу. А ты откуда родом?
– Я смоленский.
– Значит, твой дом под немцем сейчас?
– Под немцем…
И после этих слов на старшину Нелюбина накатывала такая тоска, что хотелось вскочить с постели и бежать куда-нибудь в поле. Все минувшие месяцы ему некогда было и подумать о доме, о Настасье Никитичне, об Анюте и Варюшке. Сыновей, правда, вспоминал часто. И даже не то чтобы вспоминал, а всё выглядывал, чая встретить их где-нибудь на фронтовых дорогах. Хотя бы кого-нибудь.
Сыновей у Нелюбина было двое. Старшему, Авдею, двадцать четыре года. Весной стукнуло. Действительную отслужил. Собрался было жениться, в Рославле невесту себе нашёл, городскую. Медсестрой в больнице работала. Думали, мирно до Покрова дожить. А тут натебе… И Покров, и Казанская обернулись Родительской субботой… И конца той субботе не видать. На фронт они с Авдеем ушли вместе, в один день. Но в запасном полку начальство их разлучило. В такую пору кто будет с чужим родством считаться? Стали набирать механиков-водителей в танковую бригаду, которая стояла под Смоленском. Авдея – туда. Хотел и Нелюбин в бригаду записаться, шаг из строя сделал уверенно, следом за сыном. Подумал: куда ж я от него? Да где там? Майор, который построение делал, спросил: мол, какая специальность, и скомандовал: «Кругом! Марш!» А куда марш? Известно куда, в пехоту. Единственный транспорт, которым Нелюбин управлял со знанием дела и в котором разбирался досконально, была лошадь. С такими знаниями в танковые части не берут… Младший сын в армии пока ещё не служил. День рождения у него в конце ноября, двадцать шестого числа. Исполнилось девятнадцать. Призывной возраст. Гераська, младший. Может, тоже забрали под ружьё. Воюет. А может, и не успели мобилизовать, с матерью остался. Так оно тоже бы неплохо. Вдвоём-то легче беду пережить…
– Серёг, – позвал он танкиста, – а мой-то старший, Авдей, на тяжёлом танке воюет. На КВ.
– «Клим» – хороший танк, – со знанием дела пояснил Серёга. – Немецкие тридцатисемимиллиметровые «колотушки» их броню не пробивают. На «климе» воевать можно. А лёгкие горят, как спичечные коробки.
– Его Авдеем зовут. Авдей Кондратьевич Нелюбин. Сержант, механик-водитель.
– Ты ж мне о нём уже три раза говорил, дядя Кондрат, – отвечал танкист.
– Да помню я. Знаю, сынок, что говорил. Это я тебе напоминаю. Так, на всякий случай.
– Нет у нас в пятой на «климе» такого механика. Я всех своих знаю.
– Но ты запомниимя – Авдей Нелюбин из деревни Нелюбичи Рославльского района Смоленской области. Может, где встренешь. Тогда обскажи ему, как мы тут, в тылу, баранину трескали.
Вскоре разговор иссякал. Старшина Нелюбин не хотел больше беспокоить Серёгу. Может, уснёт нетревожно. Поспит. Отдохнёт танкист. Ведь должна же когда-то пройти его контузия. Он смотрел в тёмный потолок, на чёрные доски, забранные ровными рядами под широкую могучую матицу. На улице по искристым морозным снегам скользила яркая луна и, отражаясь от плоских склонов и горбов сугробов, заглядывала смутным рассеянным светом в низкое оконце. А может, просто глаза привыкали к темноте, и старшине вскоре стали хорошо различимы белый угол печки, пёстрая занавеска, дощатые полати, застланные соломой, на которых лежал танкист Серёга и тоже безмолвно смотрел в потолок, мучая себя бессонницей.
Настасье Никитичне конечно же вдвоём с сыном будет легче перебедовать эту беду. Настасья-то Никитична дом не бросит. В беженцы навряд ли пойдёт. И немца не побоится, лишь бы дом не бросать. Уж такой она человек. К ухватам своим, да сундукам с рухлядью, да к углам родимым так привязана, что, кажется, если надо погубить Настасью Никитичну, надо просто оторвать её на какое-то время от своего двора, от забот-хлопот, и она тут же и погибнет на той чужбине…
После полуночи чёрные потолочины стали видны более отчётливо. Окно посреди горницы сияло белой узорной морозной шторкой. Если закрыть глаза, думал Нелюбин, то можно представить, что вот ты вроде как и дома. Старшина закрывал глаза. Но тут же слышал неестественно-торопливое, в полубреду-полусне, бормотание танкиста:
– Лейтенант!.. Лейтенант!..
Нет, ничего не получалось. И не танкист Серёга ему вовсе мешал. Он сейчас покричит, покричит и уймётся. Замковый Саушкин разбудит его и сам выйдёт во двор покурить. И тогда, в тишине, можно будет снова закрыть глаза. Но одно он знал, и это было нерушимо-правильным: невозможно закрыть глаза в чужом доме, а открыть в родном.
Родина старшины Нелюбина – село Нелюбичи. Село небольшое, в тридцать шесть дворов. С церковью на бугре. Под той церковью, лет десять как закрытой, под старыми липами и вязами – кладбище. Древнее-предревнее. Липы и вязы растут тремя правильными симметричными аллеями. Сажали их, как гласило местное предание, ещё при царице Екатерине по приказу и чертежу здешнего помещика. Между теми аллеями двумя рядами, такими же ровными, лежат могильные курганы с крестами и без крестов. Часть дворов стоит неподалёку, начинаясь почти от кладбища. А часть на другом бугре. Между ними речка Острик. Острик – приток Остра. Остёр – речка глубокая, омутистая вроде Угры. А Острик вроде Шани. Живут в Нелюбичах, что на Храмовом бугре, что в Заречье, одни Нелюбины. И вроде бы не родня друг другу, а только соседи, но в каждом дворе – Нелюбины. Настасью Никитичну он из другой деревни брал. Но и у неё девичья фамилия – Нелюбина. Расселились Нелюбины из Нелюбичей по всему обширью здешней округи. Так что и документов менять не пришлось. В сельсовете, когда расписывались, спросили: мол, не на сестре ли женишься, Кондрат? А он ему, секретарю-то сельсовета: «На бабушке твоей внучки, дурья твоя башка». Тот, секретарь, – всё же начальство – оскорбился, расписывать не хотел. Упёрся: мол, пока справку с печатью гербовой не представите, что вы не состоите в родственных отношениях, даже дальних, расписывать не станет. А где такую справку взять? Разве что у него самого, в сельсовете? Только у секретаря такая печать, которая любую бумагу делала документом, а любую справку – действительной. Ладно. Мать со свахой походили вокруг сельсоветской избы, отнесли секретарю корзиночку с первачом и хорошим куском окорока, и дело было обделано. Расписали молодых честь по чести.
Жили душа в душу. До той самой поры, пока Кондрата не стали звать-величать Кондратом Герасимовичем, потому как избрали его на очередном общем собрании председателем колхоза. Вот как стал он начальством, тут и пошла куролесина в их семейной до той поры безупречной в моральном отношении жизни. Он – день и ночь в бригадах. То в поле лён под снег ушёл, то с севом запарка, запаздывает колхоз с темпами, проценты всему району портит, из райкома звонят, стращают всеми чертями, то сено надо поскорее сметать, чтобы под дожди не упустить, не попортить добро, а то весной опять коров придётся за хвост поднимать, то на той же ферме догляд нужен, бык заболел, ветеринара из района вызвать… Как конец квартала, так отчёты пошли, бумажная морока. Ох и не любил же он этих бумаг! Пропади они, правда что, пропадом. Вот на Извери Леонтий Акимович Мамчич, командир курсантской роты, приказал ему строёвку составить. Тоже выдумал мучение. Легче ещё три метра траншеи прокопать. А из райкома, из райисполкома так и тянут за душу: давай да давай, Нелюбин, всю положенную отчётность по полной форме на тридцати двух листах! Тут-то как раз эта счетоводка, Анюта, со своим покладистым характером, молчаливой нетребовательностью и уважительностью и подвернись ему. Всякие счёты и подсчёты, итоги и балансы, расходы и остатки так и укладывались у неё в ровные столбики. Всё она быстро сообразила, какую циферку в какую клеточку занести. И вроде пошло дело. И камень – с души. А с плеч – гора. Сдали так однажды по осени балансовую отчётность да и поехали в свои Нелюбичи. На радостях, что всё прошло хорошо да гладко, без ругани и каверзы, что колхоз с прибылью в зиму пошёл, что можно будет раздать народу по нескольку пудов соломы, мякины и даже товарного зерна, Кондрат Герасимович купил в сельповском магазинчике на выезде из райцентра бутылочку зелёной, колбасы на закуску, банку рыбных консервов, которые прежде никогда не покупал, а ещё конфет и печенья – специально для счетоводки. Он и раньше поглядывал на Анюту коршуном. А тут, когда садились возле магазина в его председательскую бричку, обдала она Кондрата запахом своего молодого тела, и он сразу понял, что в этот раз дорога ихняя до Нелюбичей будет долгой. Это ж оно так: с кем по грибки, с тем и по ягодки. Старики ещё говорили. Так что такое дело задолго до него пошло…
Анюта росла сиротой, без отца. Кроме неё у матери ещё двое девок. Вскоре Анюта забеременела. Скандал! Однако ж дело до райкома партии долго не доходило. Кондрат Герасимович взялся помогать Анюте. Вскоре она родила девочку. Назвала Варварой, по имени Кондратовой бабки, которая её когда-то, давным-давно, нянчила и о которой Анюта пожелала сохранить благодарную память. Ничего она от него не требовала. Придёт когда – рада. Обовьет горячей рукой, прильнёт животом и грудью, задрожит. Как тут скоро уйдёшь? А не навестит неделю и другую, за работой да за председательскими своими хлопотами, она и такого, необязательного и забывчивого, ждёт-пождёт терпеливо. И встретит потом без укора.
Настасья Никитична сперва оземь ударилась. В слёзы! В крик! Бранилась на него обидно, каких только слов от своей жены тогда Кондрат не наслышался: и «пегой цыган», и «мышиный жеребчик», и «заугольник», и «девушник», и «сенотрус»… Где она только таких-то слов насобирала? В райком грозилась поехать. Сынами стращала. Но потом поутихла и вроде как смирилась. Он с некоторых пор всегда ночевал дома, характером даже смирнее и покладистее стал. Теперь подолгу не задерживался в районе с отчётами. Бухгалтера завёл: бывший церковный пономарь согласился вести и содержать в надлежащем порядке всю колхозную цифирь. Сыновья тоже на отца коситься перестали и, более того, вроде как признали маленькую Варю сестрой.
Село тоже помалкивало. Сироту председатель не обидел. Люди видели, что дочка у Анюты растёт на Кондратовых куличах. В сельсовете Варвару записали Кондратьевной. Всё шло своим добрым ладом. Но кто-то ж всё-таки качнул звоночек, и долетел тот звон до нужных ушей в районе. Кому-то не угодил Кондрат. И то сказать, на такой должности разве ж всем угодишь? Вызвали куда надо: ты что же это творишь там, сукин ты сын, троекуровщину, барщину развёл! И неизвестно чем бы всё дело закончилось, если бы не война. В июне, на двадцать четвёртое число, его снова вызвали в райком партии. Кондратий Герасимович уже знал, по чью шерсть его туда опять тянут… А двадцать второго как грянуло, вечером в Нелюбичи прибыл человек из военкомата, а наутро следующего дня ровно тридцать мужиков из их села прибыли на станцию, грузиться в эшелон, отбывающий в сторону Смоленска. Среди новобранцев был и Кондратий Герасимович Нелюбин. И втайне он даже подумывал на первых порах такую глупую думу: и, слава богу, что война, с немцем-то недолго воевать придётся, шею ему скоро намнём, а там ему, Кондрату Нелюбину, всё за его патриотический порыв и геройство разом по всем статьям и параграфам спишется. Простят ему и Анюту, и партийные прегрешения, и всё то, что не успевал, бывало, в председательских делах…
Два письма всего и получил старшина Нелюбин с родины: одно – от Настасьи Никитичны, другое – от Анюты. И та и другая сообщали новости и желали ему доброго здравия и скорейшего возвращения домой…
Под утро, когда в окне уже стало синеть другим светом, он сомкнул отяжелевшие веки. И приснилась ему такая несуразица, что он больше и не пробовал соблазнять себя сном: будто всё же вытребовали его в райком, на двадцать-то четвёртое число июня месяца, заходит он в кабинет к первому секретарю, тот сидит за столом, что-то строчит, но вдруг поднял голову – ох, ёктыть! – а лицо-то чужое! Лицо-то младшего политрука Гордона! Гордон смотрит на него и усмехается, пальцем прямо в грудь тычет, где у старшины ещё болит порой: «Ну что, Нелюбин, бросил своих ребят на Шане?»
Вот и раскидывал теперь умом: к чему бы этот сон? Во-первых, война войной, а в райком его всё же вызвали. И, главное, – Гордон! Может, Фаину Ростиславну спросить о Гордоне? Кто говорит, что его убило в командирском санитарном автобусе на дороге, кто – другое. Будто, мол, его там и не было. Что никто его не видел уже во время эвакуации. Кто что. Но потом передумал: ну что я буду допытываться по чуждому делу? Никогда вроде не был в чужой судьбе доглядчиком. Однако некоторое время лицо младшего политрука застило ему глаза. Вот, ёктыть, навязался, чуть не выругался он вслух и вспомнил, что знал и другого еврея, Масей Масеича. Так его все звали. Работал тот Масей Масеич в заготконторе кладовщиком. И Кондратию Герасимовичу не раз приходилось с ним иметь дело. Масей Масеич, надо сказать, был человеком смышлёным в своём деле, оборотистым. И умел всё выправить так, что комар носа не подточит. Председатели колхозов его уважали. Не исключением был и он, Нелюбин. Умел Масей Масеич помочь надёжному человеку и рублём, и советом. Как, к примеру, этот рубль поскорей да повеселей, да чтоб ни блошка не чихнула, к себе в руки закатить. Председательская нужда такая: деньги всегда надобны, чтобы дело нужное вовремя обделать, не упустить ни сроков, ни выгоды. Без дёгтя ни сапог не носится, ни колесо не крутится… Где теперь этот Масей Масеич? Ведь не старый мужик ещё, его, Нелюбина, лет. Может, тоже война захватила. Однако старшина не мог представить кладовщика Масей Масеича с винтовкой в руках в траншее. Небось опять по своей специальности где-нибудь служит не тужит, подумал старшина Нелюбин, завершая свои довоенные думы.
Утром он попросил у хозяйки топор и пилу и пошёл в коровник. Три дня назад, во время налёта «юнкерсов» на большак, когда пикировщики прихватили в поле и подчистую разделали автоколонну с боеприпасами, двигавшуюся от станции Апрелевка к передовой, один «лаптёжник» отвалил от стаи и, пролетев над посёлком, сыпанул мелкими бомбами вдоль улицы. Метил, должно быть, в пилораму. Там побило рабочих и бойцов из хозроты. Загорелись штабеля досок и материалов, но пожар тут же затушили. Одна бомба, видать, неурочно выскользнув из бомболюка, упала на усадьбу, где квартировали старшина Нелюбин, танкист Серёга и «сорокапяточник» Саушкин. Взорвалась она на огороде. Никто от неё не пострадал. Взрывной волной снесло половину крыши хлева, разворотило угол, выломало несколько брёвен простенка. Куском бревна перебило ноги и спину годовалой ярке. Другая скотина, слава богу, не пострадала. А ярку, делать нечего, пришлось забить. Резал её старшина Нелюбин. Шкуру, как положено, снял, заморозил в сенцах. Тушу повесил на пялах там же. И хозяйка каждый день теперь варила им наваристые щи из баранины. Отрежет полоску рёбрышек, так чтобы каждому по кусочку мясца хватило, и – в чугунок да в печь.
Негоже было пролёживать бока да на дармовщинку пользоваться добротой хозяйки. Надо было как-то отблагодарить старуху за её добросердечие. Поговорили они с Саушкиным. Тот сразу живо согласился.
Старшина Нелюбин перво-наперво расчистил снег, обтоптал углы полуразрушенного хлева. Выбрал выбитые, выломанные брёвна, обрезал, зачистил торцы и принялся подводить венцы на место. Ему помогали Саушкин и старуха-хозяйка. Саушкин толкал бревно здоровым плечом и потом придерживал его, пока старшина возился с другим, пока раскладывал мох и остатки пакли, пока расклинивал, чтобы подведённые брёвна не расползлись. Так, не торопясь, бревно за бревном, они заделали угол, законопатили щели. Старшина Нелюбин нарубил из проволоки гвоздей и кусками досок, принесённых с пилорамы, заделал окно и углы. Потом принялись за крышу. Дыру залатали теми же горбылями и остатками соломы.
А ещё через неделю старшина Нелюбин был выписан из госпиталя и направлен в 183-й запасной стрелковый полк. Фронтовая судьба готовила ему новые испытания. Он ещё не знал, что в запасном полку ему долго не придётся ждать отправки на передовую. Не знал он, что немцы вскоре прорвут фронт, что в прорыв войдут танки и мотопехота, и что одна из колонн пройдёт мимо госпиталя, и танкист Серёга и замковый Саушкин будут наблюдать в окно своей избы, как по большаку пылят снежным крошевом чужие танки и бронетранспортёры. Не знал Нелюбин и того, что несколько дней спустя в составе сводного батальона запасного полка он уже будет лежать в поле перед теми самыми Малыми Семёнычами, про которые ему рассказывал танкист Серёга. Недалеко от его сгоревшего Т-26 осколком от снаряда он выдолбит в мёрзлой земле небольшое углубление и наспех замаскирует бруствер снегом, потому что основательно окопаться уже не будет времени.
Глава шестая
Ночью с 29 на 30 ноября из 113-й дивизии прибыл офицер связи и доложил: только что разведчики привели «языка», который показал, что их танковая дивизия из второго эшелона подведена непосредственно к передовой, что танки ведут дозаправку топливных баков, а пехоте раздают патроны и гранаты.
Командарм тут же отправился в 113-ю.
Полковник Миронов находился на своём НП с командирами полков. Тут же на гранатных ящиках сидели начштаба дивизии майор Сташевский и начальник артиллерии полковник Бодров.
Когда командарм вошёл в землянку, все встали.
– Здравствуйте, товарищи, – командарм поздоровался со всеми за руку. – Ну, где ваш немец? Давайте его сюда.
Ввели пленного. Командарм окинул его взглядом, тут же отметив, что немцы одеты похуже. Ещё накануне 7 ноября в дивизии поступило зимнее обмундирование. Бойцы и командиры были одеты в добротные овечьи полушубки, в стёганые штаны. Сапоги и ботинки сменили на валенки, пилотки – на шапки. Пополнение тоже поступало полностью обмундированным по зимнему штату. Только вот оружия не хватало. Автоматные роты в полках, а батальонах – взводы, вооружены винтовками. На каждую дивизию шестьдесят – восемьдесят автоматов, включая и трофейные.
Немец же стоял перед ним в шинели и пилотке, натянутой на уши. На ногах сапоги. Командарм невольно задержал взгляд на этих сапогах и подумал о том, что сапоги у немца ещё крепкие, но тоже нуждаются в ремонте. Хотя до Москвы он в них, пожалуй бы, дошёл…
Начался допрос. Командарм сказал переводчику:
– Переведите, что он, как военнопленный, будет отправлен в тыл. Ему будет сохранена жизнь. Но вначале ему предстоит ответить на ряд вопросов в штабе фронта.
Немец закивал головой. Он сразу понял, с кем разговаривает, и потому отвечал чётко и ясно, как отвечал бы, должно быть, в своём штабе.
Разведчик. Фельдфебель. Звание получил в Польше год назад. Девять удачно проведённых поисков. Имеет Железный крест второго класса. 92-й разведывательный батальон 20-й танковой дивизии. Дивизия готовится к грандиозному наступлению вперёд. Цель – выход на Минское шоссе и марш на Москву. Начало наступления – на рассвете 1 декабря 1941 года. Последний, завершающий бросок. Немец произнёс это почти с пафосом, ничуть, кажется, не сожалея о том, что сам участия в этом, последнем и завершающем, принять уже не сможет. Он сидел в тепло натопленной землянке. И привели его тоже из тёплого помещения. Впереди, как сказал русский генерал, допрос, и тоже конечно же в тёплом помещении. В бараке, куда его вскоре, должно быть, поместят как военнопленного, тоже будут топить. А в поле под Малыми Семёнычами печек не было. Жуткая стужа с пронизывающим ветром. Проклятая северная зима. Проклятая Россия.
– Спросите, может ли он показать на карте направление главного удара?
Немец кивнул, подошёл к карте и закрыл рукой несколько населённых пунктов: Клово, Мачихино, Атепцево, Савёловка и Могутово. И затем резко двинул ладонь в сторону Алабинского полигона и на Кубинку.
Пленного увели. Какое-то мгновение в землянке стояла тишина.
– Фельдфебеля – срочно в штаб фронта, – командарм посмотрел на Миронова. – Ну что, Константин Иванович, вы готовы встретить танки фон Клюге?
– Танки противника встретить готов, Михаил Григорьевич. Но если немцы двинут на нас всю свою группировку, которую сконцентрировали здесь… Думаю, надо усилить артиллерию, особенно противотанковую, – и Миронов посмотрел на своего начальника артиллерии.
Бодров, пожилой, по-стариковски одетый в шубу и валенки, так что со стороны ничем, наверное, не отличался от своих батарейцев, всё время молча смотрел на карту и что-то прикидывал в уме. Знал, что если речь зашла о танках противника, то сейчас дело дойдёт и до него. Танки – это по его части.
– Сколько, вы говорите, у них здесь танков? – спросил он, не поднимая головы и не отрываясь от карты.
– Надо полагать, до ста единиц.
Снова в землянке повисла тишина. Все: и командиры стрелковых полков, и полковник Миронов, и офицеры штаба, хорошо знавшие возможности своей дивизии, и начальник артиллерии, замерший над разостланной на столе картой, да и сам командарм – понимали, что для 113-й, значительно ослабленной предыдущими боями, хоть и пополнявшейся людьми, но давно не пополнявшейся техникой и вооружением, парировать удар такой мощности будет сложно, если не сказать, что невозможно.
– Могу сказать одно, – нарушил тишину Бодров. – Если они пойдут на нас всей своей танковой громадой, значительную часть мы постараемся оставить здесь, перед своими позициями и непосредственно на них. Если опять же устоит пехота.
– Спасибо за откровенность, Василий Семенович, – сказал командарм. – Но нам умирать рановато. Нам надо выстоять. А танки их всё же сжечь. И бейте их так, чтобы вытаскивать, буксировать с поля боя было нечего.
– Тогда выход один, Михаил Григорьевич… – снова заговорил Миронов.
– Какой же?
– Отсечь пехоту и пропустить часть их танков сюда, в глубину. И замотать их тут, на дорогах и в лесах. Здесь и добивать.
– Пропустить в тылы… Нельзя их пропускать в наш тыл. Но дороги всё же заминируйте. Особенно шоссе Наро-Фоминск – Кубинка. Они полезут именно сюда, к Минскому шоссе. Фон Клюге понимает, что на стыке двух армий легче всего пробить брешь. И они будут её пробивать всеми силами. Бросят всё. Это их последний шанс.
Они ещё раз уточнили на карте расположение полков 113-й дивизии.
– Если верить этому фельдфебелю, – подвёл итог командарм, – против ваших трёх полков на исходные выведены пятьдесят девятый и сто двенадцатый пехотные полки и двадцать первый танковый полк без одного батальона. Куда они отвели этот батальон – загадка. Или размазывают танки по всем пехотным частям, или всё же формируют ударную моторизованную группу, как это делали раньше, когда натыкались на жёсткую оборону. Кирхнер конечно же хочет иметь танковый резерв, чтобы бросить его в прорыв на завершающем этапе и именно этими танками выскочить на Минское шоссе. Так что держитесь, Константин Иванович. Если сомнут, сами знаете… Держитесь. Тогда и резерв Кирхнера станет вашими мишенями.
Вернувшись в Яковлевское, командарм и начальник штаба обсудили произошедшее, ещё раз внимательно перечитали стенограмму допроса фельдфебеля 92-го разведбата 20-й танковой дивизии, взвешивая каждую крупинку новых, ошеломляющих сведений о противнике, сведений, которые не оставляли его дивизиям иного варианта развития событий, а только единственный – сражение. Сражение, в котором сойдутся десятки тысяч солдат и сотни единиц танков и самолётов. Сражение, в ходе которого одновременно будут задействованы все подчинённые ему подразделения.
– Как ты думаешь, Александр Кондратьевич, а не выдал ли нам немец ложную информацию? Фон Клюге – человек осторожный. Любит действовать наверняка. Увести нас в сторону, заставить перебросить ПТО на якобы угрожаемый участок и ударить совершенно в другом месте. И пехота, как говорится, жива, и танки целы…
– Что ж, фельдфебель, я думаю, рассказал то, что может знать фельдфебель двадцатой танковой дивизии вермахта.
– Что сообщают наши?
– Везде одна и та же картина: редкий беспокоящий артиллерийский и миномётный огонь, дежурные пулемёты. И это во всех дивизиях, по всему фронту.
– Есть ли что необычное?
– Пожалуй, есть. Из штаба Лещинского передали: в период с десяти ноль-ноль до двенадцати тридцати над расположением полков и в глубину пролетели несколько одиночных самолётов. Не бомбили, не обстреливали. По всему видать, что задачи у них были иные. Так действует авиаразведка.
– Срочно в двести двадцать вторую, к Лещинскому, пошлите офицера связи. В другие дивизии тоже. Пусть будут готовы к отражению танковой атаки.
Утром 1 декабря, только-только начала рассеиваться поздняя зимняя ночная мгла, в штаб армии в Яковлевское стали поступать донесения: там и там противник начал проявлять активность, слышен гул танковых моторов, артиллерия немцев начала пристрелку. Ровно в 7.00 фронт 33-й армии был атакован. Вначале противник обрушил на позиции обороны 1-й гвардейской мотострелковой, 113-й, 222-й и 110-й стрелковых дивизий шквал артиллерийского огня. Одновременно пикировщики, действуя небольшими группами по два-четыре самолёта, нанесли точечные бомбовые удары по командным пунктам и позициям артиллерийских дивизионов. Когда утихла артиллерия, бомбардировке подверглись передовые линии окопов. Ровно в 9.00 в поле показались танки, сопровождаемые густыми цепями пехоты. Началась атака.
Неудачу под Клином, где 1-я ударная армия Кузнецова и 20-я армия Власова остановили бронированные клинья 3-й танковой группы генерала Гота и 4-й генерала Гёпнера, командующий группой армий «Центр» решил компенсировать прорывом южнее, на наро-фоминском направлении.
Из штаба Западного фронта пришла телефонограмма: Жуков запрашивал обстановку и сообщал, что одновременно с ними атакован и сосед справа, 5-я армия.
Таким образом, как и предполагал командарм, фон Бок, гибкий стратег, любящий многоходовые комбинации, которые, как правило, предполагали несколько вариантов развития событий, нанёс одновременно два параллельных удара. Если оба увенчаются глубокими прорывами, попытается окружить обе армии, 5-ю и 33-ю, и одновременно выйти во фланг 16-й, отбросить её на север. Если удастся прорваться в одном месте, попытается развить успех там, где дела складываются лучше.
Но и в полосе 33-й армии, здесь, на наро-фоминском направлении, за которое непосредственно отвечал он, командарм, противник, как выяснилось совсем скоро, действовал точно так же – синхронными ударами на двух направлениях, каждое из которых можно было считать главным.
Ровно через час после атаки по фронту 113-й и 110-й стрелковых дивизий противник атаковал на стыке 222-й стрелковой и 1-й гвардейской мотострелковой дивизий. При этом под остриё удара попала более слабая 222-я.
– Вот где основной удар, Александр Кондратьевич. Давайте сюда срочно установки РС. Снег. Они вынуждены будут держаться дорог. Выведите реактивные миномёты и дайте несколько залпов.
Здесь же, в штабной землянке, находились офицеры штаба 77-й авиационной дивизии ВВС штаба Западного фронта. Одновременно с известием о прорыве немецких танков поступили сведения, что самолёты авиадивизии поддержки по ошибке отбомбили окопы и позиции ПТО одного из полков 110-й дивизии. Командарм выслушал донесение молча. Прошёл уже час, а он так ни разу и не обратился к офицерам ВВС. Он даже не повернулся в их сторону. Наконец, старший группы не выдержал и сказал:
– Товарищ генерал-лейтенант, ведь всё перемешалось! Вы поймите!.. Не вина пилотов…
– Вот что, Дмитрий Платонович, – обратился командарм к комбригу Онуприенко, – срочно вышлите во все дивизии дежурных офицеров. Пусть при подлёте наших самолётов обозначат направление предполагаемых ударов красными ракетами. Для этого используйте трофейные ракетницы. Всем колоннам, особенно танковым, также иметь при себе ракетницы. Выполняйте. Майор, – обратился он к старшему группы лётчиков, – передайте это в свой штаб. И бейте, бейте их на дорогах. Для этого используйте более лёгкие штурмовики. На бреющем ваши соколы, я думаю, смогут разглядеть, где свои, а где чужие.
Два часа назад лётчики отбомбили позиции своей артиллерии. В штаб поступило донесение об убитых и раненых. Уничтожено несколько орудий. По своим, как всегда, – точно…
Как и следовало ожидать, на ослабленные в ходе предыдущих боёв порядки 222-й дивизии двинулась 258-я пехотная дивизия 20-го армейского корпуса. Вчерашний фельдфебель подтвердил, что дивизией командует генерал-лейтенант Хейнрици. Дальнейшие события, а также показания захваченных пленных свидетельствовали о том, что именно 258-й в этом наступлении отведена главная роль, что её атаку поддерживает 19-я танковая дивизия – 70 средних и лёгких танков, что направление удара следующее: через Таширово на Новую и Кубинку. Дивизию Хейнрици расположил в два эшелона: в первом – два пехотных полка и основная масса танков; во втором – пехотный полк. И первый, и второй эшелоны усилены миномётами и артиллерией, в том числе и самоходной. Спустя некоторое время поступило новое донесение – разведчики сообщали о том, что следом за пехотным полком второго эшелона развёртываются три полка 292-й пехотной дивизии со следующей задачей: после прорыва обороны 222-й стрелковой дивизии развить успех и при поддержке резервного танкового батальона стремительным броском выйти к Минскому шоссе в районе Кубинки.
Синхронным ударом от Звенигорода по порядкам 5-й армии, а также севернее и южнее Наро-Фоминска по обороне 33-й армии противник имел целью выйти своими подвижными частями на шоссе Минск – Москва и Киев – Москва, расчленить центральную группировку Западного фронта и, таким образом, выйти на завершающий этап операции «Тайфун» и ворваться в Москву. События час за часом подтверждали показания пленного фельдфебеля.
222-я дивизия на стыке с 1-й гвардейской имела слабую оборону. Войска были расположены в одну линию. Хейнрици довольно легко прорвал её, и танковая лавина с пехотным десантом на броне устремилась на Новую, Головеньки, Малые Семёнычи. Уже в 9.30 дивизион ПТО встретил их своим огнём возле деревни Новой, но был опрокинут, смят. Фланг стрелковой дивизии отброшен на север. Прорыв расширен до двух километров. И в образовавшуюся брешь сразу же хлынули танки и штурмовые орудия. Спустя некоторое время сюда же вошла пехота второго эшелона.
К полудню полки дивизии Лещинского вели бой, находясь фактически в окружении, отойдя на запасные позиции к деревням Иневка, Малые Семёнычи, Головеньки. Они развернулись фронтом к горловине прорыва и кое-как удерживали фланги.
Резервный танковый батальон с пехотным десантом Хейнрици тут же бросил на Кубинку. Колонна Т-III, Т-IV, а также штурмовые орудия и тягач с 88-мм зенитным орудием для борьбы с русскими танками Т-34, взмётывая снежную пыль, выскочили на шоссе Наро-Фоминск – Кубинка. Вскоре головные машины напоролись на мины. Два танка сразу загорелись, так что даже невозможно было спасти экипажи. Третий был серьёзно повреждён. Из ближайшего леса по колонне начало стрелять одиночное противотанковое орудие. Под огнём танкам пришлось съехать с дороги и продолжать путь по полю, преодолевая глубокий снег.
Когда стало очевидным, что своими силами прорыв не ликвидировать, командарм связался с КП 32-й стрелковой дивизии, где в это время находился командующий 5-й армией Говоров.
– Леонид Александрович, помогай, сосед. Прорыв на нашем стыке. Танки. Числом до сорока.
– Знаю, знаю, Михаил Григорьевич. Полосухин их уже остановил. Держит. Направляю туда свой резерв – стрелковый полк и полк ПТО.
– Спасибо, Леонид Александрович! Я – твой должник.
– После войны сочтёмся, Михаил Григорьевич.
– Непременно.
После разговора с соседом справа командарм вздохнул с облегчением. И тут же спросил:
– Почему не выходит на связь Лещинский? Что у них?
Во второй половине дня связь со штабом 222-й дивизии прекратилась.
А тем временем встреченные огнём истребительно-противотанковых дивизионов 5-й армии и потерявшие половину своих танков, штурмовых орудий и до батальона пехоты немцы отступили. Резервов для наращивания наступления в направлении на Минское шоссе на этом участке прорыва у них не оказалось. Но упускать свой шанс немцы не хотели. Командир 20-го армейского корпуса генерал Матерн произвёл перегруппировку: часть 258-й пехотной дивизии срочно вывел из боя и сосредоточил у деревни Головенки. Сюда же были стянуты остатки танкового батальона и дивизион противотанковой артиллерии. Вечером, едва стемнело, сводная колонна маршем двинулась по дороге в сторону Алабинского полигона.
Радисты 1-й гвардейской перехватили радиопереговоры командиров немецких подразделений.
– Продолжайте огонь с прежней силой.
– Требую боеприпасов. Спешите с исполнением.
– Первая задача выполнена. Выходим на шоссе. Успех развиваем, стараемся укрепиться.
– Резервы вышли.
– Резервы получите. Необходимо выполнить всю задачу целиком. Танки в бой я сейчас пускать не буду. Они будут брошены в нужный момент. Подготовьте дальнейшее продвижение артогнём.
– Дальнейшее продвижение затруднено артогнём противника. Казармы нами удерживаются. Развивать успех обхватом противника с юга.
– Назад не отходить. Поняли?
– Поняли.
– Пришлите полное донесение о результатах операции. Командование недовольно, что вы осуществили лишь часть поставленной задачи, и то с большими потерями.
Колонну 258-й пехотной дивизии перехватил отряд резерва командарма, усиленный танками КВ. Произошёл встречный бой, в результате которого немцы вынуждены были отойти, чтобы не потерять уцелевшие машины и сохранить людей.
Ночь легла на ревущие, пылающие окрестности. Бой не прекращался. Одни пытались прорваться. Другие со всех сторон теснили их, уничтожая технику и истребляя людей. Потерявшие чувство времени и ориентиры в пространстве, зачастую оторванные друг от друга, полки, батальоны и роты продолжали яростно драться. Каждый в этой драке выполнял свою задачу.
Утром подошли установки РС. Дали несколько залпов по противнику, сосредоточившемуся в районе военного городка Алабино. После короткой артподготовки на исходные вышли танки. Командарм вводил в бой свой главный резерв – 5-ю танковую бригаду подполковника Сахно. Задача бригады: перехватить танки противника в районе Акулова и уничтожить их.
Донесения, поступающие из дивизий, были неутешительными. Но в характере боя уже что-то произошло. Противник не атаковал так яростно, как в первые часы прорыва. Похоже, он уже не обладал достаточными силами, чтобы быстро перегруппировываться и наращивать свой удар, тем более что приходилось постоянно парировать контратаки. А они становились с каждым часом всё упорнее и мощнее. Перелом уже чувствовался.
Командарм слушал донесения. Объективно основной удар пришёлся на 222-ю. Но, смятая на фланге, она сумела отойти своими батальонами и закрепиться на новых позициях. 113-я, зарывшись в мёрзлую землю, держалась в буквальном смысле как вкопанная. Противник превосходил её в четыре раза численно, не говоря уже о танках, которых у Миронова почти не было. Каждый батальон 113-й вынужден был сражаться с полком, каждая рота – с батальоном, каждый взвод – с ротой противника.
– Читайте, читайте, – приказал командарм офицеру оперативного отдела.
– Тяжелораненый комиссар тысяча двести девяностого полка Демичев застрелился. Убит начальник штаба старший лейтенант Молчанов. Командир полка Васенин ранен и попал в плен.
– Как попал в плен? Что это значит? Не могли вынести раненого командира?
– Все находившиеся поблизости, товарищ генерал-лейтенант, тоже были ранены. Уничтожен весь штаб.
– Читайте дальше.
– Батальоны полка отошли к Плаксино. Там же находится штаб дивизии.
– Кто их атакует?
– Сто восемьдесят третья пехотная дивизия при поддержке тридцати танков, товарищ генерал-лейтенант.
– У Бодрова сегодня много работы, – вслух подумал командарм.
– Новое сообщение из сто тринадцатой. Погиб комиссар тысяча двести девяносто первого полка батальонный комиссар Костылёв. Ранен командир полка капитан Хохлов. Командование принял командир заградотряда Бершадский.
– Какое у Бершадского звание?
– У него нет звания. Он из ополченцев. Из двести двадцать второй донесение: с Лещинским связи нет, посланы люди на поиски, полки сражаются в полуокружении.
Утром из штаба Западного фронта пришла обнадёживающая телефонограмма. Жуков посылал в 33-ю резерв: 18-ю стрелковую бригаду, два лыжных батальона, отдельный танковый батальон, полк ПТО, усиленный несколькими батареями РС, и ещё 15 танков для пополнения 5-й танковой бригады.
Ставке стало определённо ясно: основной прорыв немцы наметили и осуществляют именно здесь, на наро-фоминском направлении. Сюда и направлялись резервы.
3 декабря зажатые со всех сторон немцы начали отход по маршруту Головеньки – Таширово. Мост через Нару в Таширове они удерживали прочно. Он им послужил и во время наступления, и теперь, когда они организованно, оставляя заслоны, отходили на западный берег Нары и занимали свои исходные позиции.
4 декабря дивизии 33-й армии начали приводить себя в порядок.
В лесах продолжались схватки с отдельными мелкими отрядами, которые либо замешкались и не успели уйти с основными силами, либо были оставлены специально для диверсионных и разведывательных целей.
Наконец доложили о командире 222-й стрелковой дивизии полковнике Лещинском. 1 декабря, во время прорыва немецких танков и пехоты, Лещинский находился в одном из полков. Раненого, его затащили в ближайший дот. По доту немцы открыли огонь из тяжёлых орудий. Пулемётчики погибли. Когда пулемёты замолчали, немцы ворвались в дот. Среди тел убитых пулемётчиков и стрелков обнаружили одного живого, одетого в командирскую шинель с полковничьими петлицами. О захвате советского полковника рассказал пленный немец.
Когда донесение прочитали в штабе армии, кто-то из офицеров оперативного отдела сказал:
– Полковник Лещинский… Не верится. Просто не верится. Васенин. А теперь – Лещинский. У Демичева нашлось мужества…
Полковник Лещинский был его, командарма 33, выдвиженцем. И сказанное, понимал это говоривший или нет, ранило и его душу и совесть. И, чтобы пресечь возможные разговоры и толки вокруг имени командира 222-й дивизии, командарм сказал:
– Дивизия Лещинского дралась геройски. Первый удар она приняла на себя. Разве не так?
Никто ему не ответил. В землянке воцарилась тишина.
Вечером, когда они сидели вдвоём с членом Военного совета армии и решали, кого поставить на 222-ю, Шляхтин вдруг сказал:
– А всё же, Михаил Григорьевич, не по себе мне от поступка Лещинского.
– О каком поступке можно вести речь в данном случае? Я думаю, что он пленён в бессознательном состоянии.
– И я так думаю. Но Демичев всё же поступил, как настоящий советский человек, как большевик.
Командарм знал, что вместе с его донесением на имя Жукова об обстоятельствах пленения во время боя командира 222-й стрелковой дивизии полковника Лещинского Михаила Иосифовича, в тот же штаб Западного фронта на имя члена Военного совета фронта Мехлиса уйдёт другое донесение, подписанное Шляхтиным, в котором тот изложит свою точку зрения по поводу произошедшего. И то, что член Военного совета армии первым завёл этот разговор, вызвав командарма на откровение, могло свидетельствовать только о том, что тот сейчас мысленно готовится к этому донесению, подыскивая нужные аргументы и подбирая характеристики.
Когда разговор был окончен и они встали, пожав друг другу руки, командарм задержал руку Шляхтина и сказал:
– Марк Дмитриевич, у полковника Лещинского семья. Не забывайте об этом.
– Да-да, семья… – рассеянно ответил член Военного совета.
Утром в штаб фронта среди прочих ушли два донесения, в которых говорилось о том, что командир 222-й сд полковник Лещинский Михаил Иосифович пропал без вести во время боя 1.12.41 в районе населённого пункта Таширово, находясь на своём полевом НП в момент прорыва вражеской группировки, и что все находившиеся в тот момент рядом с командиром дивизии погибли.
Глава седьмая
Воронцову казалось, что лёгкие его вот-вот не выдержат потока переполнявшего их воздуха и разорвутся. Сколько они уже бежали? Час? Два? И сколько пробежали? Три километра? Четыре? Они бежали столько, сколько человек может бежать без остановки. Лицо и руки были исцарапаны, исхлёстаны в кровь сучьями деревьев и ветками кустарников. Наконец они оказались на краю оврага и машинально прыгнули вниз. И там, под обрывом, под пологом обвислых кореньев, обхватив друг друга, будто дети, убегающие от свирепого зверя, затаились. Больше бежать они не могли. Силы иссякли. И вот наконец нашлось укромное место, где можно затаиться и отдохнуть.
Ещё несколько минут назад они отчётливо слышали за собой погоню. Кто-то бежал за ними по пятам, трещали сухие сучья под его ногами, иногда, как им казалось, они даже слышали дыхание бегущего. Погоня кричала, но слов они разобрать не могли. В ушах стоял гул – кровь ходила в голове упругой удушливо-горькой волной и глушила все посторонние звуки.
И вот снова послышался шорох и треск шагов. Теперь бежали вдоль оврага.
– Тихо, Савелий. Если он один, я его… – и Воронцов достал из кармана трофейный нож, выбросил лезвие и стал ждать.
Вверху послышался кашель, и знакомый голос позвал тихо, с дрожью ещё непережитого испуга:
– Курсант! Курсант! Ты тут?
Это был Губан.
Они отдышались. Вскоре Воронцов почувствовал, что сводит ноги. Надо было вставать и идти, тогда окаменевшие мышцы сами собой разойдутся и боли прекратятся.
– Встать, – сказал он и первым встал и пошёл по оврагу вниз.
Кудряшов и Губан плелись следом, пошатываясь и оглядываясь по сторонам, в любой момент готовые броситься назад или в сторону и бежать куда глаза глядят. Каждый куст можжевельника казался им немецким автоматчиком, каждое муравьище – залёгшим конвоиром из заградотряда.
Вскоре, будто кто их вёл, они вышли к тому самому кострищу, где под плотным пологом огромных елей провели прошлую более или менее спокойную ночь. Воронцов сперва глазам своим не поверил. Но огляделся, сел на мокрое бревно и сказал:
– Ну вот, пришли. Как зайцы – по кругу… Никогда не думал, что человек настолько – зверь.
На последние слова Воронцова Кудряшов согласно похлопал его по плечу.
– Костёр бы развести, – сказал Губан.
Но ему никто не ответил. Кудряшов походил вокруг, высматривая по сторонам и изучая старые следы, и сказал:
– Что, понравилось под конвоем ходить? Или у тебя просто спички есть и ты не знаешь, что с ними делать?
– Есть и спички, и ещё кое-что, – и Губан вытащил из кармана револьвер.
– Как же они у тебя его не нашли? – удивился Кудряшов.
– Карман глубокий. Когда я лежал, карман оказался под ногой. Обыскивали-то нас лежачими. А я упал на какие-то палки. Конвоир пощупал-пощупал и отошёл. Наган под ногой пролежал. Я его ногой придавил. А конвоир – лопух. Он палки щупал. Через одежду. Вот и не нашёл.
– Нашли бы потом, сразу бы пулю в лоб.
– Да я про него забыл! Только когда к оврагу повели, вспомнил: у меня же наган есть и целых три патрона! Хотел застрелиться. Так лихо стало, так обидно… Я ведь в своём окопе все диски расстрелял, до последнего патрона. Или, думаю, если подойдёт эта сволочь, капитан, и начнёт унижать, выстрелю ему прямо в лоб, а потом – себя. Один бы патрон ещё и остался.
– А ну-ка… – и Кудряшов протянул руку, требуя передать ему револьвер.
– Не-ет, я его курсанту отдам, – как о давно решённом сказал Губан. – Он у нас командир, ему и ходить с пистолетом. А нам с тобой, Кудряшов, нужны винтовки. Вот только где и как их раздобыть? Надо думать.
– Ну-ну, – согласился Кудряшов. – Только я пока не догадываюсь, зачем они нам нужны. А ты уже, видишь, всё обмозговал.
– А зачем же ты руку за наганом тянул? – засмеялся Губан.
Губан только с виду был простоват и невелик.
Воронцов взял револьвер, проверил барабан. В барабане действительно было только три патрона. Револьвер давно не чистили. В чёрных, слегка потёртых дульцах барабана, словно цветочная пыльца, рыжел налёт ржавчины. Он дунул на пыльцу, но она не исчезла.
– Ты откуда родом? – спросил Воронцов Губана.
– Призывался из Витебска, – ответил тот.
– Губан – это что, прозвище, что ли?
– Нет, фамилия такая. Губан Михась Адамович. По-вашему, Михаил Адамович. А родом я из Палесся. Матка с батькуй и тяпер у вёски живуть, в дяревни, по-вашему, – вдруг заговорил он на смеси белорусского и русского.
– Что, Михась, рад, что живой остался? – усмехнулся Кудряшов.
– А то ты не рад, – рот Губана растянуло в улыбке, но губы всё ещё дрожали. Улыбка казалась ненастоящей, вымученной.
– Кашляйте потише, в шапки давайте, – предупредил Воронцов. – А то бохаем в три бочки…
– Лучше скажи, командир, что нам теперь делать, – Кудряшов невесело смотрел в сторону, видимо, что-то уже задумав. – Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл… Слышь, что говорю: долго мы так не набегаемся, где-нибудь точно попадём.
– Собирайте пока сушняк, а я обойду, посмотрю, где мы, – сказал Воронцов и сунул за ремень револьвер с тремя патронами.