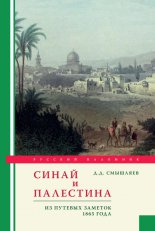Танец бабочки-королек Михеенков Сергей

Танк приближался. Он забирал всё правее и правее. И старшина понял, что, когда он выскочит на линию окопов, то бутылку до него попросту не добросит. Там, на правом фланге, уже никто не стрелял из снежных окопов, никто не шевелился. Молчал и пулемёт. Все убиты, мелькнуло в его мозгу. Один я тут остался. Правее больше никого. Надо ползти. Перенимать его где-то возле воронок. Если успею…
Но воробей он был стреляный. Подхватил вторую бутылку и, пятясь назад, выбрался из окопа. И вместо того, чтобы сразу поползти впереймы, он пополз сперва назад.
– Ты куда, Кондрат? – закричал Калинкин.
– Прикрой! – зло оскалился в ответ Нелюбин, не надеясь, что тот услышит его, но пусть хотя бы услышит крик, а там догадается, что надо делать.
Он дополз до Серёгиного Т-26, встал, перебежал к другому борту, выглянул: танк на прежней скорости, подминая молоденький березняк, стремительно приближался по сходящейся косой. Работал, трепеща прерывистым пламенем, его башенный пулемёт. В какое-то мгновение пули стегнули и по броне Серёгиного танка. Следующая очередь ушла в березняк. Не видит, догадался старшина Нелюбин, палит напропалую. Для острастки стреляет, чтобы к нему не подобрались гранатомётчики.
В бутылках, которые он держал в руках, был состав горючей смеси, которая загоралась при соприкосновении с воздухом. Никаких фитилей, которые ещё попробуй зажги в такой горячке. Разбил бутылку, и – дело готово. Лишь бы не промахнуться.
Он выглянул из-за танка. Подумал: выскакивать перед ним опасно – срежет очередью и замахнуться не успею. Пусть проедет вперёд, пусть внимание переключит туда, прямо по курсу, на воронки бронебойщиков. Танк, взвихривая снежную пыль, быстро сближался с окопом, откуда всё ещё упорно хлопала одна из бронебоек.
Бронебойщики уже бросили свои ружья и вприпрыжку бежали к лесу. Один – в расстёгнутом полушубке, растирая по щеке кровавое пятно. Другой – волоча перебитую ногу и что-то крича своему товарищу. Двое других ползли на четвереньках, зачем-то забирая к нему, к Нелюбину, куда и мчался танк. Как будто бежали от другой опасности. Но один расчёт ПТР так и не покинул своего окопа и упорно продолжал вести огонь.
Стальная громадина, сотрясая мёрзлую землю, промчалась мимо Серёгиного танка. Всё, пора. Старшина Нелюбин выскочил на полянку и бросил первую бутылку, но она, кувыркаясь и описывая крутую траекторию, перелетела мимо и упала за танком. Промахнулся! Эх, как же это я! Одна ведь теперь осталась…
– Ах ты ж, ёктыть! – зло зарычал старшина Нелюбин и, сделав вперёд ещё несколько шагов и выбравшись на рыхлую колею, только что проделанную в глубоком снегу, спокойно примерился и метнул вторую бутылку. Он следил за её полётом так, словно сам готов был полететь следом.
Вторая мимо не пролетела. Она упала прямо на корму, и старшина успел увидеть, как тёмная жидкость, мгновенно подёрнувшись сверху синеватым прозрачным пламенем, разлилась по броне, затекая в моторную решётку, обмётанную снежной пылью. Через мгновение ослепительно-белое пламя вспыхнувшего фосфора окутало танк. Экипаж, видимо, ничего ещё не почувствовал, и Т-IV, не сбавляя хода, несся к спаренным воронкам, откуда всё стреляла бронебойка. Но вдруг он резко изменил направление и врезался в заросли черёмушника. Видимо, пытался сбить пламя. Но пожар уже начался внутри, и танк, развернувшись, остановился. Открылись люки. Старшина оглянулся на окоп Калинкина: тот сосредоточенно стрелял в поле, ему было не до танкистов. И тогда он выхватил из кармана одну из «фенек», выдернул кольцо и, не разжимая скобы, побежал прямо к разгорающемуся танку. Из него уже выпрыгивали танкисты в чёрных комбинезонах и таких же чёрных коротких куртках.
Немецкие танкисты, волоча под руки одного из своих товарищей, гурьбой выбежали из черёмушника прямо навстречу Нелюбину. Бежавший впереди дважды, навскидку, выстрелил в него из пистолета, но не попал. Старшина видел, как подпрыгивал в бледной руке танкиста пистолет после каждого выстрела. Он бросил гранату им под ноги и сунулся в сторону, в снег. Тут же достал из кармана другую. Взрыв! Послышались вопли и стоны раненых. Он поднял голову. Там, впереди, что-то чернело и двигалось. Он бросил ещё одну гранату. И пополз назад, к своему танку.
Лёжа под днищем танка, где пахло обгорелой землёй и металлом, старшина Нелюбин пытался понять, что происходит вокруг. Танки прошли через их окопы, даже не сбавив хода. Пехота залегла в поле и вела огонь из пулемётов и автоматов. Значит, взводу и стрелковой роте, которая занимала оборону левее, удалось выполнить свою задачу по отсечению пехоты. Старшина прополз вперёд и начал всматриваться в сторону своего окопа. На месте его ячейки зияла воронка. Рядом темнела глубокая борозда танкового следа. А левее её виднелась спина Калинкина. Калинкин всё так же лежал в своём окопе, вжимаясь в землю, и вёл огонь из винтовки. Двигался он неестественно медленно. После каждого выстрела подолгу отдыхал, роняя на приклад голову.
Старшина пополз к нему. Он полз по дну колеи, оставленной танковым траком, торопливо загребал руками рыхлый снег и не чувствовал его холода. Раздражало только одно: снег мешал передвигаться быстрее. Своей винтовки он нигде не увидел. Посмотрел по сторонам: может, отбросило взрывом? Но винтовки нигде не оказалось.
– Живой, Калиныч?
– Ранило меня, Кондрат. Сильно. Перевяжи. Пакет вот тут, в кармане.
Старшина перевалил Калинкина на спину. Расстегнул полушубок. Тот сразу обмяк. Пуля вошла косо, под правое ребро. Кровотечение уже прекратилось, но в запёкшейся лунке зыбал, как живой, багровый сгусток. Кровью залило весь бок, всю одежду и снег.
– Не бросай, браток, – шептал Калинкин деревенеющими, будто замерзающими губами, – один я тут пропаду. На морозе…
Старшина огляделся, взвалил Калинкина на плечо, подобрал винтовку и, пошатываясь из стороны в сторону, трюшком, кое-как побежал к Серёгиному танку. Другого укрытия поблизости не было. Он затащил Калинкина под танк и принялся за перевязку. Перевязав и устроив раненого возле катков, чтобы хоть как-то защитить от пуль, проверил его винтовку. В магазине ещё оставалось несколько патронов. Он расстегнул подсумок Калинкина, там было пусто. Вот молодец, подумал старшина, всё расстрелял.
Прорвавшиеся танки ушли в сторону Малых Семёнычей. Прорвалось их немного, может, с десяток. Почти столько же осталось здесь. И один из них поджёг он, старшина Нелюбин. Танки наверняка ушли к большаку. Там теперь громыхало. А пехоту они не пропустили. Вон она, ихняя пехота, вся в поле лежит. Молодцы миномётчики. Вовремя завели свои «самовары».
Но и миномётчикам, видать, досталось. Овраг, где они занимали позицию для стрельбы, дымился остатками начисто вырубленных деревьев. Всё там, на их позициях, было исхлёстано, исполосовано бороздами танковых гусениц.
Старшина подполз к каткам и сквозь обвислую ленту гусеницы стал всматриваться в дымящееся воронками пространство, где час назад лежали в снежных окопах не успевшие как следует окопаться курсанты. И подумал: а наших-то всех, видать, побило. И артдивизион тоже – вдребезги. Даже снег дымится.
Устав смотреть в пустое, вырубленное снарядными осколками пространство, старшина Нелюбин прилёг рядом с Калинкиным. Усталость навалилась на него. На какое-то мгновение он будто даже задремал. Но, как ему показалось, тут же вздрогнул: что ж это я среди боя разоспался? Наклонился к Калинкину, пытаясь губами уловить, понять, идёт от того тепло или он уже остывает. Тепло от Калинкина шло – живой.
– Ты крепись, Калиныч, крепись. Скоро санитары придут.
– А-а… – простонал тот в ответ.
Послышался скрип мёрзлого снега и надсадное дыхание спасающегося из последних сил человека. Со стороны воронок к танку полз человек в одной гимнастёрке, без сапога, без шапки. Старшина Нелюбин узнал в ползущем одного из бронебойщиков.
– Стой! Куда? – окликнул он бронебойщика.
Тот испуганно оглянулся на него и, стиснув обмётанный гарью рот, сказал:
– Пошёл ты…
– Заползай сюда, матерщинник. А то убьют, – крикнул ему старшина, заметив, что парень вроде не в себе, – видать, контузило.
– Сударушкин там? – спросил бронебойщик.
– Кто такой Сударушкин?
– Мой второй номер.
– Тут.
– Я так и знал.
Бронебойщик забрался под танк, подполз к раненому Калинкину, приткнулся к его окровавленному боку и затих.
– Где ж твой валенок, дурень? – погодя спросил его старшина. – Слышь, что говорю? Поди вон, москвич в окопе лежит. На нём всё новое. Малый аккуратный был. Ползи, а то затвердеет, не стащишь.
Бронебойщик не отвечал.
– Где твой полушубок?
– Сударушкину отдал. Он замерзал, просил, чтобы я его чем-нибудь укрыл.
– А валенок?
– Какой валенок? Что ты?
– Ты ж без валенка.
– И правда, – спохватился бронебойщик, ощупывая свою ногу. – Про валенок ничего не знаю. Наверно, немцы забрали.
– Какие немцы? Что ты плетёшь!
Старшина плюнул на бронебойщика и принялся наблюдать за полем. Там кто-то громко стонал. Кто-то плакал и кричал от боли. Немцы или наши, уже не понять. Он посмотрел вправо, влево, толкнул в бок бронебойщика и сказал:
– На, возьми винтовку. Прикрой меня. А я к Святославу схожу. Одёжу тебе надо… А то замёрзнешь.
Он снова пополз, но не прямо к окопам, а сперва взял вправо, потом перевалился через гребень уже смёрзшегося танкового следа, сполз в колею. Отдышался. Прополз вперёд шагов двадцать и выглянул из-за снежной бровки.
Возле Святослава кто-то возился. И сперва у старшины мелькнула радостная мысль: пришли, пришли-таки санитары. Сейчас и вывезут всех раненых. Вон они, уже ходят вдоль окопов, отыскивают живых. Говорил же я Калинычу, что скоро придут. Пришли. Но вставать из глубоко прорезанной снежной канавы танкового следа, которая надёжно маскировала всякий его маневр, он всё же поостерёгся. Прополз ещё несколько шагов. Отсюда уже слышалось, как возится в снегу санитар. Значит, жив Святослав. А он-то думал, конец парню. Вот и Калинкина заодно заберут. Перевяжут как следует. И старшина встал.
Немец! Мать честная! Возле убитого курсанта копошился немец. Ошибки быть не могло. Каска немца была выкрашена белой краской, которая местами облупилась. Поверх шинели кусок белой маскировочной материи. Рука на перевязи. Раненый. Обратно ложиться в снег было уже поздно – не спрячешься. Немец тоже заметил его. Посмотрел и отвернулся, снова нагнувшись над окопчиком Святослава.
Старшина смотрел на немца с такой остервенелой ненавистью, что тот, видимо, почувствовал его взгляд и оглянулся. И тут же, похоже, даже обрадовавшись тому, что рядом оказался русский, без оружия, передвинул автомат из-под мышки на грудь и поманил здоровой рукой:
– Ком.
Эх, ёктыть, зачем же я этому контуженому винтовку-то оставил, спохватился старшина, чувствуя, как у него задрожали ноги и разом вспотела спина.
– Ком, ком, Иван! – немец махал ему, теперь уже не рукой, а автоматом.
Какой я тебе Иван, с ужасом, который медленно вырастал в нём, оплетая всё тело и делая его вялым, непослушным, думал старшина. Эх, бронебойщик… Что ты, сволочь такая, не стреляешь? Ведь я ж тебе для этого гожую винтовку дал. Из неё Калинкин столько этих гадов положил! Нет-нет, оглядываться нельзя. Тогда немец сразу догадается, что под сгоревшим танком кто-то есть. Зайдёт сбоку и всех перестреляет. Что ему стоит дать пару очередей из автомата. Или бросит под днище танка гранату. И Калинкина добьёт, и этого дурня раздетого. Не оглядываться. Я тут один. Один… Может, бронебойщик уже и выцеливает. Не спешит… Чтобы наверняка… Не совсем же ему соображение отбило.
Немец стаскивал с мёртвого полушубок. Труп, видимо, уже затвердел, и он никак не мог справиться с рукавами полушубка. Валенки москвича были уже на немце. Ему осталось стащить полушубок. Но с полушубком-то он и не мог справиться. И бросить не мог. Страсть поживы непобедима. Старшина это знал по себе.
Откуда он тут взялся? Не было ж никого. Спрыгнул, что ли, с танка? Своих раненых немцы всегда тут же отправляют в тыл. На машинах. На лошадях. Это старшина Нелюбин наблюдал не раз.
– Иван, давай, давай, – снова кивнул немец и ткнул автоматом в полушубок.
Он что, в плен меня берёт? Какой плен? Он же раненый? Мы пожгли их танки. И нас здесь – трое. И позиция эта – наша. Это он у нас в плену. Да, всё так… Всё так… Но у него – автомат. А бронебойщик, чтоб ему, дураку пропащему… Почему он не стреляет?
И теперь только старшина понял, что, видимо, немцы прорвались с танками и пехотой на соседнем участке. И вот к ним, сюда, забрёл раненый, которого отправили своим ходом в тыл именно те, прорвавшиеся справа или слева. Он, видимо, решил пойти напрямик и вышел на наши позиции. Он не знает, что тут было.
А может, он здесь не один? Старшина огляделся. Кругом – никого. Только этот, с перевязанной рукой, который теперь и приказывал жестом помочь ему снять с тела Святослава полушубок.
Немец явно мёрз. Губы его были синие. И чего он мёрзнет, ведь не очень же и холодно, подумал старшина. Ранение… Ослабел… Сволочь…
– Ихь хайсе Курт, – вдруг сказал немец и улыбнулся. – Курт, – и он постучал себя пальцем в узел клетчатой шали.
Курт… И старшину охватила внезапная тоска. Как будто всё уже пропало. Он не раз видел, как немцы уводили в плен его товарищей, как поднимали раненых и прикладами гнали в свой тыл. И не раз примеривал участь тех, угнанных, на себя, но никогда ничего определённого в его мыслях не возникало, кроме ужаса, с каким он раньше, ещё до войны, думал порой о неминуемых человеческих сроках и о своей – рано ли, поздно ли – смерти. Теперь о смерти он не думал. Что о ней думать? Она у солдата всегда за плечами. Оглянулся – вот она. Ни о чём он теперь не думал, кроме одного: почему бронебойщик не стреляет?
А смерть – вот она…
– Кондрат, – тоже улыбнулся и кивнул старшина. – Ихь хайсе Кондрат.
– О, гут, гут, Кондрат. Русский зольдат Кондрат.
Вот и познакомился с демоном. Что ж мне делать? А делать нечего, надо подчиняться.
Под белым маскхалатом у немца виднелись шинель и клетчатая бабья шаль, по-бабьи же завязанная на груди. И теперь он наконец-то нашёл себе добротный полушубок. Трофей, которым может похвастать не каждый в их роте. Надо только заставить русского Кондрата помочь ему снять с трупа эту незаменимую тёплую одежду, пока убитый не закоченел окончательно. Мёртвые не хотят расставаться со своим имуществом. Но живым оно нужнее. Русские одеты лучше. Сталин о своих солдатах позаботился. Они одеты не хуже офицеров и комиссаров. А фюрер на них наплевал. Он бросил их в замёрзших полях на произвол судьбы. И Курт со счастливой улыбкой думал о том, что теперь, когда он наконец-то ранен, для него наступит другая жизнь. Лазарет, тыл, тёплое жильё, хорошее питание… Этот Кондрат весь дрожит от страха. Не надо меня бояться, русский Кондрат, думал Курт, мечтая о лазарете и тепле. Хорошо, что у Кондрата нет оружия. Видимо, он дезертир. Среди русских очень много дезертиров. Они тоже не хотят воевать. Многие пытаются пробраться через линию фронта, чтобы вернуться к своим семьям, которые там, на западе, позади, уже на немецкой территории. Если захочет, пусть идёт со мной и этот, подумал Курт. Только сперва он должен помочь мне снять эту овечью шубу с убитого. А там – пусть идёт куда хочет. Теперь ему дела до него нет. Он своё солдатское дело завершил там, за лесом, возле русской деревни Малые Семёнычи. Зачем ему пленный? Лишняя обуза. Железный крест за такого не дадут. Не дадут даже пачки сигарет. А лазарет – это та реальность, которая в определённых обстоятельствах просто спасает жизнь и, во всяком случае, продляет её.
Старшина вспомнил, что в карманах у него две гранаты. Гранаты он забрал у Калинкина. Но воспользоваться ими невозможно. Стоит сунуть руку в карман, и немец свалит его первой же очередью. Да и как? Куда он бросит гранату? Немец в двух шагах. Себе под ноги?
– Давай, Кондрат, – кивнул ему немец и, как показалось старшине, снова улыбнулся своими посиневшими губами.
Почему же не стреляет бронебойщик? Эх, если бы не ранило Калинкина… Калинкин бы снял этого чёртова мародёра в два счёта. Немец уже лежал бы в снегу.
Надо подчиняться. Пока буду снимать полушубок с москвича, бронебойщик, может, и очухается. Эх, Кондрат, Кондрат, нашёл кому доверить винтовку и свою жизнь. А ведь я из-за него же, поганца, и попёрся сюда…
Старшина, проваливаясь в глубокий снег, подошёл, наклонился над убитым. Святослав лежал на боку. Эх, сынок, сынок, уже и остыл ты… Тебя похоронят. Положат в общую ямку рядом со всеми нашими, кто полёг тут вместе с тобой. А меня – куда? Куда теперь погонят меня? Старшина потянул с окоченелой руки, заведённой, видимо от боли, за спину, пробитый в нескольких местах рукав.
Немец отступил на шаг. Он держал автомат наготове и с нетерпением следил за движениями старшины. Рукав наконец удалось вывернуть, стащить. Старшина перевернул тело Святослава на другой бок и освободил полушубок окончательно. И тут, глядя на валенки Святослава, в которых приплясывал, улыбаясь одеревенелыми губами, счастливый немец, старшина вспомнил, что у него за правым голенищем лежит его шанцевый инструмент, осколок от снаряда, который он подобрал в лесу во время марша и которым потом долбил мёрзлую землю. Длинный и острый, как штык. Он мгновенно почувствовал его лодыжкой. Его холодные зазубрины. Всю его внушительную тяжесть. Надо только незаметно вытащить… Пока немец рассматривает свой трофей.
Старшина нагнулся, сунул руку в тёплое голенище, нащупал конец осколка, ухватил его хорошенько, чтобы не выскользнул из озябших пальцев, потянул наружу.
Немец, похоже, решил сразу же переодеться. Он перекинул через голову ремень автомата. И в тот момент, когда он нагнул голову и старшина увидел белую полоску его шеи, Нелюбин мгновенно, с силой рубанул по этой полоске тяжёлым, как сапёрная лопата, осколком. Немец охнул. Старшина ударил ещё и ещё, потому что некоторые удары не достигали цели, попадая по каске и соскальзывая. Немец упал на колени, сунулся прямо в ноги старшине своей белой исцарапанной, избитой его осколком каской, замычал, загребая раненой рукой снег.
– Вот тебе, ирод, твой трохвей! – выдохнул Нелюбин тяжело сквозь стиснутые зубы, где-то в глубине души испытывая смутное чувство тревоги и жалости, подобное тому, какое он испытывал до войны, когда забивал привязанного к тополю бычка.
И в это время старшина увидел бронебойщика. Тот шёл к ним по танковой колее, волоча за ремень винтовку Калинкина.
– Бери, надевай, – он швырнул бронебойщику полушубок и выругался.
Но ругался старшина не на бронебойщика, а на себя. Что связался с этим полоумным, который, того и гляди, и себя погубит, и его с Калинкиным? Потом он стащил с немца валенки и тоже бросил их бронебойщику. Немного посидел на снегу, наблюдая, как бронебойщик путался в рукавах, потом перевернул немца, развязал на груди узел шали и снял с него шаль. А потом, отдохнув и подумав, содрал и шинель.
Автомат оказался без патронов. Рожок был совершенно пуст. Запасных при немце тоже не оказалось. Видимо, все боеприпасы оставил товарищам, которые ушли на восток, развивая наступление в глубину, в направлении на Минское шоссе.
Старшина отбросил в сторону автомат и приказал бронебойщику возвращаться к танку, к Калинкину. Он сунул ему шинель и шаль.
– Подстели снизу и укрой, чтобы не замёрз. Да живей соображай!
А сам перепрыгнул через танковую колею и побрёл к лежавшим в черёмушнике танкистам.
Танк ещё горел. Ветер стаскивал с сизой брони чёрный дым и развешивал его по окрестным кустам и деревьям, разносил по затоптанному снегу, делая пейзаж более угрюмым и чудовищным.
Это мой танк, подумал устало старшина. Потом он отыскал в снегу пистолет, из которого стреляли в него несколько раз, но не попали, обшарил одежду танкистов, лежавших в скрюченных позах вокруг воронок. От них пахло смазкой и дымом. Так пахло от трактористов, когда зимой они приезжали в колхоз из районной МТС на заготовку дров и разогревали факелами поддоны моторов своих тракторов. Теперь «трактористы», убитые осколками его гранат, лежали в чёрном закоптелом снегу и ни о чём уже не думали. Ни о дровах, ни о русских ПТО. В карманах их комбинезонов и курток он нашёл несколько индивидуальных медицинских пакетов, плитку шоколада и две запасные обоймы к «парабеллуму».
Глава девятая
В полках подсчитывали трофеи и потери. Но и без сводок и донесений командарм знал, что больше всего досталось 222-й.
Дивизии вернули позиции, утраченные несколько дней назад в результате внезапного прорыва немцев. Но на некоторых участках бои ещё продолжались с прежним ожесточением. Немцы пытались удержать плацдармы на восточном берегу, используя для этого окопы и укрепления, сооружённые бойцами 33-й армии в октябре-ноябре. Теперь некоторым батальонам и ротам приходилось штурмовать свои же доты и брать с боя отрытые ими же самими траншеи. Мелкие группы немцев бродили по тылам. Это были отбившиеся от своих частей во время боёв, различные тыловые подразделения, которые успели втянуться в прорыв вслед за первым эшелоном, обозы снабжения, а также разведгруппы. В лесу там и тут слышались стрельба и взрывы ручных гранат. Это заградотряды и спецчасти прочёсывали леса и овраги.
Командарм выслушал утренние донесения из дивизий и бригад и сказал своему начштаба:
– Поедемте-ка, Александр Кондратьевич, в дивизию Лещинского. На сегодняшний день самый слабый участок у нас там. Надо решить, куда поставить свежие бригады.
Он намеренно сказал именно так: «…в дивизию Лещинского». Член Военного совета покачал головой и покосился на Камбурга, который возился со своей трубкой и делал вид, что занят только ею.
И уже на улице, когда садились в машину:
– Надо подумать о кандидатуре на должность выбывшего командира двести двадцать второй.
– А может, Михаил Григорьевич, надо возвратить полковника Боброва? Прошло некоторое время, достаточное для того, чтобы подумать и взять себя в руки. К тому же он в последних боях проявил себя с лучшей стороны.
– Я тоже так думаю, – ответил командарм и усмехнулся: – Как говорит моя добрая матушка Александра Лукинична: наша невеста не гусей пасла, а веретеном трясла… А, Александр Кондратьевич?
– Это точно, – усмехнулся и Кондратьев.
Полковник Бобров был отстранён от командования дивизией в середине октября. Тогда шли упорные бои на изнурение. И командарм в тех условиях решил, что Лещинский лучше справится с управлением 222-й.
– Да, Александр Кондратьевич, надо возвращать Боброва. Заготовьте приказ.
Машина шла по расчищенной дороге. Следом, соблюдая дистанцию безопасности, на той же скорости летела крытая полуторка с охраной.
Ефремов покосился на Кондратьева. Тот оглянулся в заднее стекло и сказал:
– Камбург распорядился.
Капитан госбезопасности Камбург, начальник особого отдела армии, был из разряда служивых людей, которые на первый взгляд ни на шаг не отступают от того дела, которое им поручено. В свободные минуты раскуривал свою трубку и о чём-то думал. Любил побаловаться чайком в его, командарма, компании. Но и тут, за дружеским, казалось бы, столом и разговорами, не забывал о службе.
– Слишком он меня опекает, – сказал командарм и спросил Кондратьева: – Он тебя обо мне не расспрашивал?
– Нет, – ответил Кондратьев. – Лещинским интересовался.
Лещинским – это всё равно что им, командармом.
Кондратьев невольно поёжился. Ему самому хотелось спросить командующего, не интересовался ли им начальник особого отдела. Ведь он дважды побывал в окружении. А это не скоро забывается. Вернее, не забывается никогда. Помарка в личном деле – навсегда.
В октябре, в период первого броска «Тайфуна» на Москву, Кондратьев был начальником штаба 24-й армии. Одной из пяти, попавших в «котёл» под Вязьмой. 8 октября, когда уже началась неразбериха, он принял на себя командование теми дивизиями, которые оказались под рукой, и организовал оборону Семлёва. В Семлёвском лесу тогда оказались управления многих армий. Именно там, как он потом узнал, попали в плен командарм 19 Лукин, командарм 20 Ершаков, член Военного совета 32-й армии Жиленков, начальник штаба 19-й армии генерал Малышкин, там погиб командарм 32 генерал Вишневский. Когда начался прорыв, Кондратьев с частью штаба прорывался в колонне 106-й и 19-й стрелковых дивизий. Лезли через пулемёты. Через немецкие траншеи. Во время атаки был убит командир 106-й генерал-майор Котельников. Тяжело раненный в обе ноги начальник артиллерии армии генерал-майор Машенин застрелился. Командарм 24 генерал-лейтенант Ракутин погиб, пытаясь пробиться в том же направлении в другой колонне. Сам Кондратьев, раненный во время прорыва, вышел к своим в районе Дорохова и вывел группу в сто восемьдесят человек. После госпиталя его направили сюда, под Наро-Фоминск, в 33-ю армию.
222-я, куда они сейчас направлялись, во время летних боёв под Ельней входила в состав 24-й армии. В начале августа её вывели из состава армии, передали в 43-ю, и в вяземский «котёл» она не попала. Кондратьев помнил полковника Боброва как храброго офицера, умело управлявшего дивизией в самых трудных обстоятельствах. Но в ноябре у него попросту сдали нервы. Что ж, у всего есть степень прочности.
Думал свою думу и командарм.
Больше трёх лет прошло, а не забывается. Вот и теперь, когда начнут наводить справки о полковнике Лещинском, всплывёт в кабинетах ведомства Лаврентии Берии и его имя. Где теперь та его папка? Неужели Клим отдал её следователю? Или Сталин забрал её себе и хранит? Зачем она ему? Чтобы не попала в руки Берии? Возможно.
Ах, какой чудной была та весна! В Забайкалье сопки буквально цвели. Он никогда не видел такого великолепия природы. И вдруг – телефонограмма от наркома обороны СССР Ворошилова: срочно прибыть в Москву. Никаких пояснений. Просто – прибыть. Неужели новое назначение, томился он догадками в поезде, наблюдая в окно купе, как бурная забайкальская весна на Урале сменилась зимой, а потом, в Поволжье, снова зацвела подснежниками.
В Москве, на Павелецком вокзале, куда прибыл его поезд, комкора Ефремова встретил на машине порученец, офицер Генштаба, и проводил до гостиницы «Москва». И когда, занеся в номер его вещи, тот вдруг сказал, чтобы он не покидал гостиничного номера без специального разрешения, его худшие предположения подтвердились.
Он поинтересовался у порученца, в какое ведомство нужно обращаться для получения этого специального разрешения. Порученец внимательно посмотрел на комкора и тихо сказал:
– В НКВД.
На Лубянке во внутренней тюрьме в то время находился его сослуживец и друг по Приволжскому военному округу Павел Дыбенко. Командарма 2-го ранга, командующего войсками Ленинградского военного округа Дыбенко взяли по делу расстрелянных год назад Тухачевского, Уборевича, Якира, Корка, Примакова, Путны, Эйдемана. Почти со всеми из них Ефремов был хорошо знаком. С Тухачевским вместе воевали под Царицыном. Затем на Тамбовщине. Там же познакомился с Уборевичем. Тамбовская кампания оставила в душе Ефремова какой-то смутный осадок. Никому он не признавался в своих тревогах, которые время от времени окликали из прошлого. Но кто знает, может, всевидящее око ОГПУ-НКВД…
Следователь вежливо постучал в дверь, вежливо представился. Щеголеватый капитан госбезопасности лет тридцати.
Ефремов предложил ему сесть за стол и попросил у коридорного принести им два чая. Но капитан вежливо улыбнулся и твердеющим голосом сказал, что чай они будут пить в другом месте…
Каждый день капитан увозил его на Лубянку, в мрачное здание Наркомата внутренних дел, и там, в тесном кабинете, где ничего не было, кроме стола, двух стульев и лампочки, они по два-три часа беседовали на одну и ту же тему. Следователь задавал Ефремову одни и те же вопросы, на которые тот давал одни и те же ответы.
Где, когда и при каких обстоятельствах познакомился с агентом иностранной разведки Дыбенко?
Какие разговоры вели?
С какого времени он, Ефремов, завербован Дыбенко?
Какие документы он, Ефремов, подписывал, соглашаясь на сотрудничество с враждебными элементами против советской власти и Красной армии?
Это было за год до той московской весны. Он служил в Приволжском военном округе. Командовал 12-м корпусом. Войсками округа командовал Павел Ефимович Дыбенко. Подружились. Была в общем-то хорошая компания. Комкор Кутяков, который тогда был заместителем у Дыбенко, уже расстрелян. И его показания, как успел понять Ефремов, легли в основу обвинения Дыбенко. Вскоре арестовали и того. А теперь добрались и до него. Кутяков… Расстрелять Кутякова… Какой он враг народа? Какой фашист? Чушь собачья! Кутяков – преданнейший стране и народу офицер. Вот и Паша теперь… Домахался шашкой наголо… В тридцать седьмом все газеты только и писали об этом громком процессе. Военно-фашистский заговор! Потом сообщили о приведении приговора в исполнение. В Коллегии Верховного суда сидели люди, которым нельзя было не верить. И Павел Дыбенко тоже был среди тех, кто на суде допрашивал обвиняемых. Но потом просочилась другая информация: Клим с Семёном испугались оппозиции, что их, старых рубак, скоро потеснят люди помоложе и, главное, более образованные. Вот и бросили в атаку свою проверенную Первую Конную. Но это тоже были всего лишь слухи. И пустили их в оборот конечно же намеренно и с расчетом. Истина, как всегда, была где-то посередине. Ефремов знал, что, когда в двадцать восьмом году из Москвы с Казанского вокзала в запертом наглухо вагоне выдворили Троцкого, именно Ворошилов и Будённый настояли перед Сталиным, чтобы следом за своим покровителем из столицы, подальше от наркомата, убрался и Тухачевский. Но знал Ефремов и другое: с выдворением Троцкого свободнее вздохнул и Дыбенко, этот неукротимый предводитель балтийской матросской вольницы, жизнелюб, забубённая голова, так и не смог понять, что настали другие времена, и то, что прощалось ещё вчера, сегодня стало опасным для жизни. Слишком сложно заплелась интрига. Всё новые и новые имена захватывала она своей смертельной хваткой, из которой пока немногим удалось вырваться.
Два с половиной месяца длилась эта изнуряющая дуэль. Следователь давил, пытался выстроить картину широко разветвлённого заговора. Ефремов стоял на своём: никаких разговоров не вёл, документов не подписывал, умысла против советской власти и партии не имел и не имею.
Следователь начал подсовывать заранее подготовленный протокол допроса. Те же самые вопросы. Только ответы другие. Ефремов читал их, едва сдерживая себя от яростного желания схватить следователя за горло и сдавить до смертного хруста, чтобы не видеть больше его торжествующей улыбки. Затем отодвигал от себя стопку листов, исписанных чужим и ненавистным почерком, где не хватало только его размашистой фразы, столь желанной для следователя: «С моих слов записано верно», и подписи. И спокойно отвечал:
– Оговаривать себя не стану. Я не виновен.
Каждое утро его увозили из гостиницы «Москва». И каждый раз привозили на той же машине обратно. Он понимал: одно неверное слово, один непродуманный шаг, и его уведут по мрачному коридору, впитавшему в себя ужас тысяч несчастных, во внутреннюю тюрьму, и оттуда уже ему никогда не вырваться живым.
Однажды следователь устроил очную ставку. Дыбенко привёл охранник-солдат. В первые мгновения Ефремов не узнал в человеке, которого ввели в кабинет следователя, бывшего командарма 2-го ранга и своего командира. Ни бороды, ни усов. Где тот балтийский орёл, которого так любили и уважали в войсках? Затравленный взгляд, провалившие сутулые плечи раздавленного горем человека, лишённого воли. Начался допрос. Следователь задавал вопросы. Дыбенко монотонным, тихим голосом отвечал заученными фразами: да, я являюсь шпионом… пораженческие мысли… антисоветская организация правых в РККА… Связан с Тухачевским… сведения о количестве дивизий, дислоцированных в округе… комкор Ефремов завербован мною год назад, когда служил под моим началом в должности командира 12-го стрелкового корпуса… подписал все документы… в разговорах ругал советскую власть и лично товарища Сталина…
Дыбенко увели. И снова следователь взял чистый лист бумаги. И снова обмакнул перо в чернильницу. И снова задал вопрос, стоявший первым в том проклятом, ненавистном списке.
Ругал ли он советскую власть? Возможно, что и ругал. Он ругал ту власть, которая довела мужиков до такой нищеты. Осенью прошлого года, когда его, командующего войсками Приволжского военного округа, рабочие Ульяновска выдвинули кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР, он поехал к избирателям округа. Вот тогда-то и увидел многое. Услышал просьбы и жалобы людей. Угнетало то, что при всей очевидности того, что надо принимать срочные меры для улучшения жизни людей, помочь нуждающимся было практически нельзя. Нечем! Нужно было менять в корне всю систему государственного отношения к крестьянству. Но как?! В глухих деревнях и в отдалённых колхозах он видел следы настоящей нищеты. Той самой нищеты простых людей, против которой дрался в Гражданскую с теми, кто, как он считал, был виновником этой нищеты. Он видел доказательства того ропота, пробивавшегося из глубин народной жизни, который свидетельствовал о том, что коллективизация не принесла деревне желанного счастья освобождённого труда. И, может быть, после седьмой рюмки они тогда, в Куйбышеве, и говорили о чём-нибудь подобном, о чём не принято было говорить на трезвую голову и среди чужих. Эх, Павел Ефимович, Павел Ефимович… Тебя ведь всегда заносило чёрт знает куда. Ты не понял, что восемнадцатый год ушёл навсегда! И теперь, когда тебя вызывает нарком, то отряд матросов с пулемётами с собою в Москву уже не привезёшь…
Обычно, когда Ефремов приезжал в Москву по делам, он останавливался у родителей бывшей жены, которых по-прежнему любил и чтил как тестя и тёщу, потому что их объединял Миша. Сын. Теперь, живя в гостинице, он попросил следователя разрешить ему видеться с сыном. При всей строгости режима домашнего ареста ему разрешили эти свидания. И, чтобы не сойти с ума бессонными ночами, он попросил Мишу принести ему журналы по военному делу. Но искусство управления войсками не отвечало всё же на главные вопросы, которые его мучили тогда. Он спросил сына, какие книги они, молодёжь, читают сейчас в старших классах.
– «Войну и мир» Толстого, – ответил сын.
– Принеси мне Толстого, – попросил он.
– Все четыре книги?
– Все четыре.
И, когда он погрузился в чтение, когда овладел строем мыслей Толстого и проникся любовью и сочувствием к героям этой удивительной книги, вдруг почувствовал, что то страшное, что происходило с ним, охватывая его всё сильнее и сильнее, начало отступать и рассеиваться. Как рассеивается смертный морок абсурда, когда жизнь вдруг выстраивает свою логику извечного и несокрушимого смысла. И самоуверенный тон следователя, и собственные мысли, подтачивавшие его изнутри, показались вдруг мелкими и не столь важными. Не на этом основывался, строился и совершенствовался мир. На ином. И это, иное, неподвластно было ни следователю, ни даже наркому. И за это он решил держаться до последнего.
Особенно его поразили несколько эпизодов. Смерть старого князя Болконского и храбрость артиллериста Тушина. Старый генерал умер, как только узнал, что войска Наполеона взяли Витебск и движутся к Смоленску. Ему сразу незачем стало жить. Паралич разбил его. Толстой так и написал: «…он лежал в параличе, как изуродованный труп». Толстой был офицером, солдатом. Он знал цену таким словам. Старый князь умирал в своём имении, как на поле боя. Он не выиграл этого сражения. И последними его словами были: «Погибла Россия! Погубили!» А о стойкости батареи капитана Тушина Ефремов читал с таким волнением, что под веками замерцали слёзы. Так неужели же у меня не хватит сил, чтобы устоять на своём рубеже так же, как устоял тот капитан? Ведь устоял же он уже однажды, в 1920 году, на командирской площадке бронепоезда, когда навстречу им мчался на всех парах пущенный мусаватистами паровоз. Тогда его артиллеристы расстреляли паровоз из орудий, и стальная громада остановилась всего в нескольких метрах от бронепоезда.
Спустя месяц он написал письмо Климу и потом Микояну. Ворошилов и Микоян конечно же сделали всё, чтобы Сталин разобрался во всём сам. Это давало надежду. Хозяин не станет топить того, к кому почувствует расположение. С Климом его связывала дружба, военная юность. С Анастасом – эпизод, который вошёл в классику военных операций двадцатых годов. Тогда, во время рейда на Баку, когда они не дали англичанам поджечь нефтяные промыслы и эвакуировать на кораблях за границу награбленные ценности, на площадке головного бронепоезда «IIIИнтернационал» они стояли вместе: он, Ефремов, и Анастас Микоян. Если бы батарейцы промахнулись, если бы не расстреляли паровоз и он врезался в бронепоезд, они погибли бы вместе, в одно мгновение. Микоян не мог допустить того, чтобы из всех академических курсов военных учебных заведений было изъято описание этой операции. Ведь среди организаторов и исполнителей её значилось и имя Анастаса Ивановича Микояна. Разобраться в деле Ефремова лично Сталина уговорили конечно же они, Ворошилов и Микоян.
О, это был суд Батыя!
Встреча произошла в просторном кабинете наркома обороны. Но в кресло Ворошилова Сталин не сел. Придвинул стул и сел сбоку. Ворошилов тоже скромно примостился на углу.
Начался разговор. Сталин сказал, что Дыбенко всё же упорно свидетельствует о виновности Ефремова. Как быть с этим? И тогда он сказал, что думал, что видел: Дыбенко находится в крайне подавленном состоянии духа, и в данном случае можно вести речь не об аргументах в пользу вымышленной его, Ефремова, вины, а о полном умопомрачении обвиняемого. Сталин поморщился. Должно быть, ему было неприятно слышать о том, что следователи в ведомстве Лаврентия Берии во время допросов доводят арестованных до такого состояния. Вскинул глаза и ткнул пальцем в документы, якобы подписанные Ефремовым и свидетельствующие о его участии в заговоре против Сталина и правительства. Ефремов сказал, что это не его рука и такого вздора он подписывать не мог. Сталин, как всегда, потребовал доказательств. Бывший гравёр, профессионально понимающий и чувствующий отличительные черты любого почерка, особенности начертания каждой буквы, Ефремов взял карандаш, лист бумаги и начал писать слова и буквы, тут же поясняя, где и в чём допущены ошибки фальсификатором «документа». Ворошилов и Микоян начали шипеть на генерала НКВД. Генерал представлял сторону обвинения и теперь, после защиты Ефремова, проведённой им самим, сидел, как на гранате, из которой выдернута чека, но скоба ещё придавлена сжатой в кулак ягодицей… И вдруг Сталин рассмеялся. Он не просто смеялся – хохотал! Микоян и Ворошилов, переглянувшись, тоже начали смеяться. Молчали только двое: он, комкор, которому так помогла его бывшая специальность гравёра, и генерал НКВД, который, должно быть, с ужасом думал о крахе не только своей карьеры, но и судьбы.
– Товарищ Ефремов, – сказал Сталин, и на его лице уже не было и тени улыбки. – Мы подумали и решили поручить вам Орловский военный округ. В Читу вам ехать не надо. Поезжайте прямо в Орёл, принимайте дела. Округ только что создан, и дел там много. А этому… – Сталин снова усмехнулся в усы. – Этому делу место не в архиве… Клим, – обратился он к хозяину кабинета, – ты сюда бросаешь ненужные бумаги? – И Сталин бросил папку в корзину, стоящую у стола.
Командарм хорошо запомнил и то, что произошло в следующее мгновение.
Генерал НКВД мгновенно сорвался со стула, поймал брошенную Сталиным папку, но, увидев его холодный взгляд и неодобрительный жест, тут же спохватился, завязал красные тесёмки папки и сунул её в корзину.
После суда Сталина Ефремов возвращался в гостиницу «Москва», в свой ненавистный номер, пешком. Стояла уже середина лета. Как хорошо и свободно было на душе!
В гостиничном коридоре его ждал Миша. Как хотелось ему встретить кого-нибудь из самых дорогих ему людей! И вот – сын. Миша сказал, что решил поступать в танковое училище. Он обнял его. В благодарность за то, что не оставлял его все эти месяцы и что теперь они всегда будут вместе. Хотя выбор военной карьеры не одобрил. Сказал сыну:
– Миша, сынок, у тебя слишком романтичная душа. И она никак не соответствует той суровой жизни, которая ждёт тебя после окончания военного училища.
Сын нахмурился.
В сорок втором году, после смерти отца, старший лейтенант Михаил Михайлович Ефремов будет переведён в 33-ю армию и через год разыщет в Слободке могилу командарма.
А через месяц после суда Сталина Калинин торжественно вручил Ефремову орден Ленина.
Но красные тесёмки папки, со скрипом затянутые тугим узлом генералом НКВД, нет-нет да и вспыхивали в его памяти зловещими отблесками прошлого, которое вряд ли ушло навсегда. Знает ли обо всём этом капитан Камбург? Всего, конечно, знать не может. Но что-то, в общих чертах, несомненно.
Когда повернули к лесу, увидели несколько сгоревших машин, разбитое самоходное штурмовое орудие, трупы лошадей. Всё это было сдвинуто с дороги и уже наполовину заметено снегом. Они прильнули к стеклам окон. Командарм похлопал водителя по плечу и сказал:
– Гриша, голубчик, останови.
Они вышли из машины. Молодой снег, выпавший ночью, слепил глаза. Командарм подошёл к штурмовому орудию. От него ещё пахло горелым металлом.
– Это работа лётчиков семьдесят седьмой, – пояснил Кондратьев.
– Хорошо поработали. Лошадей надо убрать.
Они снова сели в машину. Но на опушке увидели группу людей. Человек двенадцать сгрудились под раскидистой елью и на костерке что-то готовили в котелках. Чёрные закоптелые котелки были нанизаны на прогнувшуюся палку.
Командарм снова велел остановиться. Машина охраны затормозила рядом, автоматчики высыпали из кузова и в одну минуту оцепили сидевших у костра.
От группы отделился невысокого роста пожилой боец в изодранном полушубке, кое-как зашитом поверх суровыми нитками, вскинул к каске чёрную, как котелок, руку и довольно бодро и внятно доложил:
– Сводный взвод четыреста семьдесят девятого стрелкового полка следует в расположение штаба на сборный пункт, товарищ генерал-лейтенант. Недавно вышли из боя. Командир взвода старшина Нелюбин.
Где он видел этого старшину? И голос знакомый. И осанка.
– Где занимали оборону?
– В районе Малых Семёнычей, – так же бодро ответил старшина. – Стояли против танков, товарищ командующий, на фланге. Стреляли до последнего патрона.
А ведь где-то я видел его, подумал командарм и подошёл к костру. Совсем недавно.
– Почему костёр развели? Демаскируете. Немецкой авиации дорогу показываете.
– Они сегодня не полетят. Нелётная нынче погода, – простодушно и уверенно заметил старшина. – А нам ранетых накормить надобно. Ребята третий день без горячего. А теперь уж вышли, что ж… Приказал костёр развести. Готов понести наказание, товарищ генерал. Моя промашка, мне и ответ держать.
– Корми, корми своих людей, старшина. Спасибо тебе, – и он обнял старшину и спросил: – Среди вас, смотрю, и артиллеристы?
– Точно так. Со всех частей. Сведены временно во взвод. До выхода на сборный пункт.
– Кто же распорядился свести и при каких обстоятельствах?
– Я и распорядился. Как старший по званию. Других командиров не оказалось. А при каких обстоятельствах… Что ж, обстоятельства обыкновенные – бой. Чтобы не пропасть, и сбились в кучу. Ранетых, опять же, выносить надобно. Вынесли, слава богу. И сами живые.
– Вы приняли верное решение, старшина.
Командарм хотел распорядиться, но увидел, что сержант из охраны принёс из машина вещмешок и начал выкладывать из него консервные банки и хлеб. Он кивнул и сказал адъютанту, майору:
– Запишите фамилию старшины. Выясните обстоятельства и заготовьте представление к награде. Перепишите всех. И срочно вызовите транспорт, чтобы эвакуировать раненых. В ближайший медсанбат.
Глава десятая
Снег шёл уже несколько суток подряд. День и ночь. Заваливал окрестные леса, поля и деревню, сразу как-то присевшую в своём уютном одиночестве среди этого белого царственного простора. Даже скрипы калиток и голоса людей тонули, придавленные снегом. Снег был повсюду: на крышах домов и сараев, на жердях изгородей и покинутых до весны скворечниках, снег кружился вверху, в небе, и, казалось, сутью неба теперь стал именно он, снег. Снег, снег… Он хрустел, шуршал, залеплял глаза и уши, даже попадал в горло, таял на губах и веках.
Воронцов подходил к окну, смотрел на улицу, где даже стёжки завалило и перемело ночными метелями, вздыхал и снова садился на порог и принимался за начатую работу – починку своих до крайности изношенных сапог. Снова всё рушилось: чем больше наваливало снега, тем менее реальным представлялся ему успех очередной попытки перейти фронт и наконец соединиться со своими. По чернотропу да по малому снегу не прошли, а теперь, когда весь свет завалило на метр…
Он уже слышал, как их называют здесь, в Прудках, местные жители – зятьки. Вот и он, курсант шестой роты Подольского пехотно-пулемётного училища Александр Воронцов, без пяти минут лейтенант, тоже теперьзятёк. Какой он после этого курсант? Какой сержант? А уж тем более – лейтенант? Зятёк. Всё верно. Даже незять, азятёк. Как всё равно – хорёк. Зять – слово хорошее, основательное. А зятёки естьзятёк. Слово деформировано так, что второй его смысл стал основным.
На днях из лесу пришли ещё четверо. Привёл группу техник-лейтенант, танкист. Сказал, что шли с самого октября месяца. Подкармливались в деревнях. Дважды пытались перейти линию фронта, но это не принесло ничего, кроме потерь. Из четырёхсот шестидесяти человек, вышедших из Семлёвского леса из-под Вязьмы, их осталось четверо. Остальные кто где: кто погиб, кого, раненого, оставили в ближайшей деревне, кто отбился. Многие уходили сами – кто домой, кто в плен, кто в зятьки…
Справившись с сапогами и хорошенько смазав их дёгтем, Воронцов, чтобы не сидеть сложа руки и не быть нахлебником, тут же принялся за другую работу: отыскал в запечье поношенные детские валенки, насмолил льняных ниток и начал подшивать валенки для Пелагеиных сыновей. Никогда он не делал такой работы. Но видел, как работал шилом и кривой сапожной иглой дед Евсей. Инструмент в доме нашёлся. И увиденное однажды сразу ожило в руках.
Прокопий, Федя и Колюшка вьюнами вились возле него. Вскоре он усадил на колени младшего и велел ему обуваться в обновку. Как раз вошла в дом Пелагея. У порога стащила с головы шаль, стала отряхиваться от снега. Увидела Колюшку в подшитых валенках. Воронцов ещё не знал, как она отнесётся к его самовольной инициативе. Настороженно наблюдал за ней. В прошлую зиму, как рассказал ему Прокопий, эти валенки носил Федя.
Лицо Пелагеи вспыхнуло мгновенной улыбкой, и зелёные глаза её, казалось, стали ещё гуще, зеленее. Так и засияли в горнице озерца озимых полей! Они дрожали от напряжения. Воронцов заметил эту дрожь в её глазах давно. Вот только понять её до конца пока не мог. Чувствовал только, что Пелагея волнуется особым волнением. Когда женщина волнуется и причина её волнения – мужчина, это сразу можно понять. Невелик у него был опыт в таких делах, но это он понял сразу. Глаза у Пелагеи были совсем девичьи. Таких он ещё не видел. И, глядя в её глаза, он и сам начинал волноваться. Тогда, у стожка, во время первой встречи, он совсем не разглядел её. Она показалась ему пожилой тёткой. Может, потому, что слишком откровенно разглядывал её Кудряшов. Да ещё с пошлыми комментариями…
– Что, понравились? – спросил он её осторожно, глядя на Колюшку, который важно вышагивал перед матерью в ладно подшитых валенках.
– Как новые! А ты, оказывается, мастер! – и опять глаза её задрожали, так что он не выдержал и отвёл взгляд.
Сказал:
– Если есть где старые голенища, на подшивку, я и вам, Пелагея Петровна, валенки подошью.
– Есть! В сарае, на чердаке. Я принесу. Подшей и мне, – живо согласилась она, сияя яркой озимью счастливых глаз.
Он боялся на неё смотреть, зная, что она сейчас пристально смотрит на него. Знал и то, что, если он сейчас посмотрит на неё, она ни за что не отведёт взгляда. А то и засмеётся. Как будто его смущение тешило её.
Боже, как мало, оказывается, нужно женщине для счастья! Ну, может, не для счастья, думал он, а для обыкновенной радости. Хотя бы даже для минутной.
Спал Воронцов на широкой лавке в горнице, за дверью у окна. Старуха с детьми ютилась на печи, в тепле. А Пелагея всегда ложилась позже всех на широкой железной кровати за ситцевой занавеской. Никаких перегородок в доме не было, и занавеска делила горницу на две половины.
Изредка он виделся с Кудряшовым и Губаном. Комендантский час действовал повсеместно. Кузьма Новиков появлялся на своём кавалерийском скакуне совершенно неожиданно и в любом конце деревни. Встречаться с ним было нежелательно.
– Лучше будет, если полицай вообще не узнает о нашем существовании, – предупредил всех Воронцов, в том числе и пришедших из-под Вязьмы.
Вяземские держались особняком, дружно. И верховодил у них по-прежнему техник-лейтенант по фамилии Дорофеев. Сошлись они вроде бы случайно, на пруду у проруби. Дорофеев у своих хозяев отыскал бредень, починил его, навязал побольше поплавков из сосновой коры, пропилил пилой во льду две проруби и ловко наладился заводить снастью на половину пруда. После каждого такого проброда дюжина щук и окуней лежала на льду. Ему помогали один из его товарищей, которого он называл Артиллеристом, и Кудряшов. Брянский, видимо, уже расписал картину своими цветами, и, когда Воронцов подошёл к ним, техник-лейтенант вытянулся в струнку и представился, как если бы на льду шло построение и вот перед подразделением появился командир роты или батальона, и дежурный офицер докладывал ему…
Дорофеев со своими людьми тоже читал сброшенную с самолёта листовку. Но сказал:
– В лес сейчас не пойдёшь.
– А это ещё надо обсудить, – и Воронцов многозначительно взглянул на Кудряшова.
В Прудках поговаривали, что осенью, когда здесь стоял один из наших запасных полков, в лесу, где-то за вырубками, находились полевые склады не только полка, но и всей армии. Запасной же полк отправлял на фронт пополнение маршевыми батальонами и ротами. Здесь бойцов полностью экипировали, здесь выдавали винтовки и пулемёты. Здесь получали патроны и гранаты. Здесь отбывающих на фронт снабжали даже сухим пайком на двое-трое суток.
Однажды в сенцах на полке среди инструментов Воронцов нашёл аккуратную стопку новеньких красноармейских пилоток, пять или семь штук, перевязанных крест-накрест бумажным шпагатом. Это была явно фабричная упаковка. Он показал их Пелагее, и та рассказала, что ещё осенью, когда пошли опёнки, Зинаида взяла с собою в лес Прокопия. Побоялась идти одна. Зашли они далеко, и Зинаида, увлёкшись грибами, потеряла племянника. Причём произошло это так неожиданно и в одно мгновение, что она даже не успела сообразить, где он. Вот только что стоял рядом, и – нет его. Кинулась искать, кричать. Вскоре, вернувшись назад, нашла его на леснойдороге. Мальчик шёл в сторону деревни и горько плакал. В руках он держал вот эту самую связку пилоток. Зинаида обрадовалась, что Прокопий нашёлся, схватила его в охапку и побежала домой. А уже в поле, перед Прудками, рассмотрела его находку.
Мальчик ничего толком рассказать не мог. А потом в стороне Медыни загремело. Через лес пошли отступающие части. За деревню никто не выходил. Боялись всего и всех. И беглых красноармейцев, о которых тоже рассказывали разное. И диверсантов, которые в соседней деревне подожгли ферму и потравили лошадей в конюшне. И немцев, которые вот-вот должны были прийти и которых кто-то из старух уже видел на опушке, в Аксиньиной лощине.