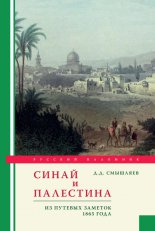Танец бабочки-королек Михеенков Сергей

– А зачем же мы своих побили?
– Так ты же, бронебой, первый со штыком кинулся.
Бронебойщик как-то болезненно и зло засмеялся сквозь зубы и сказал:
– А мне орден ни к чему. Попадись мне ещё, я и его…
И тут по деревне пронеслось:
– Кухня приехала!
– Жратва прибыла, братцы!
– Готовь котелки!
Старшина Нелюбин тут же приказал своему личному составу разойтись и собрать у убитых котелки. Через полчаса, отстоя в очереди, они совали кашевару свои посудины и говорили:
– Мне и товарищу.
Когда подошёл со вторым котелком седьмой, кашевар возмущённо спросил:
– И ты – себе и товарищу? А ну-ка покажь, где твой товарищ?
– Там.
– Как его фамилия?
– Калинкин, – без запинки ответил седьмой и вдруг рявкнул на кашевара, как в бою на свой взвод: – Накладывай, морда! Знай своё дело! Взвод четвёртые сутки из боя не выходит! А тебя, ёктыть, я первый раз на передовой вижу!
Собрались потом под той самой берёзой, которую за что-то так невзлюбил бронебойщик. Весело, наперебой и на разные лады застучали ложки по котелкам.
– Ешьте, ребятушки, ешьте хорошей, – приговаривал старшина Нелюбин, по обыкновению, обходя своих бойцов. – Поспать-то нынче, может, и не придётся. Котелки не бросать. Прибрать в сидора. Ещё пригодятся. Война не кончилась.
И это его «война не кончилась» вызвало ответную благодарную улыбку бойцов. Хотя говорил он о невесёлом.
Глава двенадцатая
Командарм вспомнил, где видел этого пожилого старшину. В госпитале. Пулевое ранение в грудь. Три или четыре пули. Старшину привезли, кажется, из-под Медыни или Боровска.
– Майор, – сказал он адъютанту, – помните старшину в лесу? Обязательно разыщите его.
И тут же – генералу Кондратьеву:
– Александр Кондратьевич, мне кажется, противник отходит. Оставляет заслоны и отходит по всему фронту. Надо преследовать его и бить на марше. Каждая дивизия должна сформировать ударную группу. Усильте их танками резерва и атакуйте. Бросайте вперёд лыжные батальоны. Перехватывать, останавливать и уничтожать изолированно!
– Лыжные батальоны запаздывают. А те, которые прибыли, не выходят из боя.
– Направляйте в бой поротно. Нельзя терять инициативы.
Командарм удовлетворённо осматривал окрестности, видел следы поспешного бегства противника, его сопротивления на промежуточных рубежах, слушал доклады командиров полков и батальонов и понимал: немцы выдохлись, израсходовали все резервы, и теперь главная их цель не перегруппировка для новой атаки, а отход. Отступление с целью сохранить остатки живой силы и вооружения. На новую атаку у них нет ни сил, ни средств. Возможны лишь локальные контратаки ограниченными средствами с целью помочь своим колоннам и обозам с минимальными потерями выйти из-под огня, оторваться от преследования.
На следующий день из штаба Западного фронта пришла шифровка: срочно привести себя в порядок, занять исходные, пополнить боекомплект, провести глубокую разведку перед фронтом всех четырёх дивизий. Это означало только одно: приготовиться к атаке.
А правое крыло Западного фронта тем временем уже успешно атаковало порядки 3-й и 4-й танковых групп и потеснило их вначале на глубину нескольких километров, а потом, введя новые силы, опрокинуло и погнало в сторону Волоколамска. Задвигалось и левое крыло. В наступление перешли также Калининский и Брянский фронты. И только центр Западного фронта, 5-я, 33-я и 43-я армии, продолжали стоять на месте.
Ночью пришла очередная шифровка от Жукова: командарму 33 – переподчиняем вам 338-ю стрелковую и 201-ю латышскую.
338-я передовым батальоном начала прибывать к утру и с марша занимать исходные. 201-я прибытием задерживалась.
18 декабря рано утром после часовой артподготовки армия атаковала позиции противника по всему своему фронту. И сразу же, в первые часы атаки, стало ясно: немцы держатся за каждый окоп, дерутся за каждую позицию.
После нескольких часов непрерывных атак наконец стал намечаться успех на левом фланге в полосе наступления 110-й и 113-й дивизий.
– Давайте туда мой резерв, – приказал командарм начальнику штаба. – Срочно перебросьте на грузовиках сводную роту и курсантов. Туда же – батарею РС и роту танков.
110-я переправилась через замёрзшую Нару, ворвалась в передовую траншею и в рукопашной схватке уничтожила немецкую пехоту. Затем с ходу вклинилась в оборону противника и начала развивать наступление в направлении двух крупных опорных пунктов – Елагина и Атепцева. Но вскоре один из полков дивизии был остановлен плотным пулемётным и миномётным огнём и, не имея артиллерийской поддержки, залёг. Правофланговый 1291-й стрелковый полк тем временем продолжал движение вперёд. Но и он вскоре остановился. В мелколесье близ Атепцева его встретила стена пулемётного огня.
Полк оторвался от своих соседей на полтора-два километра. Тылы подтянуть не успели. Ударная группа, пользуясь успехом, ломила вперёд, обозов не ждала. Локтевая связь с соседями оказалась утерянной. И немцы отреагировали мгновенно. Стремительной атакой они отрезали ударную группу полка фланговым ударом и начали её окружать.
Командарму тут же доложили о случившемся.
– Кто командует полком? – спросил он начальника оперативного отдела.
Полковник Киносян тут же ответил:
– Капитан Лобачёв.
– Капитан? Почему капитан?
– Хороший капитан, товарищ генерал, и майора стоит. А комполка выбыл ещё в начале декабря, во время прорыва. Лобачёв командовал первым батальоном тысяча двести девяносто первого полка.
– И что, держится этот капитан Лобачёв?
– Ещё как держится. Занял круговую оборону и успешно дерётся.
– Какое у них вооружение?
– Несколько ротных миномётов, до десятка пулемётов и винтовки. Захватили кое-что из трофеев.
– Сколько человек?
– До четырёхсот.
– Уточните по карте, где они, – и командарм протянул Киносяну карандаш.
– Они окапываются вот здесь, – начальник оперативного отдела очертил на карте едва заметный красный кружок.
– Они оседлали узел дорог. Шоссе Атепцево – Елагино и вот этот большак. Я правильно вас понял?
– Именно так, товарищ генерал.
– Если такое решение капитан принял не только под давлением противника и обстоятельств, то есть заночевал там, где застала ночь, то он вполне сумеет командовать полком. Попробуйте вывести его оттуда как можно скорее. Если не получится, то надо наладить переброску ему продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Наверняка у их там много раненых. Об этом надо позаботиться немедля. Их оборона простреливается из конца в конец даже из винтовки.
Восемь дней и ночей армия будет прогрызать оборону противника. И все эти дни и ночи полк капитана Лобачёва будет держаться в полном окружении на высоте 195,6, осёдлывая перекрестье дорог и препятствуя противнику совершать какой бы то ни было манёвр, используя эти коммуникации. По нескольку раз в день командарм будет запрашивать то у командира 110-й дивизии, то в оперативном отделе положение 1291-го полка.
На четвёртые сутки, когда будут исчерпаны все средства пробиться к полку с целью его вывода из кольца, склонившись над картой, он вдруг скажет Кондратьеву:
– Александр Кондратьевич, а ведь этот отчаянный капитан Лобачёв со своим полком нам сейчас нужен именно здесь. Подполковник Беззубов докладывает, что он сковывает до двух батальонов противника, да ещё миномётную часть, да ещё отвлекает на себя артиллерийские батареи, авиацию. Сто десятая ослаблена. Если немцы раздавят Лобачёва… Если затем атакуют вот сюда или сюда… Наше наступление захлебнётся в необходимости латания собственных дыр и ликвидации угрозы фланговых ударов. Так что держитесь, капитан. Держитесь, голубчик. Как налажена доставка?
– Беззубов выслал к нему две разведгруппы. Обе прошли. Вот здесь. Видите?
– Болото.
– Да, болото. Местами замёрзло, местами нет. У них есть проводник. Или кто-то из местных, или бывалый человек, охотник. Словом, они прошли. Но теперь нужно доставлять им грузы самолётами. Потому что обе группы остались у Лобачёва на усиление и с целью активного ведения разведки. Доставили немного продовольствия, медикаментов и боеприпасов. А также рацию с запасным комплектом батарей. Вся связь теперь – только шифром. Шифровальщик послан вместе с одной из групп.
Знал ли он, беспокоясь о судьбе окружённого 1291-го полка, что всего лишь через месяц с небольшим точно в такие же обстоятельства попадёт Западная группировка его армии, четыре лучших дивизии, а судьбу капитана Лобачёва разделит он сам? С той лишь разницей, очень существенной, что полк капитана Лобачева всё-таки вытащат из окружения, что с ним будет существовать постоянная связь, что почти каждую ночь на перекрестье дорог ночной курьер Р-5 будет сбрасывать несколько контейнеров с необходимыми грузами. А дивизиям Западной группировки, запертым под Вязьмой, не сможет помочь никто…
Каждый день ему будут докладывать: немцы снова пытались ликвидировать окружённых, против полка брошены танки и самолёты, 1291-й снова отбил атаку немецкой пехоты, немцам необходимо освободить занятые для осуществления блокады батальоны, а потому на высоту 195,6 они опять произвёли огневой налёт и силою до двух батальонов атаковали сразу с трёх направлений, пытаясь наконец уничтожить окружённый полк.
И однажды между командармом и начальником штаба состоялся такой разговор:
– Михаил Григорьевич, этот капитан… Он вам кого-то напоминает, не так ли?
– Да, Александр Кондратьевич. Однажды сын порекомендовал мне книгу. Признаться, не думал, что она настолько увлечёт меня. И я буду вспоминать её героев вновь и вновь. И их судьбы, и цена поступков на многое откроют глаза. Так вот там тоже был один капитан. Артиллерист.
– Как же, как же, читывал и я Толстого. Фамилия того капитана, кажется, Тушин.
– Тушин. Литература… Выдумки писателей… А ведь всё удивительным образом повторяется в реальности. Тогда пришли французы, республиканцы. Теперь – германцы, фашисты. А у русского человека и тогда, и теперь судьба и задача одна и та же. Вот и наш капитан Лобачёв теперь на той главной линии огня, на которой держал свою позицию когда-то капитан Тушин.
Пламя керосиновой лампы горело ровно, с мягким, едва слышимым шорохом, иногда так же тихо трепетало. Командарм на мгновение умолк, словно для того, чтобы послушать этот мягкий трепет. Но, похоже, что начатая тема его влекла, и он продолжил свои размышления:
– Красивые слова. И в определённых обстоятельствах могли бы выглядеть вполне нелепыми. Слова… Почти как в романе, – и он усмехнулся. – Но откуда они появляются? – он похлопал по груди. – Странная штука – война, Александр Кондратьевич. Особенно война с внешним врагом. Вы понимаете, о чём я говорю. Враг напал. Подмял под себя часть нашей земли. Мы собрались с силами и выступили против него. Началась решающая битва. Все это понимают, все чувствуют, что от исхода битвы зависит всё. И судьба страны, и судьба его семьи. И вот именно здесь-то и происходит необъяснимое. Именно здесь человек неожиданно преображается до высот непостижимых. О которых в себе, быть может, и не догадывался. Что-то происходит. Срабатывает какой-то внутренний заряд. Ведь смотришь порой: простой мужичонко, осанка вчерашнего крестьянина, и ростом-то не вышел, и в плечах не особенный богатырь, а в бою – богатырь! Ещё какой богатырь! И всё подразделение своим примером на позициях держит.
– Ничего, наш капитан тоже удержится.
– Очень бы я этого желал. Хочу взглянуть на него. На живого и здорового. Чтобы пожать ему руку.
Глава тринадцатая
Третий день Пелагея варила перловую крупу с тушёнкой. Когда она вытаскивала из печи чугунок, Прокопий, Федя и Колюшка уже сидели за столом и смирно ждали с ложками наготове. Старуха почти не слезала с печи. Чашку с деревянной самодельной ложкой ей подавали туда. И она, довольная, всякий раз спрашивала:
– Палашенька, детка моя, знать, Иван воротился? Его гостинец?
– Его, – выдавливала из себя Пелагея и отворачивалась к окну, чтобы её лица и некрасиво дёргающейся губы не видели ни дети, ни Воронцов.
– То-то каша хороша. Вот Ванюшке спасибо!
Что правда, то правда, такой каши они не ели давно.
– Пелагея Петровна, только об этом не должен знать никто, даже твой отец, – предупредил её Воронцов, когда они привезли из Красного леса второй мешок с продуктами.
Полностью вывезти дрова они ещё не успели. Ночами дорогу переметало, и, пока утром пробивались к делянкам, расчищая замёрзшие перемёты, время было уже к полудню. Поработав час-другой в делянке, по-быстрому, чтобы успеть вернуться до комендантского часа, нагружали сани и спешили в Прудки. Опасались встретиться с Кузьмой Новиковым. Тот иногда приезжал на поверку. Так он это называл. Объезжал на коне Прудки после комендантского часа. Не спеша. Из конца в конец. Чтобы люди из окон своих хат полюбовались на его, нового начальника, выезд. Он знал, что рано или поздно страх перед ним перерастёт в почтение. Вот и пусть привыкают. Главное, понял он, надо их придавить, чтобы не мекали. Как волк овечку. Всякая власть, то с удовлетворением, то со смутной надеждой думал он, так и начинается, так и устанавливается. Пусть почувствуют мою силу. А там… Там, глядишь, и стерпится-слюбится…
В один из дней, только-только управились разгрузить очередной воз, увидели идущего их стороной Петра Фёдоровича. Пелагея нагнулась над бревном и сказала неспокойно:
– Что-то стряслось. Тятя просто так не зайдёт. А идёт к нам. Может, с Зиной что…
Пётр Фёдорович хмуро посмотрел на Пелагею и Воронцова, окинул взглядом дрова, сваленные прямо в снег, и, не поздоровавшись, даже не кивнув, прошёл к крыльцу и махнул на ходу рукой:
– Пойдёмте-ка. Поговорить надобно.
Он зашёл в дом и, не раздеваясь, сел на лавку у окна. С удивлением потянул избяной дух и спросил:
– Что, Курсант, нашёл-таки райкомовскую похоронку?
– Какую? – вмешалась Пелагея.
– Не тебя, доченька, спрашиваю, – и Пётр Фёдорович внимательно посмотрел на Воронцова.
Воронцов молчал.
– Думаете, вы тут, вдвоём, хитрее всех? Чугунок с кашей сховали, а запах из каждого угла торчмя стоит. Кто ещё об этом знает? – Пётр Фёдорович кивнул на печь.
– Пока только мы и знаем.
– Кто – мы?
– Я, Пелагея Петровна и Зинаида, – сказал Воронцов.
– И Зину втянули. Понятно… А ведь промолчала, – и Пётр Фёдорович ворохнулся на табуретке, потеребил свою шапку и сказал то, ради чего пришёл: – Завтра в деревню немцы приедут. Отставших будут переписывать и тёплые вещи собирать – для германской армии. Приказ такой имеется.
– И что нам делать? – спросила Пелагея, упреждая вопрос Воронцова.
Пётр Фёдорович опять поморщился и, выдержав некоторую паузу, сказал, глядя на Воронцова:
– Валенки да тёплое тряпьё кой-какое я сегодня соберу. Чтобы завтра не подпустить деревню под грабёж. А вот что делать с вами… Давай вместе думать. С тем и пришёл. Вчера на станции на запасных путях кто-то сжёг два вагона с боеприпасами и разным снаряжением для германской армии. Часового зарезали. Вагоны облили бензином и мазутом, бросили несколько бутылок с горючей смесью. Жгли основательно. Теперь ищут. Допытываются кто. На станции и в ближних деревнях, говорят, заложников взяли. Держат. Через двадцать четыре часа расстреливать начнут.
– Из наших никто не отлучался. Я знаю точно.
– А ты? Ты сам?
– Только в лес.
– А через лес, пятнадцать вёрст и – станция. То-то и дело… Начнут дознаваться, и выяснится, что именно тебя, Курсант, и не было целый день в деревне. И поволокут. Тебя да моих овечек. А?
Пелагея недовольно дёрнула плечом. Хотела что-то сказать сгоряча, но передумала.
– Мы, Пётр Фёдорович, весь день лес возили. Лес да дрова. Люди видели.
– Эх, Курсант, Курсант. Командир ты, может, и хороший… Расскажу я тебе сказочку. Недолгую. Четыре года тому назад братенника моего судили. Знаешь за что? На сеялке стоял и уснул. Зерно в бункерах кончилось, и трактор, может, с час, впустую сеялку по полю протаскал. Потом спохватились. Оно, может, и ничего, обошлось бы. Пересеяли бы ту лысину. Степан несколько суток не спал. Колхоз в передовые выводил. Но тут, надо ж такому случиться, уполномоченный НКВД из района приехал. Его к нам в колхоз от райкома на посевную прислали. Вот он себе занятие по душе-то и нашёл. И – пошло… Саботаж! Вредительство! А Степан у нас в колхозе первый стахановец был! Десять лет дали. На Колыму братень пошёл. Не за здорово живёшь… А знаешь, кто тут у нас был уполномоченным НКВД? А товарищ Артёмов. Командир партизанского отряда, которого недавно в Аксиньиной лощине застрелили. Видел я его. На санях лежал. Полицаи его раздели. Одёжа, видать, ладная была. Командир всё же. В обтрёпках ходить не будет. Вот везут его по деревне, а я смотрю на него, убитого и раздетого, и ни один нерв во мне не шевельнулся, чтобы пожалеть его. Ну? Что? Понравилась тебе моя сказочка? Я не думаю, что нонешняя власть к народу будет добрее. Те-то заложников не брали. А эти… Эти ни детей наших, ни матерей, ни стариков не пожалеют.
– Хорошо, Пётр Фёдорович, я вас понял. Своих я уведу. Вяземских, думаю, тоже. Но за остальных не ручаюсь. Они – сами по себе.
– Уведу… Вы-то уйдёте… А что нам делать? Ладно, Кузьма, может, и промолчит. Не станет пока нас под стебло совать. Но его молчание тоже – до поры, до времени… Но тогда уж, если в лес, обратно вам ворочаться нельзя. А тут вроде: ушли и ушли, с нас какой спрос?..
Уже стемнело, когда Губан обежал Прудки и оповестил окруженцев о том, что велено собраться на пруду, в ракитах.
Собрались не все. Но Кудряшов, Губан, все вяземские и ещё двое пришли точно в назначенное время.
Воронцов изложил все обстоятельства, в которых оказались и они, и местные жители. Рассказал и о поджоге вагонов с боеприпасами на железнодорожной станции, и о заложниках, и о том, что специальные подразделения жандармерии и местные полицейские проводят регистрацию всех бывших военнослужащих РККА. И подытожил:
– Нам надо уходить.
Ответом ему было молчание. Ни страха, ни озлобленности в том молчании он не почувствовал. И тут скрипнул снегом Кудряшов.
– Недолго жили в тепле и холе, – сказал он. – Оно, конечно, одно из двух: или просто перепишут, соберут барахло и уедут. Или на всякий случай кое-кого заберут. Хотя бы для острастки. В колонну и – на Юхнов. Там, говорят, уже и концлагерь оборудован. Добро пожаловать, доблестные бывшие воины Красной армии!.. Так что я тоже думаю, что надо смываться отсюда. Хотя бы на время. Курсант прав.
Вяземские, будто оцепенев, молчали. Молча посматривали на своего командира. Воронцов знал: у них не принято было молвить слово прежде, чем скажет своё лейтенант. Понимал Воронцов и то, что больше всех наскитались в лесах, натерпелись всякого лиха именно они. И им сейчас срываться с насиженного… Только-только пришли в себя, отоспались, стали малость отъедаться, и снова – в лес.
– Послушай, Курсант, или как тебя там, – заговорил вдруг один из окруженцев, которого все звали Владимиром Максимовичем и который был вдвое старше любого из них. – Я хотел бы знать следующее: первое – куда ты намерен вести людей в такую стужу? Второе – будет ли тёплый ночлег? И третье – обеспечение и прочее… Вопрос понятен?
– Первое: я не заместитель командира полка по тылу, – резко ответил Воронцов, – и всё из перечисленного вами обеспечить даже такому небольшому количеству людей не могу. Второе: я веду людей не в стог и не под ёлку. База есть. Но о ней я скажу только тем, кто пойдёт со мной. Третье: многое придётся сделать для себя самим. И последнее, самое главное: уходить надо. Чтобы не ставить под удар местных жителей. А вы, Владимир Максимович, меньше всех из нас похожи на местного жителя, и любой фельджандарм это определит сразу.
Снова они слушали тишину и напряжённое дыхание друг друга.
– Раненых предлагаю всё же оставить, – сказал Владимир Максимович.
– Что касается раненых, тут решение должны принять вы. Это ваши люди.
– Да, конечно. Во сколько выступаем?
– В половине двенадцатого. Пункт сбора – опушка леса к востоку от деревни. Выдвигаться рассредоточенно, идти по утоптанной дороге. Лишних следов не оставлять. С собой захватить топоры, пилы, плотницкий инструмент. И, если есть где на примете, железную печку.
– Есть железная печка, – сказал Артиллерист. – И не просто железная, а чугунная!
– Топоры тоже найдём, – отозвался и Дорофеев.
Воронцов с облегчением вздохнул: значит, идём. И уже без всякой надежды напомнил:
– Всё имеющееся оружие тоже взять с собой.
Ровно в половине двенадцатого Воронцов стоял на опушке леса и слушал, как похрустывает снег под мягкими подошвами подшитых валенок. Люди торопливо шли со стороны деревни. Воронцов снял охотничьи лыжи, приставил их к берёзе, потрогал в кармане рубчатую рукоятку револьвера. И всё время с волнением вслушивался в мягкий, приглушённый скрип шагов: сколько же их идёт? Все ли согласились уйти в лес? Ведь некоторых и бабы не отпустят. Привыкли, пригрелись друг к дружке… Попробуй оторви.
Первыми пришли вяземские. Дорофеев, возбуждённо блестя в темноте белками глаз, доложил:
– Группа в количестве четырёх человек на пункт сбора прибыла. С собою имеем: одну печь, чугунную, два топора, ножовку, долото, рубанок.
– Так, хорошо. Вы двое, с печью, идите по этой дороге в сторону вырубок. Там мы вас догоним. Если не догоним, затаитесь где-нибудь за штабелем дров и ждите. Дорофеев, а что с оружием?
– Нет оружия.
– Как нет?
– А так.
– Побросали, что ль?
Дорофеев ничего не ответил, перемолчал.
– Может, недалеко бросили? – спросил Воронцов.
– Далеко. Что теперь об этом толковать? Нет оружия.
Вскоре подошли ещё трое: Владимир Максимович и с ним двое, которых Воронцов видел впервые. Владимир Максимович приложил к шапке ладонь и, как показалось Воронцову, с лёгкой усмешкой в голосе доложил:
– Товарищ курсант, группа в количестве трёх человек прибыла для дальнейшего следования по указанному вами маршруту.
– Всё? Больше никого не будет?
– За нами следом шли ещё двое. Ваши, товарищ курсант. Но где-то в овраге отстали.
Кудряшов и Губан принесли ещё одну чугунную печь и связку жестяных труб.
После полуночи звёзды померкли. Разом куда-то исчезли. Темень стала не такой прозрачной. Мороз ослабел. В деревьях зашуршал снег. Дёрнул и пробежал вдоль дороги ветерок, звеня обломками наста. И Воронцов, оглядываясь на вереницу шедших за ним людей, с облегчением вздохнул: хорошо бы ещё и метель – все следы скроет.
К утру они установили печи, вывели в отдушины рукава труб, наносили сушняка и затопили. Решили разместиться в дальнем отсеке землянки, завесив вход в основное хранилище куском шинельного сукна.
– Ох, сколько ж добра тут, ё-моё! – задумчиво окинул взглядом стеллажи Курдяшов, стоя под лампой в проходе.
Он первым заступал в караул.
Кроме револьвера с тремя патронами, который принёс Воронцов, оружия ни у кого не оказалось.
Кудряшов сунул револьвер за пазуху, загрёб из мешка сухарей и пошёл к лестнице, к чёрному, наполовину заметённому лазу.
Остальные устроились на жердяных полатях, застелив их шинелями.
Воронцов долго не мог уснуть. Вставал, подкладывал в печи дрова, сидел то у одной открытой дверцы, то у другой, смотрел на пылающий огонь.
– Что, не спится? – окликнул его Владимир Максимович.
– Думаю: где взять оружие?
– Оружие… – Владимир Максимович вздохнул, сунул руку под изголовье и вытащил оттуда пистолет. – Этого будет конечно же недостаточно. Но вы можете в случае необходимости рассчитывать хотя бы на это.
– Почему вы не доложили о том, что у вас есть пистолет?
– Это личное оружие, – Владимир Максимович потёр пистолет рукавом гимнастёрки. – Мой пропуск туда, через фронт. Документы пришлось уничтожить. Остался только он, мой верный боевой товарищ. Последний резерв.
Воронцов не стал спрашивать Владимира Максимовича о том, кем он был два-три месяца назад и какую должность имел в армии. Знал: то, что только что сказал Владимир Максимович, говорят для того, чтобы легче было подступить к главному. Владимиру Максимовичу конечно же хотелось излить душу. Сколько он держал её взаперти? Два месяца? Три? Не доверяя правды о себе никому.
– Наш полк был разбит в пух и прах. Как это ни прискорбно осознавать, но мы оказались совершенно не способными к эффективному отражению их атак. И дело даже не столько в их мощной моторизации войск и насыщенности вооружением. И миномётов, и танков у нас было не меньше. И орудия, и ПТО стояли на заранее оборудованных позициях. Вы меня слушаете, Курсант? Кстати, как вас зовут? Неловко как-то…
– Так и зовите – Курсант, – сказал Воронцов. – Это ведь не кличка, а моё настоящее воинское звание.
– Какое училище?
– Подольское. Пехотно-пулемётное.
– Умеете обращаться с пулемётом?
– Учили. Правда, воевал с винтовкой.
– Все мы, как теперь выясняется, воевали с винтовкой. Против танков и самолётов, – Владимир Максимович положил свой ТТ на грудь. – Вы заметили, как гибко, тактически многообразно и многопланово они ведут свои атаки? Как легко в случае отсутствия перспективы успеха отходят. Как жёстко и непредсказуемо затем контратакуют. И самое, пожалуй, главное, чему мы пока не можем противопоставить ничего подобного: чёткое взаимодействие подразделений пехоты, артиллерии, танков, авиации. Прекрасная связь. Связь! Вот что у них работает интенсивнее, чем пулемёты! Огонь артиллерии корректируется наблюдателями непосредственно с поля боя, иногда из специальных бронированных машин. Мобильность, подвижность. Всё отработано. У нас же – никакого управления. Танки атакуют сами по себе. Артиллеристы в самый трудный момент молчат или меняют позицию. Миномётчики палят по пустым площадям. В итоге, в бою, у бойца, который всё это безобразие видит из своего окопа, создаётся впечатление, что он остался один, со своей винтовкой и сотней патронов к ней. А если ещё вовремя и горячей каши не подвезли…
Этот странный человек расхваливал тактику и организацию боя врага. Это уязвляло. Но он говорил правду. И, будто угадывая мысли Воронцова, Владимир Максимович продолжил:
– То, о чем я говорю, в определённых обстоятельствах может выглядеть крамолой. Пораженческие настроения. Но, удивительное дело, здесь, сейчас это не имеет никакого значения. Если есть желание и терпение слушать, постарайтесь вылущить из моих слов самое рациональное, что может пригодиться в бою вам как командиру. И всем нам. Я начал войну под Рославлем. На реке Десне недалеко от Варшавского шоссе есть деревня Кукуевка. Вот там второго октября мы и схватились с их танками и пехотой. НП нашего стрелкового полка находился в непосредственной близости от передовой, на окраине Кукуевки. Артподготовка длилась сорок пять минут. А потом пошли танки. По фронту нашего полка наступало до ста сорока танков. Когда мы отбили первую атаку, тут же налетели пикировщики. Они всё время висели над полком, пока танки всё же не проутюжили все три линии наших траншей, на всю глубину. Так вот по поводу взаимодействия: иногда казалось, что командир их наступавшей пехотной роты в случае необходимости вызывал то пару или четвёрку «юнкерсов», то орудийную поддержку, то миномётную. Их артиллерия всегда наступала вместе с пехотой и, что самое поразительное, с танками. Чтобы этому противостоять, всё это надо сперва изучить, понять. Учёба непосредственно на войне стоит очень дорого. Эти уроки мы оплатили. Сможем ли воспользоваться ими? Утром мы собрались в лесу, километрах в полутора восточнее. Сорок шесть человек. Наверняка были и другие группы. Может, даже более крупные, чем наша. Но мы никого не встречали. По пути пристали несколько одиночек из других частей. Бегущие войска… Это уже не солдаты. Я хорошо запомнил лица бойцов нашего полка перед боем. Они шли в бой со светлыми лицами. С желанием победить. На следующий день я не узнал этих лиц. Да и сам, должно быть, выглядел скверно. А как, по-вашему, может выглядеть лицо начальника штаба только что разбитого полка, который потерял всех командиров батальонов, рот и взводов, в том числе и командира полка? Вот в чём штука, Курсант.
– Как фамилия вашего командира полка?
– Полковник Фетисов.
Воронцов сразу же вспомнил лицо майора Алексеева, его напряжённую улыбку и жест, которым он подтягивал перед боем ремешок своей каски.
– Моё воинское звание подполковник. Подполковник Турчин. Так что, когда вы давеча по поводу тыловой службы полка… признаться, я даже вздрогнул. Почти в точку. А оружие мы раздобудем.
– Где? В поле?
– Именно в поле. В поле, в лесу. Там, где осенью шли бои. Там же должны быть и боеприпасы. Кое-что я успел разузнать у местных. Здесь, недалеко, держал оборону сводный батальон. Он был смят танковой атакой. Вооружение у них, как и у всех сводных, наверняка было не бог весть какое, но винтовки-то, я думаю, имелись в достаточном количестве. Вот их-то мы и постараемся отыскать.
– Я об этом уже думал.
– Судя по всему, фронт задвигался. И дела у немцев неважные. То, что Москва ещё держится, – факт. Если бы они взяли Москву, как о том говорят в своих приказах и прокламациях, то вели бы себя иначе. И по деревням не мародёрствовали. Не пустили их в Первопрестольную. Могу ручаться, не пустили! И мёрзнут они сейчас в окопах где-нибудь в районе Подольска. Вот и собирают тёплое барахло, чтобы не замёрзнуть насмерть.
– Я тоже, товарищ подполковник, не верю, что Москва пала.
– Не называйте меня подполковником. Я ведь вам признался не для того, чтобы, так сказать, войти в звание. Это пусть будет между нами. Для всех я здесь не более чем рядовой боец. Пусть пока будет так. И я, как и другие, готов выполнять все ваши приказания.
Боится, подумал Воронцов. Но вдруг понял, что и сам он тоже боится. Что и говорить, положение, в которое они попали, хуже некуда. А о том, как их едва не расстреляли, лучше вообще помалкивать. Так что и у него естьчто таить. Не перешли линию фронта, вот и вся история. Никакого капитана не видели, никого в лесу не встречали. Немцы пройти не дали. Вряд ли тот капитан запомнил их. Да и жив ли он после того обстрела и драпа. Попался бы он Воронцову в лесу один…
– Ладно, утро вечера мудренее, – сказал Владимир Максимович. – Завтра решим, где оружие раздобыть и как дальше быть. Как я понимаю, приказ, который был отдан всем подразделениям через листовку, касается и нас.
– Да, Владимир Максимович, и нас тоже. И другого выхода у нас нет, как только приступить к исполнению этого приказа.
– Что ж, вы правы. Будем исполнять. Лично я готов.
Владимир Максимович спрятал ТТ под изголовьем и отвернулся к стене.
Воронцов, прежде чем уснуть, подумал о Пелагее и её детях. Банки из-под тушёнки впредь он приказал ей обжигать в печи, а потом плющить обухом топора на пне и куда-нибудь надёжно прятать. Чтобы никакого следа. Полные она прятала в сене.
Глава четырнадцатая
Утром в Прудки нагрянули два грузовика с десятью жандармами и офицером. За ними скакали четверо всадников. Трое – в казачьих папахах, с короткими немецкими винтовками. Четвёртый – в полицейской форме, в чёрной суконной шинели. Четвёртым был Кузьма Новиков.
Машины остановились возле школы. Жандармы спрыгнули с кузова и начали греться возле работающих моторов. Другие тут же забежали за угол школы и, смеясь и с любопытством оглядывая незнакомую местность, начали мочиться в сугроб.
Офицер что-то коротко сказал полицейским, и те, пришпорив лошадей, мигом поскакали по улице. На ходу разделились. Командовал полицаями бородатый казак в чёрной папахе и в таком же чёрном полушубке.
Кузьме велено было срочно доставить в школу старосту с ключами и провизией для господина офицера.
К обеду немцы и казаки загрузили тёплыми вещами кузов одной из машин. На другую затащили туши двух зарезанных, опаленных и разделанных свиней. От них хорошо, вкусно пахло свежениной. Туда же, на новые холщовые простыни, видать, выхваченные под руку из чьего-то сундука, кинули несколько бараньих туш.
Пётр Фёдорович, осунувшийся, постаревший до крайности, сидел на стуле напротив пожилого офицера и, не пряча своей тоски, посматривал в окно, где хлопотали жандармы и казаки. Много чего повидал на своём веку Пётр Фёдорович. Всякую власть знал. И немецкую тоже. В 1915 году, в феврале месяце, он, солдат 2-го корпуса арьергарда 10-й русской армии, пошёл в свою последнюю атаку, на прорыв. Их, остатки окружённого корпуса, около десяти тысяч штыков, выстроили сомкнутыми колоннами. Патронов и снарядов уже не было. Оглодали. Делать нечего. Офицеры, белая кость, командиры полков и батальонов, впереди. Помолились и пошли. Рядом разорвался тяжёлый снаряд, и очнулся солдат Пётр Бороницын уже в плену на грязной соломе. Почти два года он работал то на маслобойне, то в конюшне, то во фруктовом саду в большом поместье в Восточной Пруссии. Поместьем тем владел генерал, говорили, что тот самый, который и расстрелял из тяжёлых орудий их атаку. Там, работая с немцами, научился понимать их язык. И теперь, угощая пожилого жандарма самогоном и салом, он изредка переговаривался с ним. Офицер спрашивал, а он отвечал. Немец, захмелев, довольный и, казалось, добродушный, внимательно слушал его, усмехаясь, терпеливо поправлял некоторые слова и обороты.
– Герр официр, – говорил Пётр Фёдорович и кивал в окно. – Зи ист нихьт зольдаттен.
Но немец наливал из бутылки рюмку за рюмкой, опрокидывал в рот, кусал мороженое сало, щурился и кивал старосте:
– Гут, гут… Ихь тринке гэрн шамгонн.
Кто ж его не любит, думал Пётр Фёдорович, вспоминая себя то пленным, то солдатом 2-го корпуса, которому снова надо выходить из окружения, то идущим на прорыв с винтовкой в руках. Он покосился на жандарма, когда тот шумно влил в рот очередную рюмку: вот свинья, пьёт-жрёт один, ну ладно со мною, с русским, брезгует выпить, но тогда хотя бы кого-то из своих пригласил, за компанию. Нет, ему и одному хорошо. Вот чем немец от русского отличается, негодовал на жандарма Пётр Фёдорович. Русский, будь он даже горьким пьяницей, самым распоследним, а за стол один не сядет! А зятьков-то, видать, стрелять будут…
Шестерых примаков из окруженцев, которых казаки и жандармы собрали по дворам, выстроили у стены школьной конюшни и выставили возле них часового.
– Не все, – скрипел зубами Кузьма Новиков, но ни старшему полицейскому Матвийчуку, ни немецкому офицеру, который всё это время сидел, запершись в натопленной учительской и о чём-то договаривался со старостой, сказать об этом не решался. Ни сразу, ни потом. Побаивался.
Начнут дознаваться, думал Кузьма, с трудом передвигая мозгами после вчерашней пьянки, и докопаются, что вчера, когда я приезжал к старосте, чтобы организовать сбор тёплых вещей, ляпнул после третьей или седьмой, что одновременно будет произведена облава на зятьков. Эх, непрост ты, Пётр Фёдорович, как кажешься. Вот я тебя и проверил… Но приступать к нему сейчас нельзя, соображал своё Кузьма. Зине можно навредить. Хорошо, что никто, кроме него, не знает, сколько в Прудках до вчерашнего дня было зятьков. Где ж они попрятались? Неужто в лес ушли? В лес – это уже последнее. Это значит, что они, все, прудковские, и зятьки тоже, его, Кузьму, законную власть и силу, в медный грош не ставят. Тут надо меры принимать. Разбираться досконально. Но Матвийчуку говорить об этом не надо. Пойдёт по дворам, нахальничать над молодками начнёт. Тут надо дело тонко обделать. И придавить зятьков разом. И зятьков, и все Прудки. Чтобы впредь издали кланялись. А не по оврагам прятались. Этак подумать, у них, может, и винтовки имеются… В лес-то, может, и не ушли. Тут где-нибудь схоронились. Но если сами схоронились, то и оружие могут прятать. А зачем им хорониться? Значит, есть какой-то свой умысел. От последней мысли Кузьме сразу захотелось пить. Он схватил горсть снега, сунул в рот. Надо с самим Щербаковым переговорить, с командиром казачьей сотни. Но Щербакову, может, знать про всё ненадобно. Оплошал-то, куда ни гни, он сам, Кузьма Новиков, которому поручены Прудки. Щербаков учинит дознание. Выяснит, что он, Кузьма, плохо исполнял порученное, увлёкся девкой. И отстранят его от Прудков. Нет, тут всё продумать надо наперёд. Помельче брода поискать…
– Вси? – спросил Матвийчук, ничего особенно не вкладывая в свой вопрос.
И Кузьма так же спокойно ответил:
– По-моему, все, – и весело, как считают в гурту коров или баранов, пересчитал согнанных к школе бойцов.
– Ну, шо с цим будэм робыты? – спросил Матвийчука другой казак.
– Та жидив постреляемо и – дворушки, – смеясь, ответил Матвийчук.
Казаки были довольны. Одна свиная туша и одна баранья предназначалась для их сотни. Кузьма тоже удовлетворённо заглядывал в кузов. Он знал, что атаман Щербаков за такой подарок выразит ему персональную благодарность перед строем и, может быть, наградит какой-нибудь побрякушкой из своей казны.
– Среди них нет жидов.
Кузьме не хотелось стрельбы. Пусть в Прудках всё будет тихо. Пётр Фёдорович будет сговорчивее, когда узнает, что в соседних деревнях примаков постреляли, а у них никого не тронули. Пусть и Зина знает, и её строптивая сеструха, что Кузьма человек добрый и что в новой власти он не последний человек, раз смог уладить дело без стрельбы. Зятьки-то хоть и недолго тут пожили, но Прудкам, а точнее прудковским бабам, уже не чужие. А некоторым даже роднее родных. Кто-то ж и по ним будет слёзы лить и проклинать виноватых, если дойдёт дело до крайности. Такое надо понимать. И он, Кузьма Семёнович Новиков, это хорошо понимает.
– Господину Штрекенбаху виднее, хто тут жид, а хто ни. По мни – хоть всих пид пулемёт.
Вот это Кузьма за Матвийчуком знал. Именно Матвийчук согласился лечь за пулемёт, когда в Шилове господин Штрекенбах приказал собрать вот так же всех приставших. Собрали около двадцати человек. Выстроили. Штрекенбах через переводчика предложил добровольцам переходить на службу в германскую армию. Казачью сотню тогда только-только начали формировать. Но добровольцев не оказалось. И Штрекенбах приказал командиру сотни поручику Щербакову расстрелять из пулемёта всех. Щербакову надо было искать среди своих добровольца. Или стрелять самому. Кузьма Новиков тогда стоял возле Щербакова. Тот взглянул на него, и Кузьма отвернулся. Стрелять он не хотел. Не хотел стрелять и поручик. Кузьма слышал, как он скрипел зубами и матерился. И тогда вызвался Матвийчук: