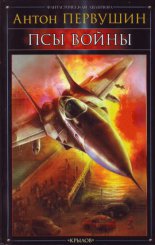Архив Ломов Виорель

– Как же, как же… Я ведь ваш наследник. Клади ровно, кати быстро. Не узнали? – он смотрел на старика ясным ликующим взором. – Тележку у вас принимал.
– Вот вы кто! – догадался старик. – Все так быстро произошло, я и не запомнил, извините, бога ради. – И старик был рад встрече. – Присаживайтесь, прошу.
– Присяду, куда денусь, – Хомяков расположился и придвинул тарелку, – Смотрю, вроде знакомое лицо. Из одного профсоюза.
– Я, кажется, уже не член профсоюза, – улыбнулся Петр Петрович. – Лет двадцать не платил взносов. Ну их, решил, и так зарплата невеликая.
– А как же бюллетень? – всерьез поинтересовался Хомяков.
– Не болел я. Ни одного дня за десятки лет, верите? В архиве люди долго живут, я подметил. Охают, кряхтят, а держатся. То ли микроклимат особый, то ли низкий холестерин при таком окладе, то ли интересная работа, некогда хворать. Вот и я так… Сразу – раз и сдал. Хорошо еще не помер, объегорил бога, а то… – Петр Петрович резко умолк, поднес ко рту ложку.
Хомяков последовал его примеру.
Некоторое время они стучали ложками по тарелкам, чмокали, сипели, шамкали, клацали зубами и облизывали губы, словно принимали участие в общей азартной игре. Прежде чем приступить ко второму, коротко обсудили ситуацию в столовой. Отметили, что это одна из немногих в городе, где еще можно поесть, не боясь отравиться. При этом Петр Петрович вспомнил повара, который поднял престиж столовой, хороший был человек, былой закалки, фронтовик, недавно умер, попал в автомобильную катастрофу…
– Враки, – авторитетно прервал Хомяков. – Сердце прихватило, точно знаю. До архива я работал… – он запнулся, не хотелось уточнять, какое он имел отношение к медицине, еще испугается дед, не так поймет. Людей настораживают представители подобной профессии. Да и сам Хомяков, честно говоря, не думал, что прозекторское дело станет его судьбой на долгие годы. Все произошло неожиданно. Муж двоюродной сестры косогубый Матвей давно занимался этой почтенной профессией и весьма дорожил местом. Неожиданно у него обнаружили какую-то зловредную хворь, предстояла операция. Вот он и разыскал Хомякова, уговорил вступить в дело, место сохранить. «Что ты приобрел в своей дурацкой школе? Латаные носки? – говорил он. – Враньем голову ребятишкам забиваешь, учитель. А тут дело чистое, тихое… Знаешь, сколько я отвалил за место? Шесть тысяч! Тогда деньги еще ценили, не то что сейчас. Тебя же приглашаю бесплатно. Натаскаю, привыкнешь. Лучшего клиента, чем наш, мир не создавал. И не создаст. Это предел. Понял?!» После операции Матвей вернулся в должность. Так они и работали вдвоем, пока Хомяков не опростоволосился: поссорился с ребятами из ОБХСС. К тому времени у него и с Матвеем испортились отношения. Не родственные связи, запродал бы его Матвей с потрохами, а так помог, вывел на Варгасова. Сразу двух зайцев убил: оказался на высоте среди родственников, да и от опостылевшего свояка избавился, хитрец… Только испортили уже Хомякова шальные деньги, шутка ли, в иной день до двух сотенных зашибал, а тут вновь на мели. А все, что скопил, ушло на улаживание конфликта. Ребята из ОБХСС не мелочились, знали, что можно вытрясти, и трясли.
– Хомяков, говорите? – произнес Петр Петрович, тщательно вытирая вилку салфеткой. – Не родственник вы Хомяковых, что основали в нашем городе кожевенное производство?
Хомяков приподнял плечи – все может быть, но не думаю.
– Славное было семейство. Богатели и людей не забывали. В строительство городского театра деньги вложили немалые. Еще что-то… Господи, так ведь мост через реку построили. Так и назывался «Хомяков мост». Каменные львы от него остались. Благородные были люди.
– Что-то не слышал, – с тайной гордостью за фамилию ответил Хомяков. – Адмирал в роду у нас был. Со стороны матери. А так – не помню.
– Поинтересуйтесь. В архиве работаете, займитесь на досуге, девочек попросите… Назовите им теток своих или бабушек.
Хомяков развалил вилкой картофельный холмик. Есть уже не хотелось. Он с интересом вникал в слова Петра Петровича. Честно говоря, он только и помнил своего отца, часовых дел мастера. Отец был человек замкнутый, друзей не имел, с родичами не общался, собирал оперные пластинки и вечерами прослушивал их, строго сидя на табурете. Родственников отца Хомяков не знал, мимо как-то прошли, не то что со стороны матери. Там их была тьма-тьмущая, включая свояка Матвея, прохиндея, которому пробы негде ставить.
– У вас семья, дети? – любопытствовал Петр Петрович.
– Один я… Есть, правда, дочь, но давно не виделись, – вдруг раскрылся Хомяков, удивляясь себе. Последние несколько лет он и не вспоминал о дочери, которая, кажется, училась в Мелитополе, в каком-то училище.
Старик вытащил платок, громко, простуженно высморкался, деликатно отвернув лицо в сторону, утерся. При этом кончик его пупырчатого носа, точно резиновый, вильнул под пальцами в одну и другую сторону.
– Извините за любопытство, – он упрятал платок в карман. – Вы крепкий, молодой мужчина, а у нас платят не очень щедро… в архиве.
– Понимаю, – кивнул Хомяков и манерно пояснил: – Премного интересуюсь историей отечества…
– Вот и я! – радостно поддался Петр Петрович. – В войну меня отрядили сопровождать архив, в эвакуацию. Да так и застрял. А что я умел? Ничего. В порту работал разнорабочим, хоть и закончил десять классов. Как в архиве стал за тележку, так, считай, без малого сорок лет простоял. И ни разу, веришь, ни разу не пожалел. И жену проводил на тот свет, и неудобства всякие имел. Чего только не случалось в жизни, а сяду в свой закуток, полистаю дела. Ей-богу, чувствую, как уплываю, уплываю. Не поверите – в вечерний институт поступил, правда, не вытянул, сдался. Но два курса одолел. И вас архив засосет, помяните мое слово. Если сюда пришли, как говорится, по зову сердца, затянет. Сколько таких судеб на моей памяти! Десятки!
Разволновался старик. Крошки еды падали на грудь, на живот. Он стряхивал их, размазывал ладонью.
Хомяков взглянул на часы. До восьми оставалось около часа, а ходьбы к дому Варгасова отсюда не более десяти минут.
– Ну? И что вас так увлекало в архивных делах? – Хомяков отхлебнул компот.
– Что?! – казалось, Петр Петрович только и ждал этого вопроса. – Хорошо жили на Руси, я вам доложу. Азартно. С интересом. Какие страсти бурлили. И в экономике, и в делах семейных.
– Ну, в делах семейных страсти, пожалуй, не стихли, – вставил Хомяков.
– Не те. Письма в архиве хранятся, фотографии… Были на Руси мужчины, были женщины. Благородство, красота, рыцарство. Детей растили, давали образование, воспитывали любовь. Да, да. Именно воспитывали любовь. Воспитывали честь, милосердие. Теперь-то и слова такие забыли… А экономика? Диву даешься… Механизмы в морских портах устанавливали только на экспорт пшеницы или еще там чего… В десятки стран отправляла Русь товары. А каких только не было обществ! И по горному делу, и по лесному, и в сельском хозяйстве. Полистаешь иные отчеты, чего только не выпускали, чего не возделывали. И всюду считались с матушкой Россией, уважали. Особенно коснись сельского хозяйства. Или товары какие. А звучало-то как! К примеру, Товарищество мануфактур «Викула Морозов с сыновьями»! А? Викула Морозов с сыновьями! Музыка! А сейчас? Разор да стыдоба! Золото на хлеб заморский меняем который год, конца не видно… А что касается собственной продукции – берешь в рот с опаской. Того и гляди – отравят тебя дрянью какой.
– Народу много развелось, Петр Петрович. Во всех странах травят друг друга, если честно. – Хомякову стало скучно со стариком. Ну его, в самом деле. Лучше пройти через парк, воздухом подышать, чем сидеть в прогорклой столовке.
Старик поднес к губам стакан с чаем, сделал глоток, поморщился:
– Пакость. Сегодня что-то особенное… На чем настаивают, интересно?
– На репейнике, уважаемый, – в тон проговорил Хомяков и засмеялся. – Этот чай надо пить раскаленным, тогда сойдет. Воруют ведь, черти. И чай воруют.
– Поди же ты, – покачал головой Петр Петрович и засмеялся. – И раньше баловались на Руси. А чай был как чай, извините.
– Не так воровали, – с удовольствием произнес Хомяков. – Сейчас тянут… индустриально. Масштабно, всенародно, на всех уровнях.
– Из-ви-ни-те, – протянул старик. – Я не крал, хоть, признаюсь, в архиве соблазнов много.
Хомяков отстранил тарелку и, прихватив с пола затянутую наглухо сумку, поднялся.
– Счастливо оставаться, Петр Петрович. Надеюсь, еще увидимся.
– Увидимся, – кивнул старик. – Куда мне из архива? Обещали взять в лабораторию, к фотографам, на вахте сидеть…
Он еще что-то произнес, но Хомяков не расслышал, направляясь к выходу из столовой.
Желто-красный аварийный фургон божьей коровкой уткнулся в заросли кустарника, что буйно рос на внутреннем дворе многоэтажного дома по Второй Пролетарской улице. И все обитатели – от дворника и до жильцов последнего этажа – доподлинно знали, что сосед из двадцать шестой квартиры этот вечер и ночь проведет дома. Сам по себе подобный факт мало кого мог насторожить, если бы не одна деталь: этот вечер и эту ночь сосед по фамилии Варгасов должен провести в тюрьме, согласно приговору суда от 8 октября 1981 года. И дома у себя он будет ночевать не скоро, однако факт неоспорим – аварийный фургон, что, согласно наблюдению дворника, привозил Варгасова домой с ночевкой, дремал в своем излюбленном тихом месте, у кустарника. Соседи, после первых бурных обсуждений этого происшествия, смирились и даже где-то гордились тем, что рядом живет такой удивительный человек, который, числясь в тюрьме, нередко возвращается домой, словно после обыкновенного трудового дня…
Будимир Леонидович Варгасов перешагнул порог тюрьмы из кабинета начальника управления отделочных работ при Дачном тресте облисполкома. Осужден он был за происшествие чрезвычайное. Четыре девчонки-отделочницы во время рабочего дня пригласили четверых студентов стройотряда отметить день рождения. Перепились, сожгли объект и сами угорели. Все бы для Варгасова обошлось, не будь среди студентов сына министра союзного значения. Министр добился пересмотра дела Верховным судом, и Варгасову впаяли срок. С учетом всех смягчающих обстоятельств ему предстояло отсидеть два года. И к тому времени, как Хомяков волок на пятый этаж сумку, Будимир Леонидович уже отмотал половину срока. По поводу чего намечался небольшой банкетишко, человек на тридцать. Раньше, до отсидки, Варгасову ничего не стоило снять большой зал ресторана «Интурист». Он и сейчас мог себе позволить такой пустячок. И все это знали. Только ни к чему… Поначалу Варгасов даже хотел отметить памятный день скромно, в колонии, в своем бараке. Пригласить гостей с воли, благо условия позволяли. Но начальник тюрьмы, его давний клиент, посоветовал отказаться от этой милой затеи -всех не вместить, даже если прием пройдет стоя, а-ля фуршет. И потом, гостей обстановка будет несколько сковывать. Кое-кто расценит приглашение как уловку, глядишь, и дверь захлопнут. А главное – вряд ли «щекастый» согласится подогнать к воротам тюрьмы известный всему городу, похожий на катафалк, лакированный черный «ЗИЛ-114», без переднего номерного знака. «Куда ему торопиться? – шутил приятель, начальник тюрьмы. – Впрочем, если в порядке рекогносцировки территории на будущее?!»
Так что славную дату решили отметить на дому. И визит Ефима Степановича Хомякова был весьма некстати, он ни по каким статьям не относился к числу приглашенных.
Хомяков не ведал о предстоящем торжестве. Памятуя, что в то воскресенье визит Варгасова домой сорвался, Хомяков справедливо решил – дважды он срываться не должен – и, увидев во дворе желто-красный фургон, искренне обрадовался. Ему нравился Варгасов, хотя и встречались они единожды до суда и раза два после. Удивительно, как Варгасов помнил, что Хомяков учился на истфаке пединститута? А чем еще ему занимать себя в тюрьме, как не воспоминаниями. И все-таки. Кто есть Хомяков? Божий пасынок без законченного высшего образования, промышляющий обряжанием покойников в морге Второй Градской больницы…
Широкая лестничная площадка пятого этажа была изрядно заставлена пустыми коробками из-под импортного пива. Коробки льнули к дверям квартиры двадцать шесть, в сравнении с которой другие двери выглядели как-то одиноко… У Хомякова мелькнула мысль, что он сейчас не ко двору, но отступать поздно, уже нажата кнопка звонка…
Дверь распахнулась, и в проеме Хомяков увидел незнакомую старушку в халате, поверх которого был крестом повязан платок.
– Я вот… к Будимиру Леонидовичу, – Хомяков выставил сумку.
– Больно ты рано заявился. Ну, заходи, – старушка перепустила Хомякова. – Гостинцев принес, что ль?
Хомяков замялся. Из боковой двери выглянула жена Варгасова, Хомяков ее знал, она звонила ему, приглашала, да и потом принимала, когда свела его с Анатолием Брусницыным, только как ее зовут Хомяков запамятовал.
При виде гостя лицо жены Варгасова обрело какое-то плаксивое выражение.
– Это я, Ефим Степанович, – смущенно улыбался Хомяков. – Здравствуйте.
– Вижу, – сухо ответила Варгасова. – Будимир Леонидович отдыхает. Если что передать, оставьте, я передам.
Хомяков пожал плечами. Ему нужен был сам Варгасов, дело касалось только их двоих, при чем тут жена. И отказать неловко…
– Ольга! – послышался знакомый низкий голос Варгасова. – Кого принесло так рано? – в его уверенном тоне слышались нотки панибратства к еще неопознанному гостю и вместе с тем какое-то заведомое превосходство и покровительство.
– Это Ефим Степанович, – и, упреждая обидное для Хомякова недоумение мужа, торопливо пояснила: – Ну тот, что родственник Матвея, из больницы… – но так и не договорила – в дверях появился сам Вар-гасов.
Среднего роста, крепко сколоченный, лобастый. Широкие брови, черные, сросшиеся на переносице, нависали над голубыми печальными глазами, придавая облику грубоватую привлекательность. Впечатление несколько портили губы – верхняя, казалось, придавливает своей тяжестью узкую нижнюю губу, но стоило Варгасову заговорить, как вновь лицо обретало обаяние и располагало к себе…
– Так это Ефим Степанович! – разогнал неловкость встречи Варгасов. – Как же, как же… Проходите, любезный, – он отвел руку в сторону. Халат на груди распался, обнажая крепкую грудь, густое курчавое руно которой скрывало наколку замысловатого узора.
Хомяков с глупой улыбкой на плоском лице последовал в небольшую комнатенку, волоча за собой сумку.
– Сейчас нас угостят пивком. И еще чем-нибудь вкусненьким, – неожиданно для Хомякова рокотал за спиной Варгасов. – Любите пиво, Ефим Степанович?
– Не откажусь, – приятно удивился Хомяков.
– Вот. Любит пиво Ефим Степанович. И рыбку, наверняка, – подмигнул Варгасов и добавил: – Сегодня у нас Дарья Никитична гостит, тетка моя двоюродная по отцовской линии. Она постарается. Что-нибудь к рыбке приложит, удивит.
Комната глухая, без окон, видимо сквозная, из нее вела еще одна дверь. Шесть стульев окружали овальный полированный стол. На стенах висело несколько картин в витых темных рамах, видно, старые и дорогие. Хомяков отметил про себя, что в прошлый визит он эту комнату не видел, или растерялся – народу тогда собралось многовато.
– Садитесь, любезный. Где понравится, – все улыбался Варгасов и выставил для себя стул. Хомяков сел напротив.
– Вы как-то переменились с тех пор как ушли от своих мертвяков, – Варгасов шутливо вгляделся в гостя. – Правильно. И так можно прокормиться. Я вот, знаете, сижу за решеткой в темнице сырой. Ем чем угостят. И думаю: господи, много ли человеку надо? Покой, тишина… А я все шустрю, дела обделываю…
«Заливает, заливает, – усмехнулся про себя Хомяков. – Ест чем угостят? Сколько гастрономов пыхтят на тебя, а жена носит. Небось всё тюремное начальство округлилось за год. Вот насчет покоя не спорю» – и произнес раздумчиво:
– В тюрьму, что ли, податься, здоровье поправить?
– А что? Давайте. Всем места хватит в нашей ладье, – Варгасов потянулся и похлопал Хомякова по плечу.
Хомяков чувствовал скованность, даже дышать было тяжко. Это навалилось сразу, как только он увидел Варгасова. И тогда, в первый раз, когда он пришел сюда со свояком Матвеем. Объяснить было можно – он пришел просителем, ему грозил суд. Пустяковое дело – злоупотребление служебным положением, иначе вымогательство. Даже смешно – кто из санитаров не берет за свою тихую работу? Попробуйте, поворочайте покойников за сто десять рублей в месяц. Да еще формалин прикупи у леваков…
Варгасов дело прикрыл. И что примечательно – без всякой корысти для себя. Он так и сказал: «Невелика услуга, Ефим Степанович. Кто знает, может, настанет ваш черед оказать мне услугу!…» Какую услугу Хомяков может оказать начальнику отделочного управления Дачного треста при исполкоме?! Только что самую последнюю, по первому разряду, с бальзамированием и бритьем.
Но Хомяков ошибся. После нервотрепки с прокуратурой он несколько месяцев слонялся без работы. Правда, свояк подбрасывал халтурку, знал, что Хомяков хоть и жал с клиента, но дело свое делал добросовестно… И вдруг однажды звонок… и приглашение приехать на Вторую Пролетарскую улицу. Тогда впервые он приметил в зарослях кустарника аварийный красно-желтый фургон. С тех пор много чего произошло, а самое главное – он был принят на работу в архив…
– Ну, как дела? – спросил Варгасов тем же дружеским тоном.
Хомяков кивнул, сейчас все расскажет, соберется с мыслями, – но не успел. В комнате появилась жена Варгасова. Она привела себя в порядок и уже не казалась растрепой. В руках у нее был поднос, на котором стояли две бутылки пива, тарелка с красной чавычой и мелкими сухариками. В проеме двери Хомяков успел увидеть стол, заваленный всякой едой, бутылками и цветами. Он перевел взгляд на поднос, слабо вздохнул…
– Слушаю вас, – проговорил Варгасов.
Хомяков настроился было попробовать пивка, но тон хозяина его вспугнул. Он нагнулся к сумке и вспорол змейку.
Варгасов заглянул в сумку. Хомяков с напускным спокойствием принялся извлекать из сумки добро.
– Посмотрим, посмотрим, – приговаривал Варгасов, следя за его движениями. – Ну? Все? – он с любопытством смотрел на высокую стопку разрозненных листов, придвинул к себе поближе.
– Вот и все, – Хомяков достал пакет. – А здесь марки.
– Марки?
– Ага. Царские, – он приподнял хрустящую шторку.
Цветные марки с изображением дамы в короне аккуратными стежками полосовали плюшевую вишневую драпировку.
– Цены им нет, – произнес Хомяков.
– Посмотрим, посмотрим, – приговаривал Варгасов, легонько касаясь марки. – Посоветуемся со знающим человеком.
В комнату вошла жена Варгасова. Положила в кресло серый костюм, сорочку, галстук. Поставила на пол черные туфли и пробормотала о том, что пришел Юрий Сергеевич, из прокуратуры.
– Поставь этому болвану кассету, с девчонками из варьете. И не мешай, освобожусь – выйду. – Варгасов махнул рукой, уходи, мол. – Да, включи, пожалуйста, полный свет.
Люстра плеснула дополнительными лампами, стало ядовито-светло. Хомяков зашел за спину Варгасова.
– А это брачное свидетельство князя Голицына, – пояснил Хомяков.
– Ты смотри, – покачал головой Варгасов. – Наверняка у светлейшего есть родственники в каких-нибудь франциях… Хорошо. А это?
– Черт его знает. Вырезал, а не разобрался. Герб понравился.
– Кстати, работайте аккуратно. Что за варварство, – Варгасов провел пальцем по краю обреза.
– Поначалу боялся. Больше на дверь смотрел, – стыдливо признался Хомяков. – Думаете, так просто?
– Я, любезный, простых деляне затеваю… Кстати, как вам удалось? Там что, не проверяют?
Хомяков вздохнул, но промолчал. Рассказывать Варгасову о том, как присматривался к работе девчонок из отдела хранения, как они ведут учет возвращенных из читального зала документов, как заполняют «лист заверки»?… Но была одна особенность – документы, которые возвращались не в тележке, а порознь, лежали довольно долго необработанными. И нередко возвращались в хранилище без постраничного просмотра. А если они попадали не на контрольный стол, а на какой-нибудь подоконник или случайную полку, то их попросту забывали. Этим и пользовался Хомяков. Придержанные документы он, после «обработки», заносил в отдел хранения и оставлял в первом попавшемся углу.
– Ладно. Погляжу внимательно на досуге, – Варгасов подумал, что в подобной коммерции без консультанта не обойтись. Покупатель может крепко облапошить. Но если широко поставить дело, то накладные расходы на экспертов будут не так уж и велики. Кстати, эксперты могут стать посредниками при продаже…
Идея наладить архивный «бизнес» принадлежала не Варгасову.
Одно время в дом зачастил врач-психоневролог Вениамин Кузин. Этот Веня наблюдал жену Варгасова. Иметь своего врача-психоневролога стало особо модным шиком. Кроме прочего, Веня Кузин оказался неплохим знатоком картин. По его совету Варгасов приобрел несколько полотен, классику и современность. Оказался в выигрыше. Цены на картины вдруг подскочили… Как-то Веня Кузин поведал любознательному Варгасову и о некоторых тайнах коллекционеров, которых в городе, оказывается, великое множество. О бесценных документах, которые хранятся в архивах, нередко без особого досмотра, документов, за которые у нас и за рубежом отваливают огромные деньги.
Обо всем этом Варгасов вспомнил в тюрьме, на отсидке, благо достаточно времени для воспоминаний. И как нарочно, в одно из свиданий жена поведала, что отец ее ученицы работает в архиве.
– А что собой представляет этот Брусницын? – Варгасов через плечо посмотрел на Хомякова.
– Черт его знает, не пойму, – ответил тот. – Встретил как-то в коридоре, напомнил о себе, дескать, познакомились у Варгасовых… Он чего-то испугался… Во всяком случае, не был любезным.
– Испугался? – озадаченно перебил Варгасов.
– Или мне показалось, – пожал плечами Хомяков. – Мы и не общаемся. Я катаю тележку из хранилища в читалку, он в каталоге сидит, рядом со спецхраном. Разные дороги.
– Спецхран? – оживился Варгасов. – Интересно, интересно.
– Замок на дверях с детскую голову. И решетка.
– Интересно, интересно, – повторил Варгасов.
Давно возникший шум за стеной все более густел, видно, гостей поприбавилось. Варгасов зевнул, распрямил спину, искоса взглянул на оставленный женой костюм.
Хомяков не скрывал досады по поводу сдержанной оценки своего небезопасного труда. Он сводил на переносице реденькие рыжеватые брови и угрюмо молчал. «Похабная конура, сука хозяин, курва хозяйка, – думал он с обидой. – Хрен я вам наработаю, раз так. Интересно, как он будет расплачиваться? Или все перенесет на мой неоплатный долг?»
– Ладно, не кукситесь. Вы – молодец… Для начала неплохо, я и не ожидал. Жаль только…
– А Голицыны? – догадливо перебил Хомяков. – Ну только что, – согласился Варгасов и поднялся.
– Так вы ж не до конца просмотрели.
Варгасов кивнул в сторону соседней комнаты и вздохнул:
– Сам пригласил, понимаете. Разгоню всех часа через два, спокойно просмотрю.
– Нет, нет, – вскричал Хомяков. – Вот, пожалуйста. Обеденное меню самого царя. Вы ведь не досмотрели.
Варгасов вернулся к столу. Он особенно наставлял Хомякова обратить внимание на все, что касалось царствующего дома. Веня Кузин утверждал, что такие документы пользуются особым спросом.
– Гляди-ка, – проговорил Варгасов. – И верно. Художник Виктор Васнецов, – прочел он четкую подпись. – Знаменитость?
– Тот, тот, – горделиво поддакнул Хомяков.
Он забыл обиду. Стоял довольный, словно сам рисовал ангельские виньетки.
– Скромно питался царь-батюшка, – заметил Варгасов. – У меня едят погуще. Да и пьют послаще… Пунш с мадерой. Невидаль.
– Ну дак, куда там царю до вас, – съязвил Хомяков.
– И верно, – усмехнулся Варгасов. – Кстати, вы что же, пивка так и не попробовали? С собой возьмите, – он все рассматривал царское меню.
Хомяков с любопытством ждал, когда Варгасов разглядит в витиеватом рисунке вездесущую звезду Давида, что замкнула своими шестью щупальцами золотую царскую корону. И наконец, не выдержав, ткнул пальцем в левый нижний угол листа.
– Ну?! А это как вам нравится? – воскликнул он торжественно. – Любой коллекционер за подобную вставочку такие деньги отвалит…
Варгасов взглянул без всякого воодушевления.
– Не знаю, как за вставочку, – проворчал он. – А вот надпись действительно любопытная.
– Надпись? – Хомяков вспомнил, что от надписи его отвлек зловредный котище. – Надпись? Ах, да. Не успел прочесть, кот отвлек. Живет при архиве здоровенный кот…
Но Варгасов не слушал. С трудом разбирая почерк, он прочел: «Сим пером уверяю в преданном служении Отечеству Российскому Почтеннейшего промышленника Федора Лапшина, сына Аркадия. Премного благодарю. Александр», – закончил Варгасов и, довольный, добавил: – Вот это хорошо… А вы все со «вставочкой». Ну и хрен с ней… Кстати, вам, как историку с незаконченным высшим, надо знать, что евреи тут ни при чем. Шестиконечная звезда, если не ошибаюсь, знак мудрости древних индусов. Поясняю вам как человек, закончивший университет, правда, биофак, – засмеялся Варгасов. – Так что не стоит батюшке-царю приписывать сомнительные связи с мировым сионизмом, ему хватало и без того забот.
Варгасов подхватил с кресла костюм и рубашку, отошел в дальний угол переодеться.
Хомяков набычившись собирал сумку. Сунул туда обе бутылки пива, подумал и, свернув кулек из газеты, сыпанул в него красную рыбку-чавычу вместе с сухарями. Не пропадать же добру. «Черт его знает, – подумал Хомяков. – Черные волосы, голубые глаза, черт его знает. Может, и обиделся, они всегда на это почему-то обижаются…» Как-то в морг привезли клиента, пожилого мужчину. У покойников с виду разве поймешь? Перед богом все стирается. Да и фамилия – то ли Вознесенский, то ли Рождественский, не подкопаешься, все чисто. Приехал родственник, договорились о цене. Тоже с виду человек как человек – торговаться не стал, даже лишнее посулил, лишь бы покойник ушел в лучшем виде. Как на грех, в тот день фельетон в газету тиснули. Как один из «этих» заведовал складом и что-то там наворотил, ворюга. Хомяков об этом поведал родственнику, позлословил всласть, душу отвел. А когда стал клиента обмывать, глядит, у того, оказывается, признак, в самой что ни есть красоте, без крайней плоти… Нехорошо получилось. Вообще с ними лучше язык придержать. Может, и Будимир Леонидович Варгасов из того же колена, кто их разберет? Такой проныра…
Выходя из лифта, Хомяков нос к носу столкнулся с высоким и стройным морячком. Серега, племянник Варгасова. Хомяков от неожиданности растерялся и не поздоровался. И морячок никак не отреагировал на внешность Хомякова, забыл, вероятно, как хвастал своими контрабандными подвигами, как магнитофон пытался всучить, пьян был, сукин сын. Ну, да черт с ним… Видно, через этого морячка Варгасов и наладит отправку документов за рубеж. Впрочем, кто знает, он и таможню может купить, если понадобится…
Вечер стоял глухой, свежий и по-осеннему прозрачный. Звезды щедро рассыпались по черному небу, хоть и было не так уж и поздно.
Прикрыв ладонью плешь, Хомяков поднял лицо. Окна пятого этажа полыхали светом. Хомякова вновь кольнула обида – не допустил до большого стола, подлец, постеснялся. Да и кто он Варгасову, слуга. Хорошо хоть денег широко посулил, не пожадничал. И долгом не попрекнул, словно забыл.
Сверху, от лампочки фонаря, падала светлая трапеция, словно выманивая из зарослей кустарника красно-желтый аварийный фургон.
Глава четвертая
1
Прижатый к стеклу кончик носа с вывернутыми ноздрями походил на пятачок поросенка. И еще эти глаза, уменьшенные толщей стекла.
Колесников поднялся с кресла. Брусницын отпрянул от двери.
– Чего рожи строишь? – Колесников высунулся в проем.
– Смотрю, кто там сидит, в предбаннике директора, – засмеялся Брусницын. – Оказывается, ты.
– Пригласили на ковер, – вздохнул Колесников.
– Еще раз?
– Ну… В пятницу меня не приняли. Шел допрос свидетелей. Не успели.
– Каких свидетелей? – не понял Брусницын.
– Вызывали сотрудников отдела, интересовались моей благонадежностью, – усмехнулся Колесников. – Сегодня вызвали меня. А ты не знал.
– Ей-богу, не знал, – искренне ответил Брусницын. – Решили другие отделы не трогать?
– Может быть, – согласился Колесников. – А ты чего?
– Так, проходил, – замялся Брусницын.
После ночного разговора дома у Гальперина Брусницын не находил себе места. Он старался попасть на глаза начальству, полагая тем самым ускорить столь неожиданное и лестное предложение. Но все текло, как и прежде, в обычном деловито-ленивом настроении, так свойственном архиву. За исключением слухов о приезде очередного проверяющего инспектора из управления… Можно себе создать иллюзию движения, поведать всем о предстоящем перемещении, но Гальперин просил воздержаться, не болтать раньше срока. И это было мучительно. Жене своей, Зое, Брусницын, не выдержал, рассказал. Та кинулась к счётам и, быстро перекинув костяшки, уточнила, через какое время они рассчитаются с долгами. Оказалось, год и восемь месяцев. Тяжеловато, но все же перспектива, а не глухой тупик… Потом они поругались. Брусницын объявил, что первый долг вернет Гальперину, неудобно, с лета держит, а брал на месяц. Жена настаивала вначале расквитаться с ее родителями, надоело выслушивать упреки. И вот уже три дня они не разговаривали…
Брусницын тронул ладонью острое прямое плечо Колесникова.
– Ладно. Сиди жди, – кивнул Брусницын и добавил со странной интонацией: – Декабрист!
Колесников удивленно вскинул брови. С кем как не с Брусницыным он обсуждал свое письмо в управление…
– Не понял?! – воскликнул Колесников.
Брусницын пожал плечами. Видит бог, он без какого-либо умысла припомнил полузабытое прозвище своего коллеги, но в следующее мгновение понял, что произнес его хоть и не задумываясь, но уже как сторона, для которой позиция Женьки Колесникова являлась подобием волны, подмывающей дамбу. Метаморфозу эту ум еще не осознал, однако инстинкт уже принял. Как прячется под панцирь черепаха, едва почувствовав чужое прикосновение… Но почему? Ведь письмо Колесникова направлено против компетенции директора архива Мирошука, а вовсе не заместителя по науке, кресло которого замаячило Брусницыну. И верно, что чувство кастового самосохранения не слишком подчиняется логике, возникая вместе с сознанием принадлежности к касте. Ведь директор архива и его заместитель – одного поля ягоды. И покушение на благополучие одного есть сигнал для бдительности другого. А что толкнуло Брусницына принять участие в заботах Колесникова? В основном, любопытство и еще обида. Он, как и Колесников, считал себя незаслуженно обойденным… Но было это тогда, а сейчас ситуация может измениться.
Женоподобное лицо Брусницына тронула шутейная улыбка.
– Ты вот что, Жень… думаю, не стоит говорить, что я помогал тебе составить это письмо в управление, – произнес Брусницын. – Мало ли… Пришьют групповщину, заговор. Сам знаешь, издавна в нашей отчизне опасаются коллективного мнения. Кстати, самого уязвимого и непрочного. Но что поделаешь, традиция, – и вдруг, толчком, Брусницын осознал, что сейчас от этого длинноногого типа в вязаной кофте с латкой на локте может зависеть его судьба, там, в кабинете директора. – Нет, нет… Ты меня понял? – заторопился Брусницын. – Обо мне ни слова! Ясно тебе, ни слова.
– Что с тобой, Анатолий Семенович? – растерялся Колесников. – Я и не думал даже…
– Вот-вот. И не думай, – Брусницын умолк.
Он почувствовал стыд. Краской залило белые, заметно осевшие щеки, часто заморгали короткие ресницы.
– Эй, вы там! Прикройте дверь, дует, – выручила секретарша Тамара.
– Беги, Анатолий Семенович, дует, – сухие губы Колесникова держали презрительную усмешку, и, не дожидаясь, он потянул на себя дверь приемной.
В морозной вязи стекла растворялся контур фигуры Брусницына. Некоторое время в памяти еще стоял его нервный голос, но вскоре иные думы овладели Женей Колесниковым. Предстоящая встреча с директором его не очень беспокоила, потому как он всерьез не принимал факт существования в архиве Захара Савельевича Мирошука. Он и заявление написал не потому, что директорствовал Мирошук, а потому, что никак не хватало ему скудной зарплаты, неизменно иссякающей где-то в середине срока. Как ему удавалось доскрести, он не понимал. То сдаст бутылки, то вечерами прихватит телеграммы на почте, разнесет, то отправится в ночную разгрузку вагонов на товарную станцию. Не эти бы заботы, он и вовсе забыл о существовании директора в архиве…
Сейчас Женю Колесникова беспокоило другое. Это беспокойство связывалось с появлением в архиве русского шведа Янссона. Моменты его биографии, услышанные в читальном зале, встревожили Колесникова. Так все перекликалось с семейными преданиями, о которых рассказывала покойная бабушка Аделаида. Правда, в роду у них вроде и не было Янссонов. Женя и у тетки спрашивал, но и та не помнила… Существовал наиболее простой способ – спросить самого Янссона. Но для Колесникова это был неприемлемый путь, он уже сожалел о намерении, с которым обратился к Нине Чемодановой. Минутами казалось, он бросится к Чемодановой, потребует забыть его просьбу. И едва удерживался…
Колесников опустился в глубокое кожаное кресло, ощущая затылком приятный холодок тугой и высокой спинки. В ушах раздавался стрекот пишущей машинки, точно вблизи пересыпался мелкий береговой галечник. Тамара прочно восседала на винтовом табурете и сосредоточенно печатала. Потертая мутоновая накидка сползла с правого плеча и коснулась пола. Колесников поднялся с кресла, подобрал уголок, накинул на крутое Тамарино плечо. Секретарша благодарно кивнула, не отводя глаз от листа, располосованного четкими пронумерованными строчками.
Колесников вернулся на место, всерьез раздумывая: плюнуть и уйти. Сколько можно ждать? Минут сорок сидит, и никакого движения. Словно за пухлой обивкой двери директорского кабинета всех отравили тихим газом.
– Жди, скоро позовут, – Тамара угадала его помыслы. – Илья Борисович, видно, расходился.
– Там и Гальперин? – вздохнул Колесников. – Что же вы мне сразу не сказали?
– Скажешь тут… К пяти обещали прислать посыльного, а я и половины не отбарабанила. Сами сдают на хранение, а дубликат составляем мы, безобразие, – Тамара продолжала работать. – Конечно, Мирошук тем ребятам перечить не посмеет. Ребята суровые, на казенных харчах.
– Каким ребятам?
– Ну этим, из Управления внутренних дел… Сдают в спецхран дела за давностью. Тож мне, господа! Небось полное машбюро содержат, а тут я одна пикируюсь.
Колесников засмеялся. Он представил, как Тамара, растянув руками меховую накидку, подобно летучей мыши, пикирует с потолка.
– Чего смеешься? – У Тамары овальные черные глаза на скуластом монгольском лице, в прошлом красивая была женщина.
– Представил, как вы пикируете, – охотно ответил Колесников. – Что-то в вас есть хищное.
– Это точно. Хищница, еще какая! Ни одной тигрице не угнаться. С утра до вечера охочусь с пулеметом, – Тамара хлопнула ладонью по машинке. – А они всё в руки смотрят. И откуда у детей такой аппетит, вечно жрать хотят. На глисты сводить, что ли?
Колесников вновь рассмеялся. Тамара поправила накидку и принялась стрекотать, а Колесников повел взглядом по казенной обстановке приемной. Унылый пейзаж из рассохшихся шкафов и полок. Взгляду Колесникова пейзаж был привычен, часами он мотается по хранилищу, окруженный множеством папок и корешков. Но удивительно, там этот пейзаж поглощался сознанием особого смысла существования рода человеческого, незримо вбиравшего в себя и жизнь Колесникова; а здесь – сухие, живущие сами по себе бумаги. Возможно, настанет время и часть из них переместится на полки хранилища и превратится в факт истории. И тогда они предстанут в ином качестве. Ведь многое из того, что волнует нас сегодня, когда-то так же уныло покоилось на полках всевозможных присутствий и канцелярий… Удивительно, насколько человек не осознает историзма своего существования в сиюминутной суете. Даже факт томления Жени Колесникова в приемной Захара Савельевича Мирошука и причина, по которой вышеуказанный Колесников здесь томится, отмеченные журналом посещений, вполне вероятно, для будущих историков явится любопытным штрихом, скажем, по теме роста социального самосознания во второй половине двадцатого века.
Женя Колесников выпрямился, ощутив на своих плечах, костистых от частого недоедания, пудовую тяжесть ответственности. Отвел взор от шкафов, перетащил его через фикус, горшок которого стоял в тарелке с отбитым краем, через синий рукомойник над эмалированным тазиком на ветхом табурете и куском черного хозяйственного мыла в рыжей жестянке из-под зубного порошка; чуть задержался на невесть откуда взявшемся здесь барометре, узорная стрелка которого указывала на «великую сушь», хотя с утра молотил дождь вперемежку со снегом и, наконец набрав высоту, уперся в портрет вождя. Из пластмассовой ширпотребовской рамы вождь смотрел на Колесникова со строгой обидой. Гладкие волосы с утомленной сединой прикрывали невысокий лоб, поддержанный, словно фундаментом, черными широкими бровями. Невольно вспомнилась шутейная характеристика, услышанная Колесниковым в колхозе, куда его гоняли в сентябре: «Бровеносец в потёмках». Очень тогда все смеялись, прячась от дождя в дырявом овине. Может быть, поэтому вождь глядит с обидой на Колесникова, мол, что я вам сделал худого? Вам что, до меня было лучше? Язвить, понимаю, приятно. «В по-тем-ках»! А вы побудьте на моем месте. Не хотите?! И не всякий захочет… Легко таскать на себе этот мундир?! То-то.
Грудь вождя была усыпана орденами, от маршальских погон и вниз, к пупку, – хорошо, этот «орденопад» преграждала плотиной пластмассовая планка, а то значки прорвались бы к брюкам и облепили обе штанины до обшлагов. И слетали бы при каждом шаге, точно блохи…
«Может, сам по себе он дед и неплохой, – размышлял Колесников. – В бане, к примеру, и не отличишь от других… А вот в мундире… Так и хочется сказать: „Ну. дед, ты как маленький, ей-богу"».
Вождь заболевает тогда, когда награждает себя первым орденом, а умирает, когда нацепит его при народе. Самый верный признак. И справедливый. Если ты – вождь, зачем тебе орден, а? Ну зачем?!
Колесников с хитрецой смотрел на вождя, похожего в своем красочном мундире на обиженного клоуна. Словно дотумкал про жизнь вождя такое, чего тот и сам не знал. И даже унылое ожидание встречи в директорском кабинете вдруг представилось Колесникову веселой сценкой, скетчем, пикником на лужайке. Обхохочешься. А что, если зайти сейчас в кабинет и для начала ухватить Мирошука за нос? А тот в ответ пукнет и скажет: «Это не я, это он испортил наш свежий отечественный воздух!» – и поддаст Колесникову коленом под зад. И оба начнут хохотать. Вместе с инспектором управления и заместителем по науке Гальпериным. Цирк, честное слово. И все это перед портретом вождя, который сам, видать, не дурак покувыркаться и пображничать. Не жизнь, а потеха… Колесников развеселился.
Тамара оставила машинку и оглядела себя, с чего это вдруг такой смех?
– Чего опять? – спросила она через плечо.
– Жизнь-то, Тамара, смешная штука.
– Кому как, – ответила Тамара.
– Все зависит от этажа, – продолжал смеяться Колесников. – Если ты живешь на пятом, то тебе гораздо смешней, чем тому, кто на четвертом. Можешь плюнуть на него и наблюдать, как тот трет лысину и обещает пожаловаться. И, в свою очередь, плюнет на того, кто на третьем… А если вдруг пожар, тот, кто на третьем, выскочит из дома раньше и примется хохотать над теми, кто видел его лысину.
– Поняла, поняла, – покачала головой Тамара как над тяжелобольным. – Только что здесь смешного?
– Как бы вам объяснить? – вздохнул Колесников. – Все не вечно… даже он, – Колесников вскинул палец к обиженному портрету вождя, закованного в ордена.
– Да. Болеет, видать. Последний раз по телеку все были, а его нет. Чуть ли не все глаза проглядела, высматривала, не нашла… Вам чего? – вскинула глаза Тамара поверх головы Колесникова.
– Мне к директору, – раздался резкий нервный голос.
Колесников обернулся. На пороге приемной стоял тот самый профессор из Куйбышева, который томился в читальном зале.
– Директор занят, – отрезала Тамара.
– Я подожду.
– Долго придется ждать. У него начальство из Москвы. И вот сотрудник дожидается, – Тамара отвернулась к пишущей машинке. – А в чем дело? – спросила она небрежно.
– В чем, в чем, – нервно подхватил профессор. – Самоуправство у вас тут, в архиве. Я добирался сюда из Куйбышева, двое суток трясся в поезде.
– Ближе к делу, гражданин, – прервала Тамара.
– Я требую один материал, мне предлагают другой. Не по теме.
– А какая у вас тема? – важно спросила Тамара.
– А вы что, специалист? – не отказал себе в ехидстве профессор.
– Я сотрудник архива, – отрезала Тамара.
– Уборщица тоже сотрудник архива, – буркнул профессор. – Какое у вас образование?
– Ну знаете, – взвилась Тамара.
Профессор шагнул в приемную.
– Поначалу предложите мне сесть! – выкрикнул профессор и плюхнулся в кресло рядом с Колесниковым. Принялся шарить по карманам, вытягивая для удобства попеременно то правую, то левую ногу. Наконец достал платок, вытер горящий лоб, обмотал платком палец, полез в ухо и принялся ожесточенно накручивать, словно вворачивал гайку. Колесников видел, как нервным тиком дергается на его глазу веко.
– Порядочки, понимаешь, – бормотал профессор, ни к кому не обращаясь. – Я профессор, доктор наук… приехал из Куйбышева.
– По мне хоть академик, с самой Луны, – вставила Тамара ровным голосом, но с особой гаденькой нотой. И тотчас принялась ожесточенно трещать на машинке.
Профессор боком взглянул на Колесникова. Внешность молодого соседа его не воодушевила – потертый свитерок, клеенчатая заплата на локте, джинсы с белесыми коленками и ветхие кроссовки.