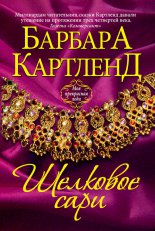Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы Щеглов Юрий

Обратим внимание на сходства в составе и расположении слов в следующих стихах: И для него воскресли вновь [Пушкин] – … и я… воскресну вновь [Батюшков]; Зачем опять воскресло ты? [Жуковский];
VI (3–4). И божество, и вдохновенье, / И жизнь, и слезы, и любовь. – См. комментарии к IV (3–4).
Первая строфа
Обратим внимание, что первая и вторая строфы вместе образуют довольно точный и ясный хиастический параллелизм:
[Строфа I: ] «Главное сообщение = первая полустрофа (два сочиненных предложения: Я помню… Передо мной…) + Обстоятельства = вторая полустрофа (два кумулятивных сравнения с союзом Как… Как… присоединенные ко второму предложению)»;
[Строфа II:] «Обстоятельства = первая полустрофа (две кумулятивные предложных группы с В… В…) + Главное сообщение = вторая полустрофа (два сочиненных предложения: Звучал мне… И снились…)».
I (1 – 2). Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты, – Два некумулятивно сочиненных предложения (второе – своего рода «разъяснительное» к первому). В следовании двух предложений налицо хиазм: «подлежащее (Я) + глагол (помню) + прямой объект» (чудное мгновенье) // «предложный объект (Передо мной) + глагол (явилась) + подлежащее (ты)». Внутренние члены хиазма связаны слабым фонетическим созвучием: мгновенье // передо мной. Соотносятся, будучи оба личными местоимениями, и внешние его члены: «Я // ты» (первое и последнее слова полустрофы). Полустрофа стянута также рядом других малых фонетических созвучий по горизонтали и вертикали66.
Второй стих (Передо мной явилась ты) иллюстрирует нередкий в стихах рисунок, где в рамках законченного отрезка (стиха, двустишия, строфы) выдвигаются на первый план два личных местоимения – герои лирической конфронтации «Я – Ты» (здесь: мной – ты). Противопоставление их может подчеркиваться с помощью различных фигур симметрии, антитезы, тождества и скрепа, напр. Ты свободен, я свободна…; Ты задумчив, а я молчу (А. А. Ахматова), Я кончился, а ты жива (Б. Л. Пастернак), Как часто плачем – вы и я (А. А. Блок), Ты погоня, но я есмь бег (М. И. Цветаева) и др. У Пушкина выделение этих двух центров скромно и достигнуто в основном формальными средствами: их положением как концовок двух полустиший, их односложностью и ударностью, равно как и относительной смысловой редуцированностью остальных слов второго стиха. Оппозиция мной – ты объемлется другим местоименным кольцом, где оба члена стоят в одном падеже: Я… – … ты (первое и последнее слова полустрофы).
Полустишия в стихе I (2) разделены словоразделом, и во втором полустишии созвучны икты обеих стоп ([И… Ы], явилась ты).
I (3–4). Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты. – Два однородных кумулятивных сравнения с Как, с хиазмом в расположении членов: « (Как)+ адъективное определение (мимолетное) + существит. (виденье)» // « (Как) + существит. (гений) + генитивное определение (чистой красоты)». Эта пара пронизана рядом фонетических созвучий:
– 3й стих включает две сходные фонетические цепочки, состоящие из ударной гласной [Е] в сходном окружении [д / т, н / н', й, е]: мимолетное виденье […Етн… йе – …дЕн'йе…; мимолетное читаем без лабиализации, как в «заметное»];
– Созвучны внутренние члены хиазма: …виденье, Как гений […дЕн'йе… – гЕн'ий], благодаря чему эта установка на ударное [Е] распространяется и на 4й стих,
– сменяясь затем созвучием на ударные [И / Ы] с их окружением: чистой красоты, т. е. […Исто… – …сотЫ].
Вторая строфа
Вторая и третья строфы строятся по одинаковой схеме. Каждая из них делится на две полустрофы с кумуляцией членов внутри каждой из полустроф. В первой и второй полустрофах обеих строф идет речь соответственно (а) о внешних par excellence обстоятельствах жизни лирического героя в определенный период прошлого и (б) о душевном состоянии героя в тот же период, его любовном статусе и судьбе некогда запавшего ему в душу женского образа. Подобным же образом, хотя с некоторым сдвигом (о чем см. ниже, раздел о строфе IV), строится и четвертая строфа.
Воспоминание о «чудном мгновенье» постепенно сглаживается. Во второй строфе идет речь о периоде, когда герой, несмотря на обстоятельства, еще находился под впечатлением первой встречи и жил воспоминанием о ней. В третьей строфе действие времени и удары судьбы вытесняют женский образ из сердца героя. В четвертой, все еще в рамках прошлого, говорится о результативном состоянии – о душевном ступоре и апатии, наступивших «в глуши, во мраке заточенья».
Во второй строфе строки почти идеально членятся на три колона, разделяемые двумя словоразделами (обозначаемыми двойной прямой чертой ||). Первый колон в II (3–4) представляет собой глагол-сказуемое с энклитикой (мне) или проклитикой (и), оба раза осмысленно дополняющей глагол до полного колона.
II (1) В томленьях || грусти || безнадежной,
II (2) В тревогах || шумной || суеты
II (3) Звучал мне || долго || голос нежный
II (4) И снились || милые черты
На этой «диаграмме» видно почти полное единообразие делений (слегка отлично лишь деление в последнем стихе).
Первый колон изометричен (занимает одну и ту же долю стиха) и изоритмичен (имеет одинаковый рисунок ударений) во всех четырех стихах.
Второй колон изометричен и изоритмичен в первых трех стихах.
Третий колон изометричен в первых трех стихах (с оговоркой на чередование жен. / муж. окончаний), но изоритмичен только в первых двух (имеет один икт в стихах (1): безнадЕжной, и (2): суетЫ, но два икта в стихе (3): гОлос нЕжный).
Последний (четвертый) стих сочтено удобным разделить только на два колона. Первый из них (И снились) таков же, как в стихах I (1–3) (см. выше о равенстве всех четырех первых колонов). Второй колон (милые черты) изометричен (с оговоркой на чередование муж. / жен. окончаний) сумме второго и ретьего колонов в стихах (1) – (3), и изоритмичен ей же в стихах (1) – (2).
В получающееся таким образом почти идеальное членение строфы вписываются разного рода фонетико-морфологические параллелизмы (см. ниже).
II (1–2). В томленьях грусти безнадежной, / В тревогах шумной суеты – Два кумулятивно сочиненных стиха, они же предложные группы, обрисовывающие обстоятельства жизни героя. Стихи совпадают (а) по синтаксической структуре (как предложные группы с анафорическим В), (б) по делению на колоны (= расположению словоразделов, см. описание выше), (в) по смыслу (как обычно при кумуляции, два оттенка одного и того же смысла, накладывающиеся друг на друга, образуя единое сложное представление).
В первых колонах первых двух стихов (В томленьях… || В тревогах… ||) – близкий параллелизм существительных, включая совпадение начального согласного [т], звонкость трех последующих согласных, одинаковое место ударения и тождество окончания – х (вариация по грамматическому роду вносит разнообразие). Общая картина консонантизма этих двух слов: т [млн.]х – т [рвг]х.
В остальной части двух стихов (от первого словораздела до конца стиха) – хиастический параллелизм субстантивно-адъективных пар («…грусти безнадежной // …шумной суеты»).
Вторые колоны (||грусти||, ||шумной||, ||долго||), различаясь грамматически, совпадают по длине, месту ударения и ударному гласному [У] (в двух первых стихах; в третьем стихе имеем [О], т. е. звук, близкий к [У]).
II (3–4). Звучал мне долго голос нежный / И снились милые черты. – Вторая полустрофа – кумулятивная пара предложений на тему о душевной жизни героя (как это характерно для вторых полустроф – см. выше), с одинаковым, без «большого» хиазма, порядком непосредственно составляющих (т. е. групп сказуемого и подлежащего) двух стихов. Наблюдается лишь «маленький» хиазм – внутри вторых частей, т. е. групп подлежащего («существит. + прилагат. …голос нежный» // «прилагат. + существит. …милые черты»). Стих (4) имеет небольшое отклонение, по сравнению с (1) – (3), от единой картины всех колонов (см. описание выше).
Стихи II (3–4) допускают двоякое членение.
Первое членение (на колоны, по словоразделам ||) показано выше. Отметим фонетическое созвучие по вертикали между первыми колонами полустрофы – согласный [л / л'] в одинаковой позиции (после первого ударного гласного: звучАл мне – и снИлись).
Второе членение (обозначим его одной косой чертой /) делит каждый из стихов II (3–4) по синтаксическому признаку – на группы сказуемого и подлежащего.
II (3) Звучал мне || долго / || голос нежный
II (4) И снились / || милые черты.
Второе членение (косой чертой) служит опорой для яркого горизонтального созвучия, включая в обоих стихах полное совпадение вокализма и частичное – консонантизма между последним словом группы сказуемого и первым словом группы подлежащего (дОлго – гОлос; снИлись – мИлые). Сильное созвучие дОлго – гОлос обрамляется дополнительным слабым на [не]: […мне… / …нЕжн…]
Другие заметные фонетические черты второй полустрофы:
(а) Хиастический рисунок созвучий: (1) между первым словом третьего стиха (звучал) и последним словом четвертого (черты); (2) между концом третьего стиха (… с не…) и началом четвертого (и сни…). Между [ч] и [сн] в обеих строках настойчиво повторяется звук [л]. В целом консонантизм каждого из двух стихов строится по зеркальному принципу: Звучал мне долго голос нежный / И снились милые черты […ч… л… л… л… снЕ… // …снИ… л… л… ч…].
(б) Огласовка на [и / ы] всего четвертого стиха, включающая как ударные [И / Ы], так и их безударные корреляты [и… И… и… И… ы… йе… и… Ы] и оформляющая по горизонтали не только ярко созвучные центральные элементы снились // милые, но и весь остальной стих.
Третья строфа
III (1–2). Шли годы. Бурь порыв мятежный / Рассеял прежниемечты, – Два стиха вмещают два хиастичных («сказуемое + подлежащее» // «подлежащее + сказуемое») предложения с экстенсивной амплификацией: в самом деле, первое предложение минимально, слагаясь из двух кратких слов (глагол-сказуемое + существительное-подлежащее), тогда как второе предложение развернуто, занимая всю остальную полустрофу (трехсловная группа подлежащего + трехсловная же группа сказуемого). Амплификацию эту, вместе с сопровождающими ее фонетическими созвучиями, делает четкой и обозримой размещение членов двух предложений по сегментам полустрофы III (1–2), получаемым в результате членения двух ее строк на колоны. Как и во второй строфе, колоны одинаковым образом (с оговоркой на гиперкаталектичность ямба в нечетной первой строке) делят стихи по вертикали (не на полустишия!):
а. Шли годы. || б. Бурь порыв мятежный
в. Рассеял || г. прежние мечты
Первое предложение целиком уложено в сегмент (а). Второе предложение занимает три сегмента: группа подлежащего ложится на сегмент (б), глагол-сказуемое – на (в), группа прямого объекта – на (г). Последовательность сегментов «б – в – г» симметрична относительно среднего сегмента «в» (РассЕял), по обе стороны от которого располагаются хиастические и изометричные группы: «(б) субстантив Бурь порыв + прилагательное мятежный» // «(г) прилагательное прежние + субстантив мечты». Ударный гласный [Е] посередине трехсложного РассЕял служит центральным пунктом симметрии этой трехчленной фигуры. Четкость ее усилена фонетическим тождеством внутренних членов хиазма: мятежный – прежние [Ежный – Ежнийе], которое, в свою очередь, обнимается созвучием на [Ы]: порЫв – мечтЫ в двух субъектах, противостоящих по действию.
III (3–4). И я забыл твой голос нежный, / Твои небесные черты. – За вводящей фразой И я забыл (сливающейся в единое фонетико-морфологическое слово) следует кумулятивная и амплифицированная пара прямых дополнений с анафорическим началом твой, твои. Амплификация четко выверена: вводящая фраза И я забыл занимает ровно половину стиха (две стопы), а два дополнения (объекты забвения) – другие полстиха и целый стих соответственно. Параллелизм двух объектов забвения сопровождается хиазмом: «(твой) существит. (голос) + прилагат. (нежный)» // «(твои) прилагат. (небесные) + существит. (черты)», внутренние члены которого – два прилагательных – фонетически созвучны (нежный // небесные). Начало и конец полустрофы связаны созвучием на [Ы] (забыл — черты).
Обратим также внимание на вертикально-сходное и, на наш взгляд, ощутимое расположение единственного звонкого взрывного [б] в стихах III (3) и (4). Этот [б] служит началом четвертого слога – первого ударного слога в обоих стихах. Параллелизм двух стихов увеличивается тем, что второй слог обоих начинается на [йот]: И я забЫл – Твои небЕсные.
Четвертая строфа
Тематически строфа играет роль момента наибольшего снижения, резиньяции и увядания чувств, которые грозят стать окончательными и безнадежными. Видимо, ввиду этой особой роли она выделена своей наибольшей во всем стихотворении целостностью, «смиренной» простотой и стройностью. Это единственная из шести строф, состоящая всего из одного простого предложения, в котором пара главных членов занимает ровно одну строку (вторую). Вся остальная строфа состоит из кумулятивных повторений предложных групп. Как и группы главных членов, две кумуляции однородных обстоятельств (В глуши… Без божества…) укладываются без остатка в цельный стих (первый) и пару стихов (третий и четвертый); больше никаких синтаксических составляющих в строфе не имеется. Ср. гораздо более многочисленные и более сложные структуры в остальных пяти строфах – такие как сложносочиненные предложения в I–III и V–VI, два предложения в III, граница между которыми проходит посреди стиха, иерархия союзно-предложных групп в V, предложные и дативные объекты в I, V и VI и др.
Обратим внимание на некоторую разницу в тематическом сечении полустроф по сравнению с предыдущими двумя строфами. Если в II и III строфах обстоятельства внешней жизни героя и его душевное состояние (фаза его отношений с героиней) занимали ровно по 2 стиха, то в IV строфе первый компонент занимает скорее лишь один стих; второй начинается раньше, чем в строфах II и III, занимая остальные три стиха. Критерием такого сечения можно считать место, где впервые в строфе появляются местоимения 1го лица единств. числа: это третий стих в строфах II–III, второй в строфе IV.
IV (1–2). В глуши, во мраке заточенья / Тянулись тихо дни мои – В стихе IV (1) – две кумулятивные обстоятельственные группы (того же рода, что в строфе II) с амплификацией (одно слово – два слова) и анафорой (В / во).
В стихе IV (2), где помещены главные члены тянулись дни с их распространениями, обращает на себя внимание созвучие начальных согласных [т] – [т] – [д] и в особенности богатый сингармонизм на [и]: [и-У-и-И-а-И-а-И; как [и] читается, конечно, и безударное «я» в тянулись]. Пятикратное [и] – закрытое, «щемящее» – ассоциируется с темой «приглушенности, тихости» наступившей жизни, с эмоциональной «гибернацией» лирического героя. Этот длинный горизонтальный ряд узких [и] – что-то вроде метафорического намека на «лежачую позицию» лирического «я», на стесненный, «прижатый к земле» характер его эмоциональных изъявлений. (Одно из этих состояний души прямо названо в стихотворении Туманского, тематически и сюжетно параллельном К***: Ярмом мирских сует стесненнаядуша / Очнулась, ожила, свободою дыша, / И вдохновение в ней гордо пробудилось [«Одесским друзьям»]). Огласовка на передние гласные [е], [и] – во всяком случае, в ударных позициях – вообще характерна для четвертой строфы. См. ударные гласные остальных ее стихов: 1. [И… А… Е], 3. [А… Е], 4. [Е (нелабиализ: слез —, а не слёз) …И… И]. См. далее комментарии к IV (3–4).
IV (2) – один из четырех стихов в стихотворении, имеющих все четыре ударения на сильных местах. Отметим, что в трех из них (Звучал мне долго голос нежный — Шли годы. Бурь порыв мятежный — Тянулись тихо дни мои) затрагивается тема «протяженности, длительного течения времени». О смысловых и выразительных коннотациях полноударности в стихе И вот опять явилась ты см. в комментариях к архитектонике пятой строфы.
IV (3–4). Без божества, без вдохновенья, / Без слез, без жизни, без любви. – Эти два стиха – пять существительных в родительном падеже с пятикратным анафорическим без – могут считаться шедевром пушкинских кумулятивных перечислений. В них (подобно набегающим друг на друга двум волнам) как бы наложены одно на другое два нарастающих движения:
– От одного стиха к другому возрастают число генитивов (в которые мы включаем и проклитики «без») и их частота: в IV (3) два длинных генитива (в четыре и пять слогов), в IV (4) – три более коротких (в два, три и три слога),
– Внутри каждого из двух стихов возрастает длина генитивов (со включением «без»): в IV (3) они имеют длину в четыре и пять слогов, в IV (4) – в два, три и три слога. При этом в генитивах стиха IV (4) акцент движется вправо (в сторону флексии), соответственно падая на второй слог из двух, второй из трех и третий из трех. Иначе говоря, мы имеем в IV (4) последовательно «ямбическое», «амфибрахическое» и «анапестическое» генитивные существительные. Обратим внимание, что финальный, «анапестический» генитив без любви является ключевым с точки зрения темы «Увядание и обновление»; ср. сходное позиционное оттенение тематически важных слов в стихах V (1) и VI (4).
Пять генитивов этого замечательного списка дискретны, не сливаясь в единый эмоциональный поток благодаря проклитике без перед каждым из них (в шестой строфе ее заменит и).
Можно сказать, что на границе двух стихов имеет место как бы остановка, перебой голоса и новое, убыстренное перечисление лишений героя в стихе IV (4) после более широкого дыхания в стихе IV (3). Результативное впечатление – пронзительно-печальный, «взволнованный» настрой строфы.
На грамматическом уровне косвенный (родительный), притом идущий под знаком отрицания падеж всех пяти имен, выражающих жизненность, может восприниматься как знак «супинного или лежачего положения, сна, гибернации» души – контраст к ее предстоящему «восстанию от сна, воскресению» в шестой строфе.
Пятая строфа
Две последние строфы знаменуют возвращение начального события. В пятой строфе эта идея новой встречи выражена репризой первой строфы с усилением энергии и триумфальной интонации в первой полустрофе по сравнению с I (1–2). Этот настрой неизбежно передается и второй полустрофе, дословно повторяющей I (3–4).
Предыдущие строфы I–IV характеризовались замедленным эмоциональным нисхождением и успокоением чувств, вплоть до полного их затишья (В глуши, во мраке заточенья и т. д.). Новый подъем чувств в V–VI, напротив, легок и стремителен (всего две строфы).
V (1–2).Душе настало пробужденье, / И вот опять явилась ты. – От стиха V (1) к V (2) – нарастание по числу слов и иктов в стихе-предложении (три слова / икта в первом стихе, четыре во втором).
Внутри стиха V (1) – увеличение длины слова (два, три и четыре слога) с движением словесного ударения вправо (акцент на втором, еще раз втором и третьем слоге – опять получаются как бы «ямбическое», «амфибрахическое» и «анапестическое» слова, с гиперкаталектическим слогом в конце последнего из них). Существенно при этом нарастание смыслового веса: «анапестическое» конечное слово не только самое длинное в стихе, но и ключевое с точки зрения сюжета «Увядание и обновление». Ср. сходный «эффект» в IV (4), а также в последних строке и слове стихотворения.
Отметим созвучие ударных гласных, а также шипящих [шЕ] – [ждЕ]), в существительных первого стиха, симметрично расположенных вокруг глагола-сказуемого настало.
В V (2) И вот опять явилась ты констатируем важное отличие от соответствующего ему стиха I (2) Передо мной явилась ты. В V (2) ударение падает на все четыре сильных слога, и на месте безударной проклитики Передо… вводятся сильноударные вот, опять67, как бы возгласы удивления и торжества. Ударенность всех четырех сильных мест в V (2) – единственное различие в рисунке ударений между строфой I и ее репризой V. Этим стих V (2) особенно выделяется на фоне пиррихиев в остальных трех стихах своей строфы (и на фоне пиррихиев во всех четырех стихах строфы I). Эта одинокая полноударность стиха V (2) придает репризе существенно иную интонацию по сравнению с первой строфой. Если задержка ударения пиррихием и пеоном в I (2) сообщала первой встрече героев оттенок как бы «романтической взволнованности» и «предчувствий», то полноударность – и в особенности, акцентное отбивание наречий вот, опять – придает стиху V (2) интонацию приподнятости, триумфальности в связи с невероятным фактом вторичной встречи. Этот ликующий настрой V (2) в какой-то мере подготовлен амплификацией длины слова внутри V (1) Душе настало пробужденье.
V (3–4). Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты. – Точное повторение стихов I (3–4) после описанного ряда отступлений и вариаций делает репризу, с ее вторым появлением «гения чистой красоты», более сильной и выразительной: стихам V (3–4) передается ликующий тон V (I – 2), заменяющий собою, при полной тождественности текста, мечтательные настроения начала романа. (Правда, выражение мимолетное виденье, вполне уместное в начальной фазе, не вполне гармонирует с этим мотивом вновь обретенной и как будто имеющей будуще жизни; но для сегодняшнего читателя это противоречие, разумеется, остается незаметным.)
Шестая строфа
В тематическом плане, после продленного успокоения и угасания чувств (II–IV) происходит быстрое возвращение к жизни (строфы V–VI). Затишье четвертой строфы, подчеркнутое единой звуковой окраской на [и] (не [е]) (Тянулись тихо дни мои…), сменяется пробуждением и взлетом, со значительной ролью новой огласовки на [О]. Эта рифменная неожиданность, а также повтор, с другим предлогом, перечисления Без божества, без вдохновенья… придает двум финальным стихам характер «контраста с тождеством» по сравнению с зоной наибольшего упадка и апатии в IV (3) – (4).
Шестая строфа имеет триумфальную интонацию. Вопервых, она представляет собой амплифицированную «двухэтажную» кумуляцию двух сочиненных предложений. Первое предложение (И сердце бьется в упоенье) занимает только первый стих, а второе (И для него воскресли вновь… и т. д.) – остальные три. Между двумя весьма неравными по длине предложениями – хиазм: «одночленное подлежащее (И сердце) + сказуемое (бьется) + обстоят. (в упоенье)» // «обстоят. – дополнение (И для него) + сказуемое (воскресли вновь) + пятичленное подлежащее (И божество…»).
Далее, мы наблюдаем в шестой строфе мощную, в глубь идущую систему анафорических «романтических И» (Жирмунский 1921: 22). Первое предложение с анафорой И занимает, как сказано, один стих VI (1). Второе, сочиненное с ним, размещает свою группу сказуемого в VI (2), а группу подлежащего – в VI (3) и VI (4). Из семи анафорических союзов и частиц «и» синтаксически равноправны только первые два, вводящие два сочиненных предложения (И сердце бьется… И для него воскресли…) Остальные пять И / и располагаются внутри второго из них, вводя каждое из пяти подлежащих к его глаголу-сказуемому воскресли (И божество… и т. д. до конца). Организованный таким образом двухэшелонный ряд «лирических И» – в поэзии не редкость (ср. многие системы «и» у Жуковского, а у Пушкина в «Пророке»: Моих ушей коснулся он, / И их наполнил шум и звон, / И внял я неба содроганье [три сочиненных предложения], / И горних ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье… [кумуляция субстантивов – дополнений к «внял я» последнего из сочиненных предложений]). В К*** подобная теснота и кумуляция вглубь начальных И призвана передать пафос, полноту и глубину описываемого переживания.
Установка на торжественность и ликование отражается также в фонетико-грамматических и рифменных особенностях шестой строфы. После нарочито монотонной рифмовки четных стихов на [И], [Ы] в первых пяти строфах, в VI (2) и VI (4) впервые появляется новый рифменный гласный – ударное [О]: вновь – любовь. Заметим, как этот резкий переход к рифмовке на [О] совпадает с тематически ключевыми словами68. Грамматически он сопровождается «подъемом» пяти существительных из родительного падежа (строфа IV) в именительный (строфа VI), с превращением их из второстепенного члена в подлежащее. Происходит своего рода «восстание гласных» и «распрямление существительных», выход позитивно окрашенных душевных состояний из «супинного» положения в «вертикальное». После сплошных щемящих [и] четвертой строфы – огласовка на [О], которую можно фигурально соотнести с идеей раскрытия узких щелей, высвобождения энергии, расширения дыхания и жизненного пространства.
Наконец, интересна еще одна маленькая деталь фонетических соответствий стихотворения. В конце стиха IV (4) родительный падеж любви имел не просто какую-то другую, но нулевую огласовку корня. В последнем слове стихотворения этот нуль звука между [б] и [в] заменился на [О]: любовь. Благодаря такому «скачку от нуля» четвертой строфы к полногласному ударному [О] в шестой максимизирован контраст по степени раскрытия между двумя формами одного слова в одной позиции, что, конечно, в общем ансамбле усиливает «эффект» торжествующего трубного звука [О] в финальной позиции. Другая «мелкая», но в общем ансамбле примечательная деталь – инверсия порядка слов: Без слез, без жизни, без любви – И жизнь, и слезы, и любовь.
С другой стороны (в кажущемся противоречии с только что сказанным о раскрытиях и расширениях), не случайно, что это первая строфа, где мужское окончание, в том числе самое последнее в стихотворении, оказывается закрытым слогом [Оф']. Все остальные мужские окончания в К*** представляли собой открытые слоги на [Ы], [И]: ты – красоты, суеты – черты, мечты – черты, мои – любви, ты – красоты. (Женские окончания на закрытый слог с [й] встречались и раньше – в строфах II и III: безнадежной – нежный, мятежный – нежный.) Лишь в финале стихотворения появляется неожиданная сразу в двух отношениях (новая огласовка, закрытый слог) ударная пара вновь – любовь.
В свете предшествующего анализа было бы трудно ожидать, что в многосторонне выделенной концовке стихотворения ничего не произойдет со сплошной открытостью его конечных ударных слогов. Финальный переход к закрытости нетрудно интерпретировать иконически и метапоэтически – как знак исчерпанности, постановки точки, «закрытия» (closure) лирического сюжета.
Ритмико-фонетический «дизайн» шестой строфы сложен и своеобразен. Оказывается, что столь важному в тематико-выразительном плане введению новой рифмы на [О] сопутствует филигранная отделка ее «окружения», в том числе методичное размещение ударного [О] во взаимно соотнесенных нерифменных позициях.
Четыре стиха шестой строфы, как и второй, регулярным образом делятся словоразделом на колоны, граница между которыми проходит во 2м и 3м стихах после четвертого слога (совпадая с границей полустишия), а в 1м и 4м стихах – после пятого. Обозначаем межколонную границу, как и ранее, двойной вертикальной чертой. Левые колоны стихов 1 и 4, 2 и 3 изометричны и изоритмичны между собой (см. объяснение этих терминов в комментариях к строфе II). Правые колоны изометричны и изоритмичны в стихах 1 и 4, и изометричны, но не изоритмичны в стихах 2м и 3м (поскольку стих 2 имеет два икта, а стих 3 – один). Замечательно также совпадение рисунка ударений в первых колонах крайних и средних стихов.
VI (1) И сердце б'йОтся || в упоенье
VI (2) И для невО || воскресли вновь
VI (3) И божествО || и вдохновенье
VI (4) И жизнь, и сл'Озы || и любовь
Как видно из этой частично фонетической записи, во всех четырех стихах первое полустишие (т. е. первые две стопы; в двух средних стихах они совпадают с колоном) кончается ударным [О] на четвертом слоге (ударное «е» в бьется, слезы, конечно, читается как [О]). При этом в парах стихов VI (1) и (4), VI (2) и (3) ударное [О] является в соответственно сходных окружениях. В средних стихах (2) и (3) это [О] выступает в составе группы [вО], а в крайних (1) и (4) – в сочетании с предшествующим йотированным согласным [б'й] или мягким согласным [л'] и пишется как «е». Итак, и по изометрии / ритмии, и по расположению одинаковых групп звуков наблюдаются редкие по своей точности и изяществу совпадения между первыми колонами стихов (1) и (4), (2) и (3).
Среди горизонтальных (внутристрочных) соотношений мы отмечаем, что в каждом из двух средних стихов дважды является звуковая фигура [в… О / ] (многоточие означает позицию для согласных).
А именно,
– В VI (2) имеем группы [вО] || [в], [внО].
– В VI (3) имеем [bO] || [вд].
– В обеих строках группа со звуком [в] примыкает слева и справа к межколонному разделу (слева – [в] с ударным [О], справа – с безударным []).
– В стихе VI (4) отметим звуковое переплетение трех составляющих слов: жизнь [ж] и [з] – слезы [л'О] и [з] – любовь [л'] и [О].
Среди вертикальных (междстрочных) соотношений особенно заметно созвучие вторых колонов (они же вторые полустишия) в средних стихах VI (2–3). В каждом из этих двух вторых полустиший по две звонких согласных [в]. Этим звуком начинаются все три слова этих двух колонов: воскресли вновь — и вдохновенье. Последнее слово VI (2) вновь анаграмматически содержится в слове вдохновенье из VI (3), с тем же следованием звуков [в… н / Ов' …] в обоих словах.
Отметим, наконец, дистантное сходство между стихами I (2) в первой строфе и VI (2): Передо мной явилась ты – И для него воскресли вновь. Они сходны по положению и структуре (оба – вторые в своей строфе; в обоих первое полустишие заполнено предлогом с личным местоимением; в обоих второе полустишие, за вычетом последнего слова, заполнено трехсложным глаголом-сказуемым явилась – воскресли).
Учитывая обильное и организованное присутствие ударного [О] в строфе VI, можно говорить о таком же особом уклоне данной строфы в сторону вокализма [О], как уклон в огласовку [и] в строфе IV, особенно в IV (2). Строфы IV и VI являются тематическими антиклимаксом и климаксом соответственно; поэтому неудивительна в функциональном плане и противоположность их фонетических (вокальных) предпочтений Сложная, но, как всегда у Пушкина, безупречно выверенная конструкция вокруг ударного [О] придает всей шестой строфе сложную стройность: особенно оригинальна серия малых, но точно построенных метрико-фонетических параллелей внутри пары крайних (первый и четвертый) и пары средних (второй и третий) стихов69.
1. Вводные замечания. Пушкинское К*** состоит из шести строф, в которых обращает на себя внимание многократное повторение одних и тех же на первый взгляд рифм. В пушкинских стихотворениях, делящихся на строфы-катрены, повторение (в неизменности или с вариациями) рифм, их комбинаций и целых строф – отнюдь не редкость (например, в стихотворениях «Приметы», «Не пой, красавица, при мне…», «Зимний вечер» и многих других). Здесь, однако, оно проведено с такой тотальностью, что наводит на мысль о каком-то оригинальном замысле и взывает к более пристальному рассмотрению рифменных микроструктур и их функций. В самом деле, ведь не бедность же рифм и не недостаток изобретательности вынудили Пушкина к подобному «однообразию» клаузул в знаменитом стихотворении?
Прежде всего бросается в глаза тождество рифменных ударных гласных во всех строфах – как в мужских строках (везде [Ы / И], за исключением лишь многозначительной смены на [О] в последней строфе), так и в женских (везде [Е]). Женские рифмы, как более длинные, имеют, кроме ударного [Е], и два других звука – [н / н'], [й], – константно проходящих через все строфы.
Звуковой костяк рифмы, таким образом, везде один и тот же (свой в мужских и в женских рифмах). Но в заполнении его «переменными» звуками от строфы к строфе наблюдаются вариации, хоть и малозаметные с первого взгляда, но проведенные четко и уверенно. Можно заметить в этой смене оттенков рифмы какой-то параллелизм с этапами развития лирической темы. После этих микроразличий, этих малых сдвигов и на их фоне кажется неожиданностью – в сущности, небольшим взрывом – появление в шестой строфе, под самый занавес, совершенно новой мужской рифмы на [О]: вновь, любовь. (Об этом [O] в контексте вокализма всей строфы см. выше, «Шестая строфа».)
Прежде всего, определим понятие рифма для задач данной статьи. Будем считать рифмой в К*** повторяющуюся конечную часть стиха, начиная с ударного гласного (в женских и закрытых мужских стихах: -Енье, – Ежной, – Овь) или с опорного согласного (в открытых мужских стихах: -тЫ, – вИ). Верно, что очень многие пушкинские рифмы, в том числе и некоторые рифмы в К***, распространяются влево от этих звуков (о чем см. известную статью В. Я. Брюсова «Левизна Пушкина в рифмах»70), но мы ограничимся только что очерченным минимальным рифмующимся отрезком, так как, по нашему мнению, на нем оказываются наиболее четко определены и логично «расподоблены» специфические рифменные рисунки шести строф.
Рассмотрим сначала женские (нечетные), затем мужские (четные) рифмы. После этого постараемся выявить микро-«дизайны» рифмовки всех шести строф и, насколько возможно, закономерность в переходах от одной строфы (или пары строф) к другой.
2. Женские рифмы. Все женские (нечетные) рифмы стихотворения имеют общую фонетическую схему [-Е… н / н'… й…].
Обозначения. Заглавная буква – ударность. Косая черта – два альтернативных звука. Апостроф – мягкость. Три многоточия – три позиции для переменных звуков (согласного, гласного или нуля – но с тем, чтобы вся схема в итоге была двусложной и имела два гласных).
Схеме отвечают три женские рифмы, находимые в К***:
[-Ен'йе] – строфы первая, пятая, шестая.
[-Ен'йа] – строфа четвертая.
[-Ежнй] – строфы вторая и третья.
3. Мужские рифмы. Мужские (четные) рифмы во всех строфах, кроме шестой, имеют общую фонетическую схему [-сЫ] или [c'И]. Мужская рифма шестой строфы строится иначе — [-Оф'].
Обозначения (в дополнение к предыдущим). Малая буква «c» (= «consonant» или «согласный») обозначает опорный согласный рифменного отрезка. (Звук [И] может обходиться без опорного согласного, если в другом члене рифменной пары позицию последнего занимает [в'], [й] или нуль. Так, возможны рифмы ладьи – струи [йИ-И], любви – мои [в'И-И], мои – змеи [И-И].)
Приведенным схемам соответствуют три мужские рифмы стихотворения:
[-тЫ] – строфы первая, вторая, третья, пятая.
[-И, – в'И] – строфа четвертая.
[-Оф'] – строфа шестая.
4. Вариация рифмовки по строфам. Как видно из их схем, рифмы содержат постоянные компоненты ([E], [й], присутствующие во всех женских рифмах) и переменные (все остальные, допускающие вариацию). Носителем специфики рифменного отрезка считаются лишь переменные компоненты; иначе говоря, звуки [E], [й] женских рифм при определении этой специфики не учитываются.
Для переменных компонентов рифм существенны два признака: мягкость / твердость согласных ([в'], [н'], [ф'] – [т], [н], [ж]), и передний / непередний ряд гласных ([и], [е] – [о], [ы], [a]).
По значению этих признаков рифмы шести строф различаются следующим образом:
I. [-Ен'йе] – [-тЫ]: в женской (нечетной) рифме – мягкий [н'], передний [е]; в мужской (четной) рифме – твердый [т], непередний [ы].
II–III. [-Ежнй] – [-тЫ]: в женской рифме – твердые [ж] и [н], непередний [о]; в мужской рифме – твердый [т], непередний [ы].
IV. [-Ен'йа] – [-И, – в'И]: в женской рифме – мягкий [н'], непередний [а]; в мужской рифме – мягкий [в'], передний [и].
V. [-Ен'йе] – [-тЫ]: как в первой строфе.
VI. [-Ен'йе] – [-Оф']: в женской рифме – мягкий [н'], передний[е]. В мужской рифме: мягкий [ф'], непередний [О] (первая в стихотворении мужская рифма не на [Ы] или [И]), закрытый слог).
Как можно подытожить вариации, через которые проходит единая рифменная схема в строфах с первой по шестую? Есть ли в них какая-либо «тенденция»? Нам кажется, что есть.
В первой строфе можно заметить равномерное распределение по женской и мужской рифмам соответственно мягкости согласных / переднего ряда гласных и твердости согласных / непереднего ряда гласных.
В следующих трех строфах – маятникообразное отклонение сначала в одну (строфы II–III), затем в другую (строфа IV) сторону от равновесия первой. А именно:
Во второй и третьей строфах – пробладание и в женской, и в мужской рифме твердых и непередних звуков: [ж], [н], [т], [ы / о], [Ы].
В четвертой строфе – преобладание и в женской, и в мужской рифме мягких и передних звуков: [н'], [в'], [И], с одним исключением – непередним [а] в женской рифме.
(Различие между строфами II–III и IV было бы полным, если бы женской рифмой в IV было не [-Ен'йа], а [-Ен'йе], как в II–III. Но фонетический контраст между конечными – а и – е после йота и без того достаточно слаб.)
В пятой строфе – возвращение к равномерности первой.
В шестой строфе – мягкий и передний характер женских рифм [-Ен'йе], как в строфах первой и пятой, но совершенно новое озвучивание мужской рифмы (непереднее [О], мягкое [ф']). В резком нарушении установившегося звукового рисунка состоит главный выразительный прием этой финальной строфы.
5. К интерпретации. Трудно и рискованно было бы приписывать каждому из фонетических подтипов рифмовки определенное тематическое значение. Легко заметить, однако, что с сюжетной точки зрения – в рамках схемы «Увядание и обновление» – стихотворение поддается в общем тому же делению на строфы, что и в плане формальных способов рифмовки.
Строфа первая говорит о мимолетной первой встрече («тогда»).
Вторая и третья – о последующем периоде жизни («потом»), с постепенным ослаблением воспоминания и чувства.
Четвертая – о наступившем результативном состоянии («теперь»), когда «ты» кажется уже прочно вытесненным из сердца изгнанника-автора.
Интересен процесс постепенного убывания мотива «ты», вытеснения его из рифменной позиции в строфах I–IV. В первой строфе героиня эксплицитно названа местоимением «ты». Во второй и третьей строфах, при той же мужской рифме [-тЫ] – это уже не местоимение 2го лица, а равнозвучный с ним последний слог иных словоформ: суеты, черты, мечты, черты. (Есть, правда, безударные местоимения твой, твои в строфе III. Но мы говорим сейчас о судьбе [тЫ] в ударной рифменной позиции, т. е. там, где оно проводится через все стихотворение минус строфа VI.) В четвертой строфе от былого видения остается лишь конечный гласный [И] – другой вариант мужской рифмы нашего стихотворения, напоминающий о местоимении «ты» совсем уже сублиминально. Таким образом, личное местоимение «ты» в строфах II–IV звучит лишь анаграмматически и постепенно сходит на нет.
В пятой строфе, однако, происходит возрождение «ты» как местоимения, возвращающегося на свое прежнее «законное место» – с целым рядом усиливающих его лексико-просодических деталей (см. во втором разделе статьи разбор архитектоники строфы V).
В этой и шестой строфах новая встреча возвращает поэта к «чудному мгновенью» первой строфы и решительно отменяет апатию и душевную спячку четвертой. О тематической роли новой рифмы на [О], о ее организации говорилось достаточно.
Вся эта система явного и скрытого проведения «ты» – пример мастерского владения «поэзией грамматики». В частности, используются одновременно краткость (односложность) и ударность этого местоимения, позволяющие соответственно запрятывать «ты» в другие слова и одновременно сохранять для него заметную (конечную) позицию в строфе.
Таково предположительное соотнесение этапов романа с последовательностью рифменных конфигураций. Настаивать на более конкретных связях нет надобности, ибо ассоциации подобного рода неизбежно являются делом воображения каждого читателя.
СЮЖЕТНОЕ ИСКУССТВО ПУШКИНА В ПРОЗЕ
Одним из фундаментальных аспектов повествовательной прозы является ее сюжетное измерение. Сюжет – та сфера литературной техники, которая связана преимущественно с действиями и событиями, а если воспользоваться более точной и теоретически абстрактной формулировкой Б. В. Томашевского, то с «переходами от одной ситуации к другой». Повествования широко различаются по признаку, который можно было бы назвать «плотностью» сюжетной организации; степень выраженности этого признака неодинакова в разных жанрах и варьируется от нулевой (типичной для аморфных жанров, как очерк, зарисовка, дневник и т. п.) до значительной (достигаемой, например, в некоторых остросюжетных новеллах). Под «плотностью» мы подразумеваем активное и творческое применение автором разнообразной техники выразительности при построении действия и мизансцены. Сюда относятся такие «умения», как связывание и согласовывание событий; расщепление действия на ряд линий и их координация; постепенное развитие, подготовка и интенсификация нужных состояний; обеспечение внезапности и поразительности в моменты критических переходов и «смен декораций»; экономия средств, компактность; эффектное выделение важных моментов; наконец, камуфлирование всей этой техники, придание ей естественного вида. Заметим, что степень плотности литературного сюжета и драматизм образующих его событий – две в принципе различные характеристики, хотя они и тяготеют к сближению в том смысле, что плотные сюжетные структуры чаще всего оказываются и драматичными (но, по-видимому, не наоборот: например, многие романы А. Дюма-отца, изобилующие увлекательными авантюрными событиями, являются в то же время довольно рыхлыми в сюжетном отношении).
Среди параметров плотной сюжетной ткани особенно важными представляются два:
(1) Степень парадоксальности и неожиданности, с которой фабульные ситуации переходят одна в другую; степень взаимной контрастности и дистанцированности элементов и положений, входящих в одну и ту же предметно-событийную систему. Примером классической разработки контрастов может служить сцена суда в «Венецианском купце», где ловушка для героя обращается в ловушку для его преследователя, причем на обоих этапах умело демонстрируется прочность, необратимость создавшегося положения.
(2) Степень связности, согласованности различных событий, движений, действий, положений. Для произведений с плотным сюжетом типично стремление увязывать факты различного значения и ранга в единый событийный агрегат, оставляя по возможности меньше «свободных концов», не участвующих в механизме перехода от одной ситуации к другой. Различные, потенциально взаимонезависимые события в таких произведениях так или иначе каузируют, поддерживают, мотивируют, продвигают, облегчают друг друга. Часто они вступают и в более тесную связь, склеиваясь в единое нераздельное событие. Результатом этих сцеплений и согласований может быть, среди других возможных эффектов, значительная экономия, органичность и конденсированность художественного построения.
В качестве примера напомним хотя бы «Смерть Ивана Ильича». Герой Толстого, как известно, получает травму, из которой затем развивается смертельная болезнь, заставляющая его пересмотреть свою жизнь и отвергнуть ложные ценности. Для сравнительно плотной сюжетики Толстого характерно, что травму эту Иван Ильич получает во время работы по благоустройству своей новой квартиры, воплощающей эти ложные ценности. Будучи вершиной в карьере героя (получение должности в столице), вселение в новую квартиру представляет собой максимальный контраст к финальному положению дел71. С другой стороны, прежняя жизнь и обнаруживающая ее тщету болезнь не просто даны как два последовательных этапа в эволюции героя (чего можно было бы ожидать, скажем, от Тургенева, возьмись он за разработку той же фабулы; у него герой вполне мог бы ушибиться где-то на улице или просто заболеть без видимой причины), но связаны каузальностью, хотя бы и достаточно поверхностной. Отметим, что, помимо архитектонического единства, результатом этого сцепления оказывается и некоторое символическое созвучие с основной философией повести, пусть достаточно скромное и очевидное («ненадежность материальных и престижных устремлений»).
Значение сюжетного аспекта литературного произведения нельзя недооценивать. Он призван удовлетворять глубинную потребность читателя в потрясении и чуде и потму обладает мощными катартическими потенциями. Сюжетные механизмы не менее способны усиливать эмоции и придавать ударную форму проводимой через них теме или идее, чем механизмы стиховые. При достаточно обобщенном подходе между сюжетом и стихом не могут не обнаружиться значительные параллели, вытекающие из их функционального сходства. Главной функцией, общей для стиха и сюжета, является выделение и акцентировка – в первом случае слов, во втором – событий. Помимо этого, как мы уже видели, слаженность событийных ходов может сама по себе нести смысловые коннотации: например, она может в определенных условиях вызывать представление о судьбе, о некоем высшем разуме и промысле, управляющем людскими делами, о закономерном и телеологичном устройстве мира и т. п.
Нетрудно понять, что мастера слова различаются по степени своего интереса к этой стороне повествовательной структуры и по уровню своего владения соответствующей техникой. У авторов с плотной сюжетной тканью, как, например, Пушкин, Толстой или Чехов, указанные выше черты организации проявляются не только в масштабе произведения в целом, но и на малых его отрезках, в микроструктуре. При этом даже скромные решения, направленные на повышение связности, заострение контрастов, выделение и т. п. в рамках малого эпизода или узла, нередко отличаются оригинальностью и техническим изяществом, оказываются «мини-шедеврами» сюжетности. Для таких авторов характерно частое обращение к арсеналу испытанных выразительных конструкций, литературных мотивов и архетипов. Это довольно естественно, поскольку эти готовые единицы, с одной стороны, представляют собой сгустки и резервуары сюжетных эффектов, а с другой – предъявляют высокие требования к мастерству писателя, когда встает задача реализации их возможностей и одновременно сокрытия их условной, литературной природы. Для плотно организованной сюжетики характерно также использование в качестве двигателей действия и компонентов выразительной мизансцены всякого рода физических объектов и культурных реалий, разнообразно обыгрывающее их тематико-символические и операционные возможности. Напротив, авторы с более рыхлой и слабой сюжетностью часто ограничиваются организацией лишь общих контуров событийной структуры и при этом не выходят за пределы наиболее простых и общепринятых приемов; реже прибегают к репертуару готовых конструкций и мотивов, как бы не полагаясь на свое умение довести их до отточенного и одновременно жизнеподобного вида; и, наконец, реже пользуются вещами и реалиями в событийно-ситуативных построениях, охотнее применяя их в качестве элементов описаний и характеристик.
Одним из признаков высокоразвитой, «плотной» сюжетности следует считать умение строить полноценные художественные произведения на сюжете par excellence, создавая тексты, где событийная структура либо составляет «все» (например, детские рассказы Толстого, все действие которых, по словам Эйхенбаума, «построено на элементарной борьбе за жизнь» – Эйхенбаум 1974: 73, 159), либо играет роль доминанты, т. е. того измерения, которое подчиняет себе другие аспекты художественного мира и служит формой их реализации (например, проза Пушкина, где, по словам А. Лежнева, «диалектика действия раскрывает характер» и «среда не описывается, а изображается в действии» – Лежнев 1966: 183, 194). Виртуозное владение сюжетной техникой, творческое использование ее потенций позволяет таким писателям, в случае надобности, возложить на эту технику выражение многих тонкостей философского и психологического плана72.
Исследование сюжетной макро– и микроструктуры – весьма благодарная задача, при условии, что мы располагаем специальным техническим языком, позволяющим точно локализовать и описывать художественные достижения авторов в этой сфере. Для тех иллюстраций сюжетного мастерства Пушкина, которые мы собираемся привести, достаточно иметь представление о конструкции ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА, сводимой к элементарным приемам выразительности КОНТРАСТ (с зависимым от него ОТКАЗНЫМ ДВИЖЕНИЕМ) и СОВМЕЩЕНИЕ (Жолковский и Щеглов 1987, гл. 5). ВНЕЗАПНЫЙ ПОВОРОТ состоит в том, что действие, развивающееся вначале в одном направлении, – скажем, в сторону некоторого исхода А, – подходит более или менее близко к этой ожидаемой развязке, после чего неожиданно меняет свое направление и приходит к противоположному результату (Анти-А). Непременным свойством данной конструкции (отличающим его от простого ОТКАЗНОГО ДВИЖЕНИЯ) является амбивалентность первоначального развития событий, иначе говоря, СОВМЕЩЕНИЕ в нем противоречивых факторов. Это первоначальное развитие должно либо заключать в себе некий скрытый механизм, который в нужный момент «срабатывает» и приводит к неожиданному повороту («каузальная», или событийная, разновидность конструкции), либо быть направленным к исходу А лишь по видимости, на самом же деле иметь противоположное направление, до времени скрытое от наблюдателя; в этом случае момент обнаружения ошибки и оказывается поворотным моментом («ментальная» разновидность)73. Поразительность повышается в том случае, когда первоначальное движение достигает точки А, проходит ее или закрепляется в ней и кажется необратимым, а затем – в силу тех или иных обстоятельств, каждый раз особо изобретаемых автором, находимых им среди свойств объектов, вовлеченных в действие, – все же устремляется в противоположную сторону и приходит к результату Анти-А. Эту доведенную до крайности форму ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА можно назвать «Мнимой окончательностью» или «Обращением необратимого» с двумя разновидностями: «Утрата достигнутого» и «Обретение утраченного»74.
Этого минимального аппарата будет достаточно для того, чтобы оценить сюжетную изобретательность трех эпизодов из прозы Пушкина. Для мира Пушкина характерны ситуации высокого драматизма: герои его ведут себя решительно и динамично, реализуют себя до предела, достигают вершин и оказываются на краю пропастей. В то же время, как не раз отмечала критика, пушкинские персонажи – обыкновенные люди со свойственными человеку противоречиями и слабостями, а не исключительные романтические натуры75. Это соединение естественности характеров с остротой положений, с резкими виражами судьбы осуществляется не в последнюю очередь с помощью высокоразвитой и «плотной» (в нашем смысле) сюжетной техники.
Весьма богата драматическими эффектами сцена расправы Пугачева над офицерами Белогорской крепости, во время которой и герой-рассказчик, Петр Гринев, ранее встречавший Пугачева в качестве «вожатого», едва избегает казни.
Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. <…> «Который комендант?» – спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. <…> и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай», – сказал ему Пугачев, – «государю Петру Феодоровичу!» – Ты нам не государь, – ответил Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. – Ты, дядюшка, вор и самозванец! Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.
Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» – сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву <…>. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», – повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной!» – говорит бедный дядька. – «Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради, вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», – говорили мне (Пушкин 1937–1959: VIII, 324–325)76.
1. Фабула седьмой главы «Капитанской дочки»: пугачевский террор; почти-гибель и спасение Гринева; начало сближения Гринева с Пугачевым. Особенностью «Капитанской дочки» является стремительность, сжатость и концентрированность действия. Кн. В. Ф. Одоевский писал Пушкину в декабре 1836 г.:
Пугачев слишком скоро после того, как о нем в первый раз говорится, нападает на крепость, увеличение слухов не довольно растянуто – читатель не имеет времени побояться за жителей Белогорской крепости, как она уже и взята77.
То, что показалось недостатком Одоевскому, представляет собой особое уплотненное письмо, которое синхронизирует и совмещает в рамках одной главы или даже одной сцены целый ряд важных тематических и сюжетных элементов, типичных для романа вальтер-скоттовского типа, чьи внешние параметры в значительной мере соблюдены Пушкиным в «Капитанской дочке»78. В романах Вальтера Скотта («Уэверли», «Роб Рой» и др.) обыкновенный молодой человек, вступающий в жизнь и занятый своей карьерой и личными делами, оказывается свидетелем и участником исторических событий, волей судьбы переходя из лагеря в лагерь и общаясь с лицами, известными из учебников истории: монархами, полководцами, претендентами на престол, вождями мятежников. В интересующей нас сцене «Капитанской дочки» совмещены по меньшей мере три сюжетных момента, обязательные для романов с подобной фабулой:
(а) высшая точка событий как таковых – в данном случае пугачевского террора, «бессмысленного и беспощадного русского бунта», разорения крепостей и расправы с дворянами, – составляющих, по крайней мере в пушкинской версии (см. «Историю Пугачева»), основное содержание этого драматического эпизода русской истории; это единственное место в повести, где указанные события представлены с такой наглядностью и полнотой, в дальнейшем они лишь упоминаются суммарно;
(б) «боевое крещение» молодого героя, который на себе испытывает участь офицера и дворянина, подвергшегося пугачевскому террору, и спасается от смерти лишь в последний момент;
(в) вступление молодого героя в личные отношения с историческим лицом (Пугачевым), с которым ему предстоит взаимодействовать.
В более пространном и свободном эпическом повествовании, например, у самого В. Скотта или его русских последователей вроде М. Н. Загоскина, подобная концентрация эффектов не нужна и встречается редко:
Так, в «Квентине Дорварде» аналогичная встреча героя с королем Франции, в котором он узнает своего недавнего компаньона по путешествию, происходит близко к началу романа и отделена значительным интервалом как от основных исторических событий, так и от драматических моментов в сюжетной линии самого героя; в «Талисмане» сходный момент снятия масок и раскрытия инкогнито также отделен от кульминационных точек романа, будучи расположен в конце, после разрешения большинства главных линий интриги.
2. «Знакомый на троне». Указанные выше сюжетные элементы (террор; грозящая герою гибель и его спасение; вступление героя в сферу Пугачева) оформлены с помощью известного литературного мотива, которому мы дадим условное название «Знакомый на троне».
Герой знакомится в «неофициальной» обстановке (на прогулке, на большой дороге, в лесу, на постоялом дворе и т. п.) с неизвестным человеком и общается с ним «на равных», иногда довольно фамильярно, иногда интимно, иногда покровительственно, оказывая незнакомцу некоторую помощь, иногда принимая услуги от него. Позже герой с удивлением обнаруживает, что его знакомый занимает «официальное» положение, исключающее возможность фамильярного общения и требующее этикетного поведения – например, является носителем авторитета и власти, в наиболее характерном и известном случае – царственной особой.
Данный мотив встречается в двух вариантах, различающихся тем, что служит «исходным» и что «новым» в сцене узнавания, кульминационной для всех подобных сюжетов. Если условно назвать «монархом» того персонажа, которого герой наблюдает сначала в частной, а потом в официальной ипостаси (фактически речь отнюдь не всегда идет о коронованной особе; та же ситуация может разыгрываться в достаточно обычной современной обстановке, см. примеры ниже), то в одном варианте кульминационная сцена состоит в том, что герой «обнаруживает в своем знакомом монарха», а в другом – в том, что он «обнаруживает в монархе своего знакомого».
Примеры первого типа – эпизод в «Парижских тайнах» Эжена Сю, когда Шуринёр, до сих пор знавший герцога Родольфа как простолюдина, вдруг замечает, что другие почтительно называют его «монсеньор» (часть 1, гл. 20), или сказка Л. Толстого «Петр Первый и мужик», где крестьянин помогает встречному выбраться из леса и, выйдя на людное место, замечает, что все снимают перед его спутником шапки.
Второй вариант несколько сложнее по конструкции. Примеры его мы находим в романе Вальтера Скотта «Квентин Дорвард», где заглавный герой пользуется услугами проводника, называющего себя «мэтр Пьер», а вечером того же дня, прибыв ко французскому двору, узнает мэтра Пьера в короле Людовике XI, выходящем к придворным (гл. 8), или в «Капитанской дочке» (Марья Ивановна и Екатерина II).
Легко видеть, что в первом случае эффект узнавания не требует обязательной раздельности сцен знакомства и узнавания, не требует расставания двух персонажей и их повторной встречи: например, в сказке Толстого мужик с момента знакомства до момента узнавания находится рядом с царем. Напротив, во втором случае предполагаются минимум два раздельных явления «монарха» перед героем – в первый раз в виде обыкновенного человека, во второй раз в качестве всем известного официального лица. Из этого вытекают и другие отличия второго варианта от первого, делающие его потенциально более выразительным и, как легко предвидеть, более популярным. Раздельность двух явлений знакомого позволяет придать им большую контрастность, в частности, оформить второе явление со всей помпой и торжественностью, подобающей высокопоставленному лицу, снабдить его всеми возможными знаками официального положения, противопоставленного частному статусу героя. Если «монарх» – действительно царственная особа, то он в типичном случае буквально восседает на троне.
Усиление эффекта, свойственное второму варианту, выражается также в ретардации самого момента узнавания. Последний распадается на две фазы, контрастные по признаку «официальное, публичное vs частное, интимное»: герой сначала разделяет с толпой массовую эмоцию почтительного любопытства, благоговения или страха перед «монархом» и лишь затем опознает в нем человека, встреченного в сугубо мирской обстановке. Подобная задержка узнания чаще всего обеспечивается тем, что «монарх» не полностью виден герою: отдален, заслонен, повернут спиной, смотрит в другую сторону, занят разговором с кем-либо и т. п. Мотивировка подобного положения «монарха» по отношению к герою легко подыскивается в обстоятельствах придворной церемонии, когда он отделен от героя толпой, стражей, придворными, претендующими на его внимание, и проч. Задержка может реализоваться и другими способами: например, тем, что герой, хотя и узнает в высокопоставленном лице знакомые черты, не может сразу сообразить, в чем дело, или не верит своим глазам. Последнее психологичски мотивируется уже упомянутым выше разительным контрастом между обстоятельствами первого и второго явлений знакомого – контрастом, который, таким образом, способен «по совместительству» служить и ретардации узнавания.
В обоих вариантах момент узнавания может дополняться тем или иным актом милости (реже – немилости) «монарха» по отношению к герою. Акт милости призван наглядно выражать «царственность» данного персонажа, т. е. его поразительную способность управлять материальными ресурсами, людьми и событиями. Следует подчеркнуть, что акт милости/немилости в принципе есть отдельный мотив, независимый от «Знакомого на троне» и часто сопутствующий образу царя в самых различных ситуациях. При этом он всегда выражает ту же идею, что и в данном случае, – т. е. идею могущества и исключительного, полубожественного статуса. Ради краткости мы в настоящей статье не выделяем акта милости в качестве самостоятельной единицы, а рассматриваем его в составе мотива «Знакомый на троне», однако следует помнить о нестрогости подобного описания.
Типичные акты милости: щедрый подарок, мгновенное изменение социального положения и всей судьбы героя, исполнение казавшихся неисполнимыми желаний, предоставление немыслимых в обычных условиях свобод и льгот, спасение от неотвратимой обычными способами беды. Последний случай может проявляться, помимо прочего, в том, что «монарх» останавливает расправу своих подчиненных (обычно – стихийных, неуправляемых, наводящих на всех страх) над героем. Этот мотив, сочетающий спасение с демонстрацией власти над дикими и неукротимыми силами, мы встречаем в «Кандиде» Вольтера, где болгарский царь, проезжая мимо, велит прекратить экзекуцию над заглавным героем (ситуация «знакомства» здесь отсутствует); в «Докторе Живаго», где СтрельниковАнтипов освобождает доктора, которого чуть не расстреляли его солдаты (здесь «знакомство» есть, хотя полного взаимного узнания и не происходит); в фильме Ч. Чаплина «Великий диктатор» ([«The Great Dictator»], 1940), где штурмовики собираются вешать еврея-парикмахера и уже затягивают петлю на его шее, когда проезжающий в машине командир Шульц приказывает отпустить еврея (есть момент «знакомства», а также «услуги за услугу» – см. ниже); в рассматриваемом эпизоде «Капитанской дочки» (есть «знакомство» и «услуга за услугу»).
Когда акт милости фигурирует в составе сюжета со «знакомым на троне», он убедительно резюмирует оба контрастных признака, релевантные для этого мотива: как близость двух протагонистов (признание «монархом» личного знакомства с героем), так и дистанцию между ними (демонстрация «монархом» своего неизмеримо более высокого иерархического положения).
Узнанию и акту милости может предшествовать, в качестве контрастной (отказной) ситуации, угроза немилости – наказания, казни и т. п. – герою со стороны того же «монарха». Она может быть воображаемой (см. некоторые примеры ниже) или реальной. В последнем случае естественно ее совпадение (СОВМЕЩЕНИЕ) с той бедой, из которой акт милости «монарха» затем выручает героя. Именно так обстоит дело в нашем эпизоде с Пугачевым и Гриневым. В сюжетах, где встреча героя со знакомым, сидящим на троне, начинается с подобной (реальной или мнимой) возможности, катартическое действие счастливой развязки оказывается более полным, поскольку расширяется диапазон власти «монарха» над судьбой подданного (милость/немилость, жизнь/смерть), усиливая «религиозное» чувство растворения маленького человека в воле полубога.
Приведем в заключение еще несколько примеров мотива «Знакомый на троне», где в роли «монарха» выступают как собственно цари, так и обыкновенные люди.
В античном романе об Аполлонии Тирском (II в.) рыбак отдал потерпевшему кораблекрушение царю половину своего плаща, не зная, что это царь; впоследствии царь заметил во время прогулки этого рыбака и «приказал своим слугам привести старика во дворец. Рыбак, когда его привели во дворец, решил, что ему грозит смерть. Но когда он вошел в покой, где Аполлоний Тирский восседал на троне вместе с супругой, царь велел ему приблизиться и сказал старику: – Добрейший старик, я Аполлоний Тирский, которому ты некогда отдал половину своего плаща. – И дал ему десять сестерциев золота» (Поздняя греческая проза 1960: 370).
Плащ, разрубаемый пополам и отдаваемый нищему, фигурирует также в житии св. Мартина: нищий оказывается Христом, который на следующую ночь является Мартину в окружении ангелов (см. Золотая легенда 1967: 336).
В конце «Принца и нищего» М. Твена Майлз Хендон приведен по королевскому приказу во дворец и видит юного короля на троне в окружении царедворцев, беседующего, «склонив и отвернув голову, с какой-то райской птицей в человеческом облике – скорей всего, герцогом». Как и рыбак в греческом романе, Хендон вначале полагает, что ему грозит казнь. В это время «король поднял голову и Хендон смог хорошо рассмотреть его лицо. От того, что он увидел, у него перехватило дыхание <…> “Как? Повелитель Королевства Грез и Теней на троне?”» Некоторое время он не хочет верить своим глазам. Желая выяснить, действительно ли на троне сидит мальчик, с которым он претерпел много невзгод и приключений на дорогах Англии, Хендон садится перед троном на стул. Стража хочет схватить его, но король восклицает: «Не троньте его, это его право!» – и объясняет собравшимся, каким образом Хендон заслужил право сидеть в королевском присутствии (гл. 33).
В сказке А. И. Куприна «Четверо нищих» король Генрих IV сходится в лесу с компанией бродяг, называет себя королевским ловчим Анри; затем бродяги являются ко дворцу и просят вызвать своего приятеля; как и в предыдущем примере, стража хочет задержать дерзких нищих, но король, высунувшись в окно, кричит: «Не трогайте этих людей и ведите их скорее ко мне. Это мои друзья».
Довольно известная ситуация, часто встречаемая в современной литературе и кино, является, по-видимому, разновидностью мотива «Знакомый на троне».
Герой встречает женщину, с которой когда-то был знаком – возлюбленную, случайную подругу и проч. – в качестве недоступной дамы, супруги важного человека, хозяйки салона высокого класса и т. п. Примеры – последняя глава «Евгения Онегина»; пьеса М. А. Булгакова «Бег» (действ. 4, сон 7й: Люська в роли подруги коммерсанта Корзухина); фильм Ф. Трюффо «Соседка» ([«La femme d'a` co^te»], 1981; герой встречает женщину, с которой когда-то имел роман; она замужем за солидным бизнесменом; моменту узнания предшествуют кадры, где героиня повернута к герою спиной, как это типично для «Знакомого на троне»); фильм Л. Дж. Карлино «Класс» ([«Class»], 1983; школьник заводит легкомысленную связь с незнакомой женщиной, встречается с ней в барах, отелях и лифтах, затем, приехав на каникулы вместе с богатым одноклассником в его дом, узнает свою любовницу в матери товарища; в первый момент дама обнимает сына и повернута к герою спиной).
3. «Услуга за услугу». Сюжет, в котором кто-то, благодарный герою за оказанную некогда услугу или помощь, приходит к нему на выручку в трудную минуту, достаточно известен и распространен и в пространном комментировании не нуждается. Он встречается в фольклоре в виде мотива «благодарных животных», которые, будучи спасены или облагодетельствованы героем, затем вызволяют его из беды (Пропп 1946: 138–140). Специфическая черта ответной услуги состоит в том, что она часто предоставляется в той среде, где «благодарное животное» находится в своей стихии и потому располагает определенными возможностями или влияниями (например, рыба перевозит героя на спине через реку, обезьяна мобилизует членов своего племени и проч.). Иначе говоря, первоначальная услуга и ответная услуга локализуются в разных сферах действительности, из которых вторая – чужая для героя и своя для его помощника. В этом есть известный параллелизм с мотивом «Знакомый на троне», где разделение на две сферы, «неофициальную» и «официальную», также играет важную роль. Неудивительно, что «Знакомый на троне» и «Услуга за услугу» часто совмещаются и образуют устойчивое сочетание, почти неизбежно воспринимаемое как единый стереотип, хотя в принципе эти два мотива раздельны и заимонезависимы. Техника данного совмещения включает совпадение ответной услуги с актом милости, который является типовой принадлежностью первого из двух названных мотивов. Именно это имеет место в нашем эпизоде из «Капитанской дочки»79.
Конкретная форма первоначальной услуги, примененная в «Капитанской дочке», имеет архетипический оттенок благодаря сходству с плащом, половину которого герой отдает нищему в наиболее древних версиях этого мотива. Не следует ли видеть в треске заячьего тулупа («Мужичок <…> кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали» – VIII, 292) реликт разрываемого пополам плаща? Впрочем, исследование генетического аспекта рассматриваемых в этой статье литературных ситуаций не входит в наши задачи, имеющие сугубо синхронический и типологический уклон. В этом плане можно заметить, что плащ, тулуп и его треск имеют и более современные коннотации, предвещая разбойничью ипостась вожатого: ведь грабитель традиционно раздевает жертву и по-варварски напяливает на себя чужую одежду и обувь. Ср. в конце седьмой главы упоминание о казаке, нарядившемся в душегрейку Василисы Егоровны, а также те сцены из «Белой гвардии» Булгакова, где грабители натягивают на себя отнятые у обывателей сапоги: «с трудом налезли ботинки, шнурок на левом с треском лопнул» и т. п. (часть 2, гл. 15; ср. также в рассказе М. М. Зощенко «Любовь», где «[грабитель] напялил на себя Васину шубу»).
4. Конкретизация и совмещение мотивов, перечисленных в пп. 1–3.
4.1. «Почти-гибель и спасение» героя, в обстановке бунта и расправы над дворянами-офицерами, совершенно естественно выражается в том, что его хватают и едва не казнят вместе с начальниками и товарищами по гарнизону. Конструкция ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА, которая почти неизбежно используется при разработке подобной ситуации, предусматривает постепенно нарастающий характер первоначального развития событий, каковым в данном случае является опасность смерти, угрожающая герою. И действительно, в сцене расправы Пугачева с офицерами Белогорской крепости мы констатируем некоторое crescendo, реализуемое с помощью «очереди», в которой герою приходится ожидать конфронтации с грозным вождем бунтовщиков. «Очередь», по-видимому, является готовым сюжетным мотивом или, точнее, одним из готовых сюжетно-ситуативных устройств, с помощью которых может достигаться ступенчатое – с нарастанием suspense – приближение некоторого события или момента80. Таким образом, эта очередь, этот «конвейер смерти» в эпизоде пугачевщины не есть что-то само собой разумеющееся, а представляет собой определенный художественный выбор. Остается посмотреть, каким образом этот выбранный Пушкиным объект далее детализируется и реализует свои выразительные возможности.
Нарастание осуществляется в виде классических «трех ударов»; и хотя капитан Миронов и его помощник Иван Игнатьич кончают свою жизнь одинаково, в подходе к ним Пугачева наблюдается некоторая дифференциация: от первого он грозно требует ответа, второму же велит присягать себе на верность, т. е. предлагет жизнь; подобное варьирование, естественно, должно повышать читательский интерес к тому, что может быть сказано или предложено третьему пленнику, Гриневу. Сам Гринев склонен подчеркивать в происходящем повторяемость и готовится к фатальному исходу (следует учесть, что он еще не догадывается о своем знакомстве с Пугачевым, да и читатель, по крайней мере формально, еще не осведомлен об этом): «Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей» (VIII, 325). Дело, однако, принимает еще худший оборот, чем думал Гринев: Пугачев велит его повесить, не взглянув на него и не оставив ему хотя бы формального шанса на жизнь, как это имело место с Иваном Игнатьичем. Заметим, что здесь налицо довольно известная последовательность: «плохое положение дел (обращение Пугачева с капитаном) – некоторое улучшение (обращение с Иваном Игнатьичем) – резкое ухудшение (обращение с Гриневым)», в которой второе звено представляет собой ОТКАЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ по отношению к третьему81. Столь крутая перемена в обращении с пленными имеет двойную психологическую мотивировку: она вызвана, вопервых, раздражением Пугачева по поводу двух предыдущих ответов и, вовторых, наговорами врага героя, изменника Швабрина. Переход от индивидуального подхода к пленным офицерам, с элементами диалога и суда, к скорой, суммарной и безличной расправе, по-видимому, тоже может рассматриваться как некий стереотип82.
В соответствии с принципами ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА, отказ Пугачева взглянуть на Гринева и выслушать его, будучи очевидным ухудшением, в то же время несет в себе и элемент спасения. Установившаяся инерция обращения с офицерами нарушается в неблагоприятном для героя смысле (его вешают без разговоров) и в благоприятном (его не вешают). Гринев лишен возможности разъярить Пугачева дерзкими речами: тем самым нейтрализуется потенциально роковой для него фактор, и открывается путь для архетипических механизмов спасения, к которым мы теперь перейдем.
4.2. «Знакомый на троне»/«Услуга за услугу» – комбинированный мотив, который, как уже ранее говорилось, совмещен в данной главе «Капитанской дочки» с «почти-гибелью и спасением» в линии главного героя, Петра Гринева. Конструкция ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА принимает здесь свой окончательный вид только при этом СОВМЕЩЕНИИ, беря необходимые для нее структурные элементы из обоих совмещаемых мотивных рядов. Во взаимной подгонке последних играют роль такие типовые моменты «Знакомого на троне», как:
(1) «Угроза немилости», в функции которой выступает грозящая Гриневу казнь;
(2) «Узнание» и «Милость», через которые конкретизируется спасение;
(3) «Задержка узнания» (в частности, ситуация, когда «монарх» разговаривает с другим лицом и отвернут от героя), выступающая как причина суммарного и безличного обращения Пугачева с Гриневым и вытекающего отсюда резкого ухудшения в его судьбе.
Если первое и второе сцепления довольно очевидны и, в сущности, неизбежны, то третье представляет собой удачную техническую находку. Такая вещь, как ретардация взаимного узнания героя и «монарха», обычно имеющая целью лишь выразительное оттенение момента узнавания, превращена в вопрос жизни и смерти для героя. Это прямой результат конденсированности пушкинского письма в «Капитанской дочке», синхронизирующего различные элементы романа вальтер-скоттовского типа. Комбинаторная изобретательность Пушкина в этом эпизоде идет еще дальше и позволяет ему «втиснуть» в ту же мизансцену еще один фактор, ухудшающий положение героя, который вполне мог бы занимать отдельное место, – интриги Швабрина против Гринева. Ведь другое лицо, отвлекающее на себя внимание «монарха», – это в данном случае именно Швабрин, нашептывающий в ухо Пугачева клевету на своего соперника.
Следующим интересным решением в структуре нашего текста является заострение ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА, который, по сути дела, доведен здесь до своей крайней формы – «Обращения необратимого». Узнание не только задерживается, но и вообще оказывается несостоявшимся: Пугачев, не взглянув на пленника, отсылает его в «зону смерти» – под виселицу, где спасения, по-видимому, ждать уже неоткуда (следует полагать, что Пугачев уже не может узнать Гринева с такого расстояния). На шею героя накидывают петлю. Несмотря на это, в следующий момент узнавание все же происходит. Оно становится возможным благодаря раздвоению героя на две ипостаси: барина и слуги. Подоспевший Савельич бросается в ноги Пугачеву; последний, «тотчас узнав старого хрыча» (VIII, 331), приказывает освободить его господина. Подобное раздвоение, при котором слуга, а также животное (чаще всего собака) выступают как субститут, «продолжение» (extension) героя или его символико-метафорический образ, довольно употребительно в литератур83.
Манифестация мотива «Знакомый на троне» в рассмотренной нами пушкинской сцене осложнена тем, что факт узнания не сразу открывается герою и читателю и тем самым подвергается дополнительной ретардации, на этот раз в плане не самих событий, а авторского рассказа о них. Причина внезапного освобождения Гринева остается неразъясненной до следующей главы, где Савельич открывает глаза своему барину: «Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе?» (VIII, 329), а Пугачев объясняет Гриневу, что помиловал его, так как узнал его слугу. Таким образом, конструкция с ВНЕЗАПНЫМ ПОВОРОТОМ, столь хитроумно построенная, проясняется не в один прием, а по частям и с паузами, и эффект ее полностью проступает лишь ретроспективно. Читатель, конечно, мог обо всем догадаться и раньше, но это далеко не то же самое, что получить картину событий, хотя бы и достаточно ясных самих по себе, из авторского изложения со всей его выразительной стратегией. Это вторичное замедление и камуфлирование происшедшего можно интерпретировать по-разному, но одна его функция представляется почти несомненной: это смягчение, приглушение литературных и мелодраматических коннотаций «Знакомого на троне». Слишком открытое экспонирование этого достаточно театрального мотива, слишком явная и резкая смена гнева на милость и громогласное признание «монархом» заслуг героя в присутствии большой толпы (что охотно позволяет себе, например, Марк Твен) были бы неуместны в поэтике Пушкина с его установкой на реалистическое, сухое и – особенно в «Капитанской дочке» – принципиально антипатетичное письмо.
Сюжетные достижения Пушкина в только что рассмотренном эпизоде могут показаться читателю нашей статьи достаточно элементарными. Однако если мы согласимся с тем, что сюжетное измерение играет в повествовании и, в частности, в пушкинской прозе важную роль, то будет очевидно, что нельзя обойти молчанием и самые простые проявления авторского мастерства в этой сфере: все подобные находки, большие и малые, следует уметь диагностировать и описывать на специальном техническом языке. В следующем примере мы можем наблюдать значительно более богатую и утонченную конструкцию сюжетного плана, в описании которой понятие ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА также будет играть центральную роль.
В главе 4 «Арапа Петра Великого», на обеде у боярина Ржевского, идет разговор о петровских новшествах, в частности, об обязательных балах и ассамблеях на немецкий манер, которые подвергаются осуждению и насмешкам. Гостям показывают забавную пародию на ассамблеи, для чего хозяин вызывает шутиху – дуру Екимовну. Беседа прервана неожиданным приездом императора. Цель визита неизвестна, и появление монарха производит впечатление грома с ясного неба. Эта резкая перемена ситуации, эта внезапность и громоподобность явления Петра84 представляет собой центральный выразительный эффект, который Пушкин подготавливает почти с самого начала главы. Данный раздел статьи посвящен выявлению механизмов, с помощью которых событию придается этот характер исключительного потрясения, и оставляет в стороне более общие аспекты содержания романа (например, сопоставление России и Запада и др.). Впрочем, в конце раздела будет дана и некоторая тематическая интерпретация выявленных выразительных построений.
Эффект «грома с ясного неба», констатированный нами в качестве кульминации этого эпизода, едва ли возможен без участия конструкции ВНЕЗАПНЫЙ ПОВОРОТ. И в самом деле, она не только играет здесь стержневую роль, но и представлена в обоих своих вариантах, ментальном и каузальном, что явным образом призвано усиливать действие, производимое появлением Петра. Эти две разновидности конструкции вначале развертываются в виде двух параллельных линий, а затем сближаются и совмещаются, взрываясь в один и тот же момент.
1. Ментальный ВНЕЗАПНЫЙ ПОВОРОТ представлен в классически ясной форме в сюжетной линии, связанной с именем щеголя Корсакова, недавно вернувшегося из Парижа.
На последней ассамблее он поставил Ржевского и его дочь в неудобное положение, пригласив ее на танец «не по правилам», и должен был на следующий день приехать к боярину с извинениями. Разговор о Корсакове заходит за столом Гаврилы Афанасьевича в связи с темой модных заморских обычаев, насильственно навязываемых русскому боярству. Хозяин издевается над Корсаковым и приказывает дуре Екимовне изобразить недавний визит «заморской обезьяны», что она и исполняет к большому удовольствию гостей. Между тем во двор въезжают сани императора. Заметив их в окно, Ржевский полагает, что вновь приехал Корсаков, и велит слугам не пускать его: «Вы что зеваете, скоты? <…> бегите отказать ему; да чтоб и впредь…» (VIII, 22). В следующий момент правда выясняется, и потрясенный хозяин бросается встречать высокого гостя, а среди присутствующих начинается суматоха. Тут «в передней раздался громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости» (Там же).
Как во всяком ментальном повороте, первоначальное заблуждение мотивировано двусмысленностью наблюдаемых фактов. Обстоятельства появления Петра отчасти схожи с обстоятельствами недавнего приезда Корсакова. Не зная старинных русских обычаев, молодой щеголь въехал в санях непосредственно во двор боярина, вместо того чтобы остановиться у ворот и пройти по двору пешком. Видя сани, вновь въезжающие тем же манером, распаленный Ржевский принимает их за вторичный визит «заморской обезьяны» и реагирует соответственным образом. Однако боярин забыл, что, кроме невоспитанных молодых вертопрахов, есть еще одна категория лиц, позволяющих себе подобные вольности, – высокопоставленные и царственные особы. Раздражение против Корсакова и сосредоточенность на особе последнего отвлекают его мысли от этой другой возможности, что и обеспечивает нужный эффект ошибки и неожиданности.
Между тем в разговоре, предшествующем приезду царя, присутствуют все данные для правильной расшифровки фактов и даются отчетливые намеки на возможность появления Петра. Такого рода предвестия весьма обычны при ВНЕЗАПНОМ ПОВОРОТЕ. Это не только замечание хозяина дома «сказал бы словечко, да волк недалечко» (VIII, 21), наводящее на мысль о «волке в баснях», который появляется, когда о нем говорят, но также некоторые детали его рассказа о приезде Корсакова. Увидев въезжающие во двор сани, боярин в первый момент ошибся, как ошибется он и в сцене обеда: «Гляжу, катят ко мне прямо во двор; я думал, кого-то бог несет, уж не князя ли Александра Даниловича [Меншикова]? Не тут-то было: Ивана Евграфовича [Корсакова]! небось не мог остановиться у ворот» (VIII, 22) и т. п. Гипотетический Меншиков – бесспорное предвестие Петра, поскольку слуга и любимец традиционно служит субститутом своего господина и ближайшим звеном на пути к нему в разного рода ступенчатых сюжетных построениях. Последовательность, которую мы наблюдаем в рассказе боярина: «Меншиков (т. е. почти Петр)? – нет, Корсаков!» (обратим мимоходом внимание на логическую четкость, которую придают ей внутренние параллелизмы и оппозиции: имя и отчество Меншикова в винительном падеже с вопросительным знаком – имя и отчество Корсакова в той же форме с восклицательным знаком) обратна последовательности в разбираемой сцене: «Корсаков? – нет, Петр!», которая, таким образом, предваряется своим уменьшенным и зеркальным изображением. Эта зеркальная инверсия, естественно, маскирует намек и нейтрализует его «предупреждающую силу»: показывание чего-то в перевернутом виде, наизнанку, в обратном чтении и т. п. представляет собой довольно известный, хотя и в достаточной мере условный способ зашифровки, запутывания и заметания следов85. Наличие в рассказе Ржевского этой конструкции, основанной на ОТКАЗНОМ ДВИЖЕНИИ86, весьма важно и в плане психологических мотивировок. Фигура Меншикова возникла в сознании боярина лишь для того, чтобы тут же быть отодвинутой в сторону другим лицом – Корсаковым, после чего высокопоставленный вариант оказывается уже прочно вытесненным, а особа молодого щеголя, с такой силой (с помощью ОТКАЗНОГО ДВИЖЕНИЯ) вдвинутая в его поле зрения, приобретает приоритет, вполне объясняющий ошибку в сцене приезда Петра. Подобное недоразумение в силу привычки к какому-то определенному развитию событий – мотив, представленный, например, в античной басне о мальчике-пастухе, который много раз обманывал взрослых, крича «Волк!», и к которому никто не пришел на помощь, когда явился настоящий волк; или в драме А. де Мюссе «Лорензаччо», где герой приучает окружающих к шуму и крикам, чтобы они не обратили внимания на крики в момент замышленного им убийства.
Обратим внимание на дополнительный прием, призванный «гасить» первоначальные сигналы о появлении царских саней, делать их менее заметными. Первое указание на то, что во двор въехали сани, дается в речи самого Ржевского, а не автора или кого-либо из персонажей: « – Конечно, – заметил Гаврила Афанасьевич, – человек он [царский арап] степенный и порядочный, не чета ветрогону… Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская?» (VIII, 22) и т. п. Таким образом, ввод в повествование нового факта и неправильное его осмысление совмещены в едином, нераздельном, субъективном речевом акте, граница между этим начинающим проглядывать фактом и деформирующим действительность сознанием смазывается, отчего скачок к реальности, происходящий в следующий момент, оказывается более резким не только от неправильного осмысления наблюдаемых событий к правильному, но и от отраженного, субъективного и потому не вполне надежного их регистрирования к прямому, явному, объективизированному87.
2. Каузальный, или событийный, ВНЕЗАПНЫЙ ПОВОРОТ представлен линией дуры Екимовны, которая играет в организации главы едва ли не центральную роль. С момента своего выхода к гостям Екимовна ведет себя так, как подобает дуре, стоя за стулом хозяина и развлекая по его приказу компанию прибаутками и комическими ужимками. Автор придает языку дуры в этой части рассказа нарочито стилизованный и орнаментальный характер, в частности прошивая ее реплики рифмами: «Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру» (VIII, 20). Подобный стиль речи призван маркировать Екимовну в качестве дуры не в меньшей степени, чем ее шутовской наряд и грим: «<…> старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая» (Там же). Этим достигается наибольший контраст ее первой, «дурацкой» ипостаси со второй, «серьезной», вступающей в действие при приближении Петра. Увидев въезжающие во двор царские сани, шутиха отбрасывает искусственный потешный язык с его сказовой певучестью; мы вдруг слышим совсем иную речь, деловитую и повелительную. С этого момента перед нами новый человек: «Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкою холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости» (VIII, 23). Но вернемся к переломной точке рассказа: « – Старая борода, не бредишь ли? – прервала дура Екимовна. – Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал» (VIII, 22). Помимо уже отмеченного сюрприза – превращения дуры в умную, перемены шутовского тона на деловой – здесь налицо переброс в противоположность и по другому важному параметру: ругая боярина за нерасторопность, Екимовна переворачивает иерархические отношения между господином и слугой88.
Эта резкая перемена в поведении дуры Екимовны оказывается весьма сильным средством, подчеркивающим экстраординарность момента. Отметим прежде всего ее архетипический характер: здесь присутствуют по меньшей мере два мотива, знакомые нам по литературной типологии и традиционно маркирующие критические точки сюжета, крупные потрясения, радикальные сдвиги в структуре реальности, всякого рода «моменты истины». С одной стороны, это мотив «шута или актера, сбрасывающего маску» и открывающего свое подлинное лицо. Его, в свою очередь, можно рассматривать в рамках более широкого круга ситуаций, где идет речь о чудесных исцелениях, об обретении нормального облика и утраченных способностей: слепой прозревает, немой получает дар речи, хромой отбрасывает костыли, помешанный обретает разум, превращенному в урода или в животное возвращается благообразный человеческий облик и т. п. Как известно, часто такое торжество нормы наступает под действием божества или иной силы, способной изменять структуру мира.
Можно привести в качестве примера молодого Персеваля, который во время своего первого визита ко двору короля Артура заставляет рассмеяться молодую девицу, не смеявшуюся семь лет. Присутствующий шут так объясняет это чудо: «Эта девица, чтобы засмеяться, должна была увидеть совершенного рыцаря» (Кретьен де Труа, «Персеваль»). Немецкий поэт Вольфрам фон Эшенбах, переработавший этот сюжет, развивает данный мотив еще дальше: у него этот шут – немой, обретающий дар речи при появлении Парцифаля и смехе юной девицы (см. Труа 1970: 31; Эшенбах 1979: 83). Можно вспомнить также эпизод с «иностранцем» в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова (гл. 28), который чудесным образом обретает знание русского языка, столкнувшись со свитой Воланда.
С другой стороны, это мотив «инвертированных иерархических отношений», когда слуга внезапно отбрасывает этикет и обращается к хозяину как к равному, иногда в резком и повелительном тоне.
Хороший пример этого мы имеем в «Войне и мире», в известной сцене охоты (том II, часть 4, гл. 4). Ловчий Данило в крайне напряженный момент погони за волком замахивается арапником и нецензурно кричит на своего барина, графа Ростова, упустившего волка. При этом граф стоит «как наказанный», видимо, признавая право слуги на подобное обращение. Столь вопиющее нарушение норм оказывается возможным в атмосфере охоты, имеющей в мире Толстого исключительное значение: охота – момент высшего напряжения жизни, и на время ее «устанавливается стихийно иной жизненный строй, смещаются роли, сдвинута привычная мера во всем», как пишет С. Г. Бочаров в своей известной работе о «Войне и мире» (Бочаров 1971: 22).