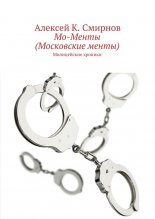Солдат великой войны Хелприн Марк

Из ящика стола Рафи достал талес и набросил на плечи. Раньше Алессандро видел молящегося еврея только на гравюрах. Зрелище поразило его не меньше, чем приближение монархистов.
— Мой отец — мясник, — ответил Рафи. — Он заодно с домохозяйками Венеции.
— Ты не собираешься сопротивляться? — спросил Алессандро.
Рафи открыл молитвенник, выпрямился в полный рост, поцеловал книгу. И в тот самый момент, когда забарабанили в дверь, начал молиться, раскачиваясь взад-вперед. Алессандро отступил за портьеру, которая служила дверью в стенной шкаф.
Выломав железную защелку, пятеро молодых парней ворвались в комнату. В мерцающем свете керосиновых ламп по бокам, бормочущий молитвы, возвышающийся над ними, Рафи напугал их больше, чем они — его, но они пришли с заранее намеченной целью и собирались, переборов страх, наброситься на него и избить по полусмерти.
— Ты Рафаэлло Фоа? — послышался вопрос, как будто положительный ответ на него мог служить оправданием их действий. Продолжая молиться, Рафи и не думал им отвечать.
Алессандро знал, что они начнут крушить вещи, прежде чем наброситься на человека. Сорвут с него талес и кипу, а уж когда он станет таким же, как они, перестанут бояться и накажут за то, что он нагнал на них страха.
Они стали разбрасывать книги и рвать их в клочья. Потом кто-то схватился за талес и сдернул его. Рафи продолжал не смотреть на них, даже когда они начали его бить. Они набирали полную грудь воздуха и лупили со всей силы. По его груди, рукам, голове.
Он стоял столбом. Повторяя одну и ту же фразу. Прижатый к столу, он не мог упасть. Его лицо заливала кровь, и когда его били, брызги крови летели на стены. Он били его по спине, почкам, ребрам, гениталиям. Пинали его ногами. А он все не падал.
— Еврейские банкиры управляют страной! — крикнул один. — Но мы положим этому конец!
Рафи продолжал бормотать, закрыв глаза, когда один из избивавших достал из-под пальто саблю в ножнах и начал тыкать в него, словно в холщовую грушу, свисающую с балки в зале для фехтования. Рафи развернулся, выплевывая кровь, и рухнул на стол между керосиновых ламп, не переставая бормотать.
И когда студент взялся за саблю обеими руками и начал медленно поднимать ее, Алессандро вышел из-за портьеры у него за спиной и рукояткой пистолета ударил по голове, рассекши кожу и свалив его на пол.
Держа револьвер обеими руками, Алессандро обошел стол. Когда взвел курок, щелчок эхом отразился от стен и потолка.
Он думал, что они уйдут, но один из студентов сунул руку под пальто и тоже достал револьвер. Алессандро не знал, что делать. За стенами гремел далекий гром, ветер завывал, ломясь в окна.
— Евреи объединились с…
— Заткнись! — рявкнул Алессандро и напрягся, делая вид, будто сейчас нажмет на спусковой крючок. — Проблема с евреями именно в том, что они ни с кем не объединяются, ясно?
Громыхнул гром. Алессандро и понятия не имел, что гром, приглушенный валящим снегом, ничем не отличается от артиллерийской канонады. Он по-прежнему держал монархистов на мушке, потому что ничего другого ему не оставалось, они попятились к двери и покинули комнату.
* * *
Молодые неопытные певцы и матерые, но с плохим голосом, часто попадали в Болонью, в театр с мощными потолочными балками и каменными стенами. Украшения фасада потрепали ветер и вода, так что дьяволы остались без зубов, горгульи без лиц, карнизы местами обрушились, но в Италии всегда хватало зданий, которые, кажется, вот-вот рухнут, и болонский театр благополучно дожил до отъезда Алессандро из города.
Трижды в неделю Россини и Верди силой и красотой затыкали рты студентам и заставляли их слушать музыку и не отрывая глаз следить за происходящим на сцене. Певцы Ла Скала полагали, что это естественное состояние человечества. Когда один певец говорил другому о предстоящем выступлении в Болонье, обычно следовал вопрос: «И на какое время ты рассчитываешь очистить небо?» Под этим подразумевалось, на сколько минут своей арии он сможет удержать зал от запуска бумажных голубей, которые в огромных количестве летали и сталкивались над оркестровой ямой. Они могли летать на десяти, а то и на двадцати уровнях, кругами, зигзагами, просто парили, целой сотней, а то и больше, в итоге планируя на музыкантов.
Все следили за траекторией собственного голубя или на фаворита. Но певцы видели не только голубей, но и почти тысячу голов, которые, точно на каком-то безумном теннисном матче, поворачивались в разные стороны, не только вправо-влево, но еще и постепенно опускаясь вниз. Певцам казалось, будто они выступают в клинике нервных болезней.
Порой один или даже несколько студентов, знавших слова и обладающих мощными голосами, вскакивали на стулья и соперничали с тем, кто пел на сцене. Не имело значения, хотели они поддержать певца или унизить. Результат от этого не менялся. Еще хуже было шуршание нескольких сотен газет, свидетельствующее об оскорбительном безразличии. Не раз и не два на сцену летели яйца и овощи, а то и ботинок, приземляющийся рядом с перепуганной обладательницей сопрано.
Но если молодой певец, собравшись с духом, продолжал петь, и пел хорошо, тысяча юношей, неуправляемых, как звери, и непокорных, как необъезженные лошади или накачанные кофеином быки в праздничный день, внезапно замирала. В зале нарастало напряжение, на тысяче лиц отражались печаль, страсть и желание, у некоторых блестели глаза, а у кого-то от чувств по щекам текли слезы, сверкающие в отсвете софитов. И когда ария заканчивалась, спустя несколько секунд полной тишины студенты устраивали бурю восторга, какой не знавал ни один из самых знаменитых оперных театров мира.
После живой увертюры, обусловленной тем, что театральные импресарио с давних пор знали, что молодежь можно утихомирить только охотничьими рогами, занавес поднялся, смяв несколько бумажных голубей. Красивейший задник словно светился. Синева Джотто и тени Караваджо объединились в этом тихом лесу, отражая не время суток, а состояние души. Увертюра в сочетании с мечтательной синевой, темной зеленью облаков, изображающих кроны деревьев, и движущимися тенями, угомонила студентов, которые затихли, словно мертвые.
Но едва группа полнотелых «охотников» вышла из-за деревьев и начала петь, Алессандро заметил, что с самого верхнего яруса порхнули бумажные голуби. В оркестровой яме, пренебрегая правилами противопожарной безопасности, двое студентов поставили мангал и жарили на открытом огне кусочки мяса. Алессандро облокотился на обитый бархатом барьер второго яруса и улыбнулся. Он думал о девушке, которую встретил в парке Виллы Медичи. О той молоденькой француженке, чьего имени он не знал и которую окружали подруги-хранительницы, встреча больше напоминала сон, но ему казалось, что он знает ее всю жизнь. Когда их взгляды встретились, он почувствовал, как его с невероятной силой повлекло к ней, словно пятьдесят лет сжались в две секунды. Он не влюбился в нее без памяти, а просто полюбил, и хотя сначала ему казалось, что он скоро ее забудет, от одной мысли об этом его любовь только росла, заставляя вспомнить, что самые сильные бураны начинаются с нескольких плавно опускающихся на землю снежинок.
Ее отсутствие Алессандро компенсировало множество вещей, которые, благодаря одной своей красоте, становились ее союзниками: синева декораций, залитых светом, грациозность кошки, повернувшей маленькую мордочку в ответ на движение человека, разожженная печь в глубине кузницы или пекарни, которую он заметил, проходя мимо, пение церковного хора, зачаровывающее прихожан, снег, сдуваемый с горной вершины голубым ветром, идеально бесхитростная улыбка ребенка. На этих наблюдениях, одаривающих его красотой во всех ее проявлениях, он и начал выстраивать свои эстетические принципы. И хотя в систему они сформировались не сразу и особого порядка в них не наблюдалось, он верил, что со временем все сложится в единую картину.
Закончив петь, охотники разочарованно ушли за кулисы. Потом последовало несколько сцен, которые не захватили зрителей, и они ерзали в креслах, напоминая леопардов, нервно кружащих по клетке в зоопарке.
Алессандро наклонился вперед, его взгляд впился в подсвеченный задник. Когда воздух колебал пламя свечей софитов, по лесу пробегали тени.
— Я уже минуту хлопаю тебя по плечу, — услышал он голос Рафи.
Алессандро повернулся, сощурился, вглядываясь в темноту.
— До тебя трудно достучаться, когда ты слушаешь музыку.
— Ты уже поправился? — спросил Алессандро.
— Да. Даже играл в теннис. Можем мы здесь поговорить? — спросил Рафи, словно находился в обычном театре.
— Мы можем устроить дуэль, и никто не заметит, — ответил Алессандро, — но давай лучше выйдем.
Они присели на белую мраморную ступень длинной лестницы, с которой открывался вид на окружающую Болонью сельскую местность, и Алессандро спросил:
— Почему ты не стал сопротивляться?
Рафи уже был на последнем курсе университета и умел развернуть диалог в любое русло.
— Я сопротивлялся. Я боролся изо всех сил, и на мне раны от этой борьбы.
— У них ран нет.
— Это их проблемы.
— Странный способ борьбы.
— Это связано с моими внутренними исканиями.
— Вероятно, связано, — кивнул Алессандро, — вот только не окажись я рядом с револьвером, который украл, разбив витрину, твои искания в этом мире могли и оборваться.
— Это верно, — с гневом подтвердил Рафи.
— Почему же ты не научился давать сдачи?
— Как тебе, наверное, известно, улицы в Венеции — это каналы. Драки там очень короткие, потому что через несколько секунд один из драчунов обычно бултыхается в воде. В юности меня несколько раз сбрасывали в воду с мостов и набережных.
— Послушай, я могу тебе показать, как надо вести себя в рукопашном бою, — заявил Алессандро, который не участвовал ни в одной уличной драке. Он оглядел Рафи. — Ты высокий, но, похоже, не очень сильный. Габариты сами по себе не важны. Тебе надо накачивать мышцы. Чего улыбаешься?
— Видишь ли, силы мне как раз хватает.
— Ох, что-то сомневаюсь, — Алессандро покачал головой.
— Шесть месяцев в году я изучаю юриспруденцию, но другие шесть работаю у отца.
— Нарезая котлеты, Геркулесом не станешь.
— У моего отца нет магазина со стеклянной витриной и прилавком. Он оптовый торговец. Его склад размером с Арсенал, и у него сто пятьдесят работников. По большей части, рубщиков. Поскольку рубка мяса требует навыка, а я учусь на адвоката, никто и не собирался показывать мне, как разрубать туши, поэтому я только таскал и развешивал мясо.
— В каком виде?
— Четвертушками.
— И сколько весит одна четвертушка?
— Сто килограмм и больше. Ты надеваешь синюю куртку с капюшоном. Прежде чем взяться за мясо, накидываешь капюшон, чтобы не испачкать кровью волосы. Снимаешь четвертушку с крюка, взваливаешь на спину и несешь. Если она в трюме океанского корабля, до склада идти минут десять. Потом поднимаешь четвертушку на плечо, крепко держишь и вешаешь на крюк. Мясо могут также складировать на земле. Тогда ты поднимаешь четвертушку и взваливаешь на плечи.
— Тогда почему же ты не схватил этих монархистов и не сбросил их с лестницы?
— Я бы никогда такого не сделал.
— Позволь мне показать тебе, что к чему.
— Хорошо, — кивнул Рафи, — покажи.
— В выходные, — пообещал Алессандро, — если будет хорошая погода.
Они пожали друг другу руки.
* * *
Поскольку Алессандро понятия не имел, что показывать, следующие дни он провел в размышлениях, как же все-таки поднять боевой дух Рафи Фоа, и в воскресное утро оба стояли у железнодорожных путей, по которым в лучах зимнего солнца на них надвигался поезд. Чтобы машинисты их не увидели, они прятались в кустах.
— И что мы будем делать? — спросил Рафи.
— Сначала мы запрыгнем на поезд, — ответил Алессандро. — Заберемся на крышу и побежим к служебному вагону.
— Зачем?
— Чтобы люди из служебного вагона бросились за нами в погоню по крышам вагонов движущегося поезда.
— А если нас поймают?
— Не поймают: в этом и есть наша цель.
— Как мы сможем убежать от них, оставаясь в движущемся поезде?
— В десяти километрах железнодорожный мост через реку. Представляешь, как они удивятся, когда мы спрыгнем?
— Представляю, как удивлюсь я, когда мы спрыгнем. Сейчас январь.
— Просто повторяй за мной.
— А раньше ты такое делал? — поинтересовался Рафи, предчувствуя недоброе. Паровоз, грохоча, пронесся мимо, отчего их голоса завибрировали.
— Разумеется, — ответил Алессандро.
Они побежали вдоль поезда и поравнялись с вагоном для перевозки скота.
— Забирайся, как по лестнице, — крикнул Алессандро, перекрывая шум колес. Они лезли, цепляясь за доски, пока не добрались до скользкой закругленной крыши, где ухватиться было вообще не за что.
— А теперь как? — прокричал Рафи.
— Двигаемся к углу, — импровизируя на ходу, приказал Алессандро. Они двинулись к углу. — Цепляйся за край вагона и подтягивайся наверх, опираясь ногами на перекладину.
— Как мне поставить туда ногу? — прокричал Рафи, раскачиваясь в воздухе. — Перекладина слишком мала, да и высоко очень.
— Ничего, хватит с тебя. Подтягивай ноги, — возразил Алессандро. Неровный край металлической крыши резал ему руки. Он напрягался изо всех сил, чтобы не упасть в зазор между вагонами. Рафи следовал за ним.
Шум оглушал: гремели пустые вагоны, проскакивая стыки рельсов, сталь колес скрипела по стали рельсов, клацали сцепки вагонов.
Дым и копоть летели над поездом. Половину времени Алессандро и Рафи приходилось не открывать глаз, вторую половину глаза слезились. Они едва могли дышать. Провались они между вагонами, их бы порезало и размочалило в куски.
Алессандро посмотрел на Рафи, лицо которого застыло от напряжения.
— Забирайся наверх.
— Мне не за что ухватиться, — в отчаянии ответил Рафи. — Слишком высоко. Я упаду.
Алессандро не знал, сумеет ли он сам забраться на крышу. Ладони и пальцы стали скользкими от пота и крови.
— Сможешь. Хватайся руками за крышу. Вот так. — И он начал подтягиваться.
Руки скользили, но он цеплялся за металл, как кошка, и в конце концов забрался наверх. Потом ухватил Рафи за запястье и помог ему проделать то же самое. Вскоре они лежали лицом вниз, тяжело дыша, потные, грязные, руки в крови. Дым то и дело накрывал их черным, вызывающим тошноту облаком.
— И часто ты такое проделываешь? — спросил Рафи.
— Когда выпадает возможность, — ответил Алессандро, сплевывая золу и грязь.
— Ты чокнутый! — прокричал Рафи.
— Знаю.
— А как же тоннели?
— Тоннелей надо остерегаться, — ответил Алессандро, мысленно поблагодарив его за напоминание. — Завидев тоннель, сразу спускаешься между вагонами. Иначе тебя скинет с крыши. Но в здешних краях тоннелей не так и много. — Он встал. Ветер, дым, шатание товарного вагона из стороны в сторону — все пыталось сбросить его вниз. Не вышло.
Рафи встал, когда Алессандро изготовился перепрыгнуть на крышу вагона, который ехал следом.
— Что произойдет, если ты упадешь? — прокричал Рафи.
— Не падай! — прокричал в ответ Алессандро, а в следующий миг без малейшего колебания оттолкнулся и взлетел в воздух. Приземлился на правую ногу и даже не оглянулся, зная, что Рафи последует за ним. Тут объяснения не годились: он мог лишь наглядно показать, как и что делать.
Когда он набрал скорость, перепрыгивать с одного вагона на другой стало гораздо легче. Его охватила радость, которую он запомнил до конца дней. Когда позади остались пять или десять вагонов, страх совершенно его покинул, и он бежал навстречу ветру и дыму. Горячая копоть обжигала шею. Алессандро слышал шаги Рафи за спиной.
Они пробежали сорок вагонов, перепрыгивая с одного на другой, раскидывая руки словно крылья, пытающиеся поймать воздушный поток. Чем дольше длился полет, тем счастливее они чувствовали себя, и вот уже они застучали каблуками по крыше служебного вагона.
Трое мужчин выскочили на открытую площадку в хвосте служебного вагона. Один с бутылкой вина, второй — с сэндвичем. Когда увидели на крыше двух парней с безумными лицами и в окровавленной одежде, принялись кричать и жестикулировать, а тот, что держал в руке бутылку, размахивал ею как револьвером.
— Этот поезд идет в Рим? — прокричал Алессандро, сложив ладони рупором. — Где вагон-ресторан? Можно привести с собой пуделя, если я вставлю пробку ему в зад?
Алессандро и Рафи расхохотались, железнодорожник швырнул в них бутылкой. Промахнулся, она разбилась, ударившись о крышу. Второй со всей силы швырнул сэндвич, но его разметал ветер, и ломоть ветчины шмякнулся у ног Рафи. И когда Рафи попытался объяснить жестами, что он еврей и не ест свинины (начал с показа, что он обрезан), Алессандро схватил его за плечо.
— Мост! — крикнул он.
Мост отделяло от воды расстояние в два раза больше высоты вагона, течение было быстрое. У железнодорожников отвисли челюсти, когда сначала Алессандро, а за ним и Рафи прыгнули с крыши, долго-долго летели по воздуху и как камни ушли под воду.
Их словно ударило током от погружения в холодную воду. Она остановила кровотечение и смыла с них кровь, пот и грязь. Когда они вынырнули на поверхность, ледяная вода заливала глаза, дыхание перехватило, но течение вынесло их к повороту, где они подплыли к песчаному пляжу и вылезли на берег.
Пустились бежать по полям, чтобы не умереть от холода, их переполняло ощущение, что для них нет ничего невозможного.
— Большинство людей такого не делают, — изрек Алессандро, — но именно это и спасает. Проверяешь, чего ты стоишь.
— Такое необходимо только для войны.
— Я практически уверен, что воевать нам не придется. Маловероятно, что начнется война в Европе, а если такое и случится, еще менее вероятно участие Италии в этой войне, но я хочу быть готовым ко всему. И эта проверка не только для войны: для всего.
* * *
Однажды вечером, вернувшись домой, Алессандро обнаружил письмо на великолепной бумаге, написанное уверенным и изящным почерком. Он снял мокрое от дождя пальто, зажег лампы и камин. Оно из тех писем, подумал он, после которых жизнь делает неожиданный поворот. Когда в комнате потеплело, он вскрыл конверт.
«Высокочтимейший господин, — начиналось письмо. — Моя жизнь человека в этом мире тигров катится к завершению. Семьдесят мучительных лет меня бросало из стороны в сторону в попытках заработать на жизнь, содержать семью и продолжать двигаться по избранному пути.
В молодости я верил, что благодаря терпению стану кем-то вроде короля. Не сомневался, что буду почивать в спальне метров пятьдесят в ширину, где потолок будет на высоте пятиэтажного дома, что поведу за собой армии, что судьба забросит меня в коридоры власти, где жизнь так волнующа и прекрасна.
Но удача обходила меня стороной. Самый высокий пост из всех, какой мне удалось занять, — главный писец в адвокатской конторе Вашего отца. Другие главные писцы относятся ко мне с почтением, но это совсем не то, чего я ожидал, учитывая, что мне они не подчиняются.
На этой неделе я испытал жестокий удар. Во вторник Ваш отец принес в контору машинку, которая, насколько я понимаю, называется „пишущей“. В тот же день Антонио, молодой человек с небрежным корявым почерком, предал свою профессию и принялся стучать на этом чудище, точно косоглазая курица, печатая контракты первостепенной важности. Он может напечатать две страницы за час! Такая удивительная скорость мне не по плечу.
Мало того, что на этой — а может, и еще на одной — машинке можно печатать самые важные документы, так дьявол, который привез их в контору, появился в четверг с пачкой грязной черной бумаги, которая, вставленная между листами, позволяет получить до пяти копий исходного документа.
Хотя результат отвратительный, все идет гораздо быстрее, и работы у нас теперь только для трех писцов и трех машинок. Ваш отец собирается оставить лишь одного старого писца, чтобы вести протоколы, писать письма и сопровождать его в суд. Моя рука уже не так быстра для подобной работы. Как Вы знаете, она нелегка.
Мне придется выйти на пенсию, но я не могу себе этого позволить. Все свои деньги я потратил на сок.
Поскольку к пишущим машинкам у Вас отношение такое же, как у меня, умоляю о содействии. Помогите мне предпринять последнюю попытку.
Я должен стать профессором теологии и астрономии в университете, где Вы сами учитесь. Я долгие годы изучал и формулировал идеи и теории, которые откроют загадку этой тягостной жизни. Я не прошу много денег, только компенсацию расходов на сок.
Вы должны устроить мне эту должность. Если она уже занята, я готов помогать тому, кто ее занимает, в выполнении его обязанностей, если необходимо, то и бесплатно, потому что скоро я начну получать небольшую пенсию. Собственно, если необходимо, я готов внести сумму, необходимую на содержание профессорской должности, при условии ее получения.
Я приеду в середине следующей недели, чтобы предпринять последнюю попытку. С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш — Орфео Кватта».
На следующий день, когда Алессандро вернулся с последней лекции, Орфео уже ждал у дверей.
— А это что? — спросил Алессандро, указав на огромную круглую стянутую ремнями сумку, сшитую из настоящих шкур.
— Это мой чемодан, — ответил Орфео с таким видом, будто Алессандро сморозил глупость.
— Но… но ведь тут шерсть. Никогда не видел чемодана с шерстью на боках.
— Недубленые шкуры самые крепкие, — объяснил Орфео. — Такими чемоданами пользуются американцы, но они оставляют головы и хвосты.
— А чья это шкура?
— Коровья.
Алессандро пригласил Орфео остаться у него в надежде, что сумеет отговорить его от «последней попытки» и отправить в Рим с письмом к отцу, в котором намеревался, воззвав к человеколюбию, упросить взять старого писца на прежнее место.
Но Орфео на уговоры не поддавался.
— Орфео, — прямо заявил Алессандро, когда они уселись у горящего камина, — ничто в мире не заставит университет дать тебе должность профессора или даже позволить просто ему помогать. Ни на день, ни на минуту, ни на секунду. Если ты поедешь обратно в Рим с письмом, которое я напишу, твоя жизнь вернется в исходное состояние.
— К Адаму и Еве.
— Можно и так сказать.
— Висячие сады Вавилона.
— Я не знаю, как скажешь, Орфео.
— Нет, — с самодовольной улыбкой отказался Орфео. — Если там услышат про благословенный сок, который я открыл во всех купелях, меня точно пригласят на кафедру.
— Не думаю.
— Нет, пригласят. Уверен, что пригласят. Все теоретические рассуждения здесь. — Он постучал пальцем по виску. — Гравитация, время, цель, свободная воля, что ни возьми. Боль всего мира исследована.
— Ладно, хорошо. Я отведу вас к человеку, который решает такие вопросы, и вы все расскажете ему сами.
— Нет, — покачал головой Орфео. — Так ничего не выйдет. — Алессандро молчал. — У меня нет никаких дипломов. Меня никто не знает. Мне потребуются долгие годы, чтобы стать профессором.
— Именно про это я и говорил.
— И эти люди могут не знать ни о неотступной кричащей боли вселенной, ни о благодатном соке.
— Уверяю вас, даже если и знают, ни за что не подадут вида.
— Мы должны их перехитрить. Открой мой чемодан.
Алессандро осторожно развязал ремни волосатой бочки, которую сам занес по лестнице в комнату, и вытащил удивительную академическую мантию и шляпу, каких ему еще не доводилось видеть. Отделанную пурпурными лентами и мехом. Розочка из рыжего лисьего меха украшала грудь, петля золоченой цепи — одно плечо. Шляпа напоминала боевой корабль четырнадцатого столетия, который реинкарнировался в пурпурную подушку.
— Что это? — изумился Алессандро.
— Мантия президента Университета Тронхейма в Норвегии. Никто о нем ничего не слышал, к тому же он умер.
— Ты ограбил могилу?
— Все знают, что муж моей сестры — портной в Гамбурге. Много лет назад, когда ректор Тронхеймского университета приезжал в город, он отдал мантию моему брату, чтобы тот расставил ее. Ему предстояло произнести речь, а он располнел. Наверно, слишком налегал на норвежские оладьи, которые называются jopkeys. И неожиданно умер, а его жена сказала моему зятю, что мантию он может оставить себе. Зная о моих честолюбивых мечтах, зять прислал ее мне.
— И как вы собираетесь ее использовать?
— Разве непонятно? Ректор университета Тронхейма, проездом в Болонье, решил выступить с важной лекцией.
— Но вы же не знаете норвежского языка!
— Никто не знает норвежского. К тому же я говорю на чистейшем итальянском, так что никаких проблем нет.
— А если на лекцию придет норвежец?
— Ему я скажу, что я — венгр, который едет в Норвегию, чтобы занять пост ректора, и если он хочет со мной поговорить, пусть выбирает любой из трех языков: венгерский, латынь и итальянский. Как думаешь, какой он выберет? Ха!
— Надеюсь, вы придумали имя, которое может быть похоже и на норвежское, и на венгерское. Если такое вообще возможно.
— Орфлас Торвос, — без запинки отбарабанил Орфео.
Взгляд Алессандро лихорадочно заметался: он искал выход из тупика, в который его загнал Орфео.
— Все, что от вас требуется, — продолжал тот, — так это выяснить, когда пустует лучшая лекционная аудитория, и помочь мне расклеить афиши.
— Какие афиши?
Офрео опять запустил руку в волосатую бочку.
— Эти. — Он достал пачку прекрасно отпечатанных афиш, извещающих о его лекции: «Астрономия, теология и благословенный сок, который объединяет вселенную». Пустые места, оставленные для места, даты и времени, ожидали, когда он заполнит их своим изумительным почерком. К своей последней попытке Орфео подготовился основательно.
В один из последних январских дней, когда газовые канделябры освещали похожий на пещеру зал театра «Барбадосса», а прилетевший из Швейцарии холодный ветер морозил итальянцев в их постелях, Орфео сделал решительный шаг. Как часто случается в судьбоносные моменты, человек, который ставит на карту все — в данном случае Орфлас Торвос, — выглядел спокойным и собранным.
* * *
Этот удивительный фальсификатор в великолепной мантии и пурпурном головном уборе вышагивал взад-вперед по высокой сцене. Ему хотелось, чтобы на его лице читались скука, раздражение и самодовольство, свойственные лекторам-академикам, достаточно самоуверенным и жестоким, чтобы стараться унизить сразу несколько сотен человек.
Несколько секунд Орфео смотрел на свои карманные часы. Потом закрыл их, подождал, и когда последний из тысячи или около того слушателей, которые пришли на лекцию, уселся в дальнем ряду старинного зала с газовым освещением, откашлялся и поднялся на трибуну.
Орфео оглядел огромную пещеру театра «Барбаросса» и чуть не подался назад от страха и вдруг подступившей тоски. Вид тысячи человек, уставившихся на него, как дети, которые хотят, чтобы их взяли на руки, его напугал. Тоску навеяли воспоминания о родителях: они всю жизнь провели перед зрителями в свете факелов или софитов. Умерли очень давно, и их оставили где-то у дороги в вырытых наспех могилах. Деревянные таблички, отмечающие место, где они упокоились, четырехлетний Орфео увидел из одного из цирковых фургонов, караван которых направлялся туда, где должно было пройти следующее представление.
Орфео не исполнилось и десяти, когда директор цирка, усевшись под яблоней, подозвал его и сказал:
— Орфео, придется тебе нас покинуть. Ты недостаточно уродлив и становишься уж слишком высоким.
— Где похоронены мои родители? — спросил он.
— Не помню. Кажется, где-то в Румынии.
— Где?
— Где-то у дороги.
— Это я знаю. Но где именно?
Директор цирка покачал головой.
— Достаточно далеко от Черного моря, иначе я бы вспомнил.
— Спасибо.
Следующие десять лет он провел с цыганами, торговцами живым товаром, которые использовали его как писца. Когда он уже мог жениться, они оставили его в Триесте, потому что не считали своим. Оттуда он добрался до Рима, где полвека проработал писцом: его взяли в первую же расположенную у вокзала адвокатскую контору, куда он обратился.
Теперь его освещали софиты и факелы, и это казалось справедливым, потому что все в этом мире движется по кругу, а круг означает, что ты должен вернуться в то самое место, где разбилось твое сердце. Орфео всегда верил, что зарабатывал право на возвращение каждой тщательно выписанной буквой, каждой страницей без клякс. И теперь выполнял возложенную на него миссию.
— Мне недостает моего дома в Тронхейме, — начал он удивительно сильным, сочным, вызывающим доверие басом. — Недостает арктических ветров, сдувающих сосульки в пещерах, недостает грохота, с которым они разбиваются о каменный пол, напоминая бомбу, взорвавшуюся в стеклянном городе.
Зрители замерли, ловя каждое слово. Они не знали, что его душа, покуда он зачаровывает их своим сочным басом, раскачивается под цирковую музыку.
— Вы ничего не знаете о соке, — продолжал он. — Вы ничего не знаете о благословенном соке, самом благодатном соке, заполняющим белую, как кость, долину луны.
Его слушатели сидели, чуть наклонившись вперед, их брови сходились у переносицы, они пытались вникнуть в суть того, что он говорит.
— Вы просто выскочки, бабуины. Вы похожи на обезьян на Гибралтарской скале.
Их сердца колотились, они чувствовали, как кровь пульсирует в висках, напрягались всем телом. Он же продолжал, все более расслабляясь, у них же так никогда не получалось.
— Всю свою жизнь я страдал от своего изъяна, в то время как вы сидели на уютных кухнях ваших родителей, набивая забальони[29] свои великолепные тела… Девушки, загорелые и зеленоглазые, с толстыми косами, падавшими на их сильные спины… юноши, идиоты с гранитными челюстями, вдвое выше меня, опьяненные своей красотой, играли в теннис, ели и наслаждались собственной наготой с этими прекрасными, идеально сложенными девушками. Даже до того, как возникло это желание, я знал, что оно будет корявым и узловатым, черным и жестким, деревом, которое никогда не принесет плодов, рыбой, которая никогда не поплывет, кошкой, которая никогда не мяукнет. Вся моя жизнь — горечь и сожаление, горечь и сожаление. И однако, — он на мгновение закрыл глаза, — я мог представить себе нежность и сладость любви.
Движением, достойным классического актера, он подпер голову правой рукой, и все в театре «Барбаросса» услышали его дыхание. Он посмотрел наверх и вновь заговорил — ровно и даже как-то монотонно.
— Замороженный благословенный сок, восхитительный благодатный сок разморозится, и мир охватит огонь. Если говорить о ступенях размораживания, то первая — остановка всего движения на самом глубинном уровне. Всеблагой Господь смотрит на белизну полюсов. На второй ступени медленно движущийся сок падает, как лава с внешнего уровня, и так далее и так далее, пока благословенный сок десятой ступени, физически неотличимый от того, что называется… — тут он умолк, словно от боли, — светильным газом… это истинный сок, самый благодатный сок, составляющий главную его часть. Можно прыгнуть на него, можно спрыгнуть с него. Это похоже на прыжки на птичьем перышке или на танец надутых животных на дне пересохшего ручья. Возьмите, к примеру, трон, который стоит в роще. Кислород из ослепительно-белой долины молчаливой луны переворачивает все с ног на голову. Ты закрываешь глаза. Слушаешь цикад в ночи. Твоя мать гладит тебя по голове, а фургон катится и катится. И неважно, что ростом она — всего полметра. Она любит тебя. Любовь матери и ребенка — этого достаточно даже для недомерков, чей рост всего полметра, потому что дети этого не знают. Они любят, и они любимы. Тогда в чем трагедия? Трагедия в следующем, но что вы об этом знаете, толпа невежественных сопляков? Еще до того, как родились ваши отцы, моя рука направляла потоки благословенного сока через белые океаны пергамента, которые — будь у моих хозяев воображение и смелость, — могли бы изменить мир, как будто моя рука держала сотни королей. Когда реки белого океана проходили через мою ручку, я записывал противоположный образ благодатного сока в формах, от которых замирало сердце. Мы располагали нужными печатями, или я мог их достать. Приказы, которые я писал, собранные вместе, обладали силой, способной двинуть горы. Моя воля пела правильную песню, но сок был черным, как кровь. Я начал изучать свойства противоположностей, чтобы, разобравшись в них, выделить благодатные и направить их по пергаменту. После многих лет я последовательно выделил десять ступеней божественного благословенного сока и смешивал их во всех мыслимых пропорциях. Я стоял на пороге открытия, которое позволило бы трансформировать ступени, чтобы вернуть сок в исходное состояние, вылить на пергамент и окрасить его черным, то есть превратить благодатный сок из черного в белый, а потом обратно в черный. Мои приказы какое-то время светились бы белым, и их сияние изменило бы мир. Но отец этого юноши, — прогремел он, хотя (за что Алессандро остался вечно ему благодарен) и не указав ни на кого конкретно, — в самую последнюю секунду струсил и отнял у меня мое господство над соком. Уничтожил систему, которую я тщательно выстраивал долгие годы, чтобы подчинить сок. Знаете, что он сделал? Я расскажу вам, что он сделал!
Орфео сошел с трибуны, чтобы грозно оглядеть передние ряды. Все затаили дыхание.
— Он купил машинки для письма, так называемые пишущие машинки, более шумные, чем спусковой бачок в туалете. И выглядят отвратительно, и пишут разным людям письма, которые не отличишь друг от друга. Совершенно одинаковые, мертвые. Машины лишены благородства. Они не могут вывести завитушку, не могут изменить толщину линии, не могут помучить читателя красивым, но неразборчивым почерком. Человек, владеющий пером, может создавать реки, бегущие к морю, реки, дикие и бурные, как те, что мчатся по ущельям в Альпах, переменчивые, как Изарко, широкие и спокойные, как Тибр в Остии, глубокие, как По при впадении в Адриатику. А так называемая пишущая машинка? Она противостоит святому благословенному соку, который все связывает между собой. Это палач. Механическая и быстрая, мертвая, как сталь, как орудия, выстреливающие по сотне пуль зараз, она убила мою жизнь, сломала прекрасные линии, набросилась на само время и искалечила его. Старый мир мертв, теперь, как известно, машинки снабжают мотором, и придется сидеть на резиновом стуле или надевать резиновый костюм, чтобы не погибнуть от удара электрического тока. Руки закрепят над клавишами, и ты будешь просто сидеть на резиновом стуле под электрическим светом, который режет глаза, и в жизни ничего больше не останется. Вы что, не понимаете? Совсем не понимаете?
Он закончил. В полной тишине прошел по центральному проходу. Ему вслед оборачивались, но никто не встал и не последовал за ним. Когда же он покинул зал театра «Барбаросса», послышался гигантский общий вздох облегчения, но ни один человек не произнес ни слова, пока слушатели выходили на холодный ночной воздух. Несколько выпускников университета Тронхейма растворились среди узких улочек, с тревогой гадая, что принесет завтрашний день.
Вернувшись домой, Алессандро не обнаружил ни Орфео, ни его круглого чемодана. Он бросился на вокзал и успел к отходу последнего поезда на Рим. Заметался по платформе в поисках Орфео, но нашел его не сразу, потому что Орфео сидел в туалете, боясь спускать воду, пока поезд стоит у платформы. Наконец, он сдался и прошел в свое купе, где Алессандро и увидел, как он старается закинуть круглый чемодан на багажную полку.
Алессандро остановился у купе, пытаясь отдышаться. Орфео открыл дверь, чтобы они могли поговорить.
— И что вы теперь намерены делать? — спросил Алессандро.
— Вернусь в Рим и умру, — ответил старый писец.
— Я поговорю с отцом. Постараюсь убедить его избавиться от печатных машинок или, по крайней мере, предоставить работу вам, пока вы сами не надумаете уйти. Вы будете писать контракты, как и прежде, словно ничего не изменилось.
— Бессмысленно, — ответил Орфео. — Я просто обманывал себя. Этих машинок как собак нерезаных. Теперь их используют везде. Они появились десять лет назад, а я просто не хотел этого признавать. Когда в контору приносили рекламные проспекты, рассказывающие, что могут делать эти машинки, я их выбрасывал. — Он покачал головой. — Все кончено.
— Я напишу отцу.
Поезд тронулся и начал набирать ход, Алессандро двинулся рядом.
Орфео опять покачал головой.
— Спасибо, не надо. Все кончено.