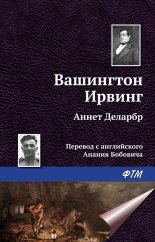Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

К нам, шатаясь, подошел Меликян. Тяжело дыша и глядя на мухинские мешки голодными страдающими глазами.
– Отдай, – сказал он с усилием.
– Трое на одного? – по-детски высоким голосом выкрикнул Мухин. – Это честно? Ну и хер с вами. Берите, давитесь. Мало нам было лейтенантика, теперь этот туда же.
– Сдай оружие! – рявкнул я, угрожающе поведя автоматом.
Сеит, не дожидаясь решения бытовика, выдернул у Мухина винтовку из рук и быстро отошел с ней в сторону. Меликян устало опустился на траву. Мухин с размаху тоже уселся на землю – негодующе потрясая ладонями и что-то неслышно шепча.
Я поднял мешки, отнес их в хату и, пройдя через темные сени, положил на деревянный стол, стоявший посреди тесной горницы.
– Ничего больше не пропало?
Хозяйка поднялась с приставленного к стене сундука. Испуг ее начинал проходить. Ей стало понятно – мы не из тех, кто обижает беззащитное гражданское население. Высыпав содержание мешков на столешницу, она подтвердила, без особой охоты:
– Ничего.
Я присел на лавку, стоявшую у стола. Из угла, который раньше называли «красным», на меня смотрел с иконы святой, быть может Никола Угодник.
– Простите нас.
– Ага.
Говорить со мной бабенка расположена не была. Но я продолжал оправдываться.
– Голодные мы, из плена. Севастопольцы. Простите.
Она не ответила. Я поднялся и пошел к выходу, ожидая, что сейчас она сама хоть что-нибудь мне да предложит. Но вместо этого услышал:
– Много вас тут шляется защитничков.
Меня передернуло. Вот оно как всё просто. Осмелела, стало быть, увидела, что я не Мухин и дурного ей не сделаю. Сразу же вспомнилось то проклятое утро, та тетка и дед Савелий. И Марина Волошина. В воронке, с поджатыми ногами, в истоптанных до дыр сапогах из брезента.
Я резко обернулся.
– Слушай, ты! Мы тебе ведь всё вернули, до последней крошки. Человека своего разоружили. А ты… Тварь.
Я подошел к столу, вытащил немецкий ножик и отрезал половину от хлеба. Взял шесть яиц, четыре головки лука, отсыпал соли в пустой коробок из-под спичек. Скинул в один из мешков. Тетка вскочила, засуетилась.
– Нет, я шо, я только вот, пожалуйста… Мы же шо же, без понятия?
Глаза ее словно прилипли к стволу моего автомата. Я не стал его отводить, пусть он глядит, куда хочет, – на тетку так на тетку. Отходя от стола, случайно увидел свое отражение в зеркальце, вделанном в стену рядом с выкрашенным зеленой краской умывальником, – и не узнал себя в бородатом пожилом человеке, удивленно пялившемся оттуда глубоко запавшими и покрасневшими глазами.
* * *
Половину конфискованного у несознательной тетки я придвинул к Меликяну. Прочее поровну разделил между собою, Сеитом и Мухиным. Видя смущение Вардана, коротко распорядился:
– Ешь. Иначе хана.
Он виновато на нас поглядел и молча сунул в рот первый хлебный кусочек, аккуратно его отщипнув от большого куска. Я ножом проделал дырочку в яичной скорлупе, взял на палец немного соли, смазал ею отверстие и, откусив немного хлеба, стал высасывать желток. Точно так же поступил Сеит. Мухин сидел с гордым видом и к принесенной еде не притрагивался. Я сказал:
– Лопай, разбойник с большой дороги.
Поколебавшись для вида, он посыпал солью луковицу, медленно съел ее с хлебом, а потом принялся за яйцо. Закончив трапезу и подобрев, попросил:
– Винтовку-то верните.
Я покачал головой.
– Лишаешься оружия до особого распоряжения.
– Кто это решил? – блеснул фиксою Мухин.
– Мы, – отрезал я.
Бытовик недоуменно поглядел на Вардана и Сеита. Процедил:
– Не много берешь на себя, молодой?
– Хорошо берет, – ответил Сеит за меня.
Наш обед состоялся километрах в трех от теткиной хаты, ближе мы сесть не рискнули. Черт ее знает, в каких она с кем отношениях? Почему проживает в лесу, как ей позволили немцы? Может быть, у нее есть связи с предателями крымско-татарского народа или с какой-нибудь русской сволочью?
Спустя два часа я резко сказал:
– Хватит вылеживаться. Подъем.
Вардан и Сеит с готовностью встали.
– Ты чего? – спросил недовольно Мухин.
– А того, что мы не шайка беспризорников, а отдельный боевой отряд Рабоче-Крестьянской Красной Армии. У отряда должен быть командир.
– Ты, что ли?
– Понятно, что не ты, – рассудительно заметил Сеит.
– Почему? – не понял Мухин.
– Потому, дорогой, – развел руками Вардан.
– Не, я понимаю, что не я, – продолжил изумляться Мухин. – Ладно, прошлое там, не те заслуги, хотя тоже, знаете ли, не парад на Красной площади перед товарищем Ворошиловым… Но почему – он? Кто успел, тот и схавал? Снова, бля, никакой демократии?
– Слушай, заткнись, а? – очень ласково попросил Меликян, не дав мне поязвить на тему всеобщего, равного и тайного голосования. Бытовик растерянно развел руками.
Мы снова двинулись в путь, поднимаясь выше и выше. На чуточку более сытый желудок я стал обращать внимание на пейзажи. Виды, открывавшиеся с крутизны, были невероятно красивы, особенно для меня, человека в горах не бывавшего – даже на недалеком от нас Алтае или, скажем, где-нибудь южнее Красноярска. Кавказ, когда мы ехали к Новороссийску, не считается – мы по дороге не вылезали из поезда. Теперь же я мог насмотреться вдоволь.
Дубы, сосны, ели, еще какие-то высокие деревья, возможно буки, но не знаю точно, сменяли друг друга, иногда перемешиваясь, но чаще образуя отдельные островки, различные по оттенкам листвы и хвои – это очень хорошо просматривалось сверху. Над миром царил давно мной забытый покой. Просто не верилось, что лишь несколько дней назад мы ползали под пулями среди развалин города, что еще позавчера нас запросто могли убить на перегоне из лагеря в лагерь, что где-то немцы занимаются «фильтрацией», «селекцией» и ходят с белыми повязками мерзавцы вроде Пинского. Подумалось даже – если бы не война, я бы охотно пожил в Крыму. Лучше, конечно, не здесь, а у моря. На знаменитом Южнобережье. Там ведь тоже высокие горы. И лес там не такой, как тут, а особенный, средиземноморский, я даже не представлял себе, как он выглядит.
Спокойствие в природе улучшало настроение. Я временами тихонько насвистывал «Утомленное солнце», Сеит мурлыкал под нос что-то свое, татарское. Винтовку Мухина мы, два идиота, тащили с Сеитом по очереди. Наказанный бытовик шагал, засунувши руки в карманы. Вардан ковылял рядом с ним, стараясь не отставать и не задерживать наше движение. Временами Мухин с ним заговаривал, издевательски поглядывая на меня и Сеита. Вардан не отвечал.
Но на деле бытовику вовсе не так было весело, как он хотел нам показать. В какой-то момент он не выдержал и заныл:
– Слушайте, давайте разойдемся. Не по пути мне с вами. Вы своей пойдете тропкой, я своей. Отдайте винтовку – и алга. На хера я вам нужен?
– Ты нужен родине, – сказал Сеит.
Ответ Сеита мне понравился. Бытовика же подвиг на небольшую и, следует признать, вдохновенную речь. Я и представить себе не мог, что наш взводный придурок способен на столь пространное и образное высказывание. Такое бы стоило записать и использовать в художественном произведении. Нет, я вполне серьезно.
Начал Мухин весьма торжественно.
– Дорогая и любимая наша родина, Союз Советских Социалистических Республик, – проговорил он неожиданно, вразвалочку проходя под нависшей над тропкой дубовою веткой. – Премного благодарим мы тебя за наше счастливое и такое, бля, безоблачное детство.
Мы с Сеитом переглянулись и не стали перебивать. Представление обещало быть занятным. Вардан дернул Мухина за рукав и слегка виноватым голосом попросил:
– Не так быстро, дорогой, не всё понимаю.
– Хорошо, Варданчик, постараюсь, – успокоил его бытовик.
Сеит хихикнул. Мухин ровным голосом продолжил:
– Родной и любимый товарищ Калинин, всесоюзный вы наш староста. Навряд ли вы знаете про такого хмыря, как я, зато мы про вас распрекрасно всё знаем и желаем вам всяческого здоровья и долголетия за-ради успешного соцстроительства в одной отдельно взятой стране. Ночами не спите вы с дорогим и любимым отцом, вождем и товарищем, сами знаете кем, печетесь о нашем народе и лично обо мне, красноармейце Мухине. А кто я есть такой, красноармеец Мухин?
Ну вот, подумал я тут, наконец-то мы узнаем истинную правду. Жалко, товарищ Калинин не услышит, ему бы тоже могло быть интересно. Полезно все-таки иметь представление о том, кто защищает родную страну в годину страшных испытаний. И Старовольскому узнать не доведется. И Маринке, и Мишке, и Левке.
Мухин слегка повысил голос – продолжая, разумеется, говорить полушепотом, не забывая, в чьем тылу мы находимся.
– Кто я такой, любимая наша родина?
Тут хихикнул Вардан. Мухин осуждающе на него посмотрел и торжественно ответил на поставленный вопрос:
– Потомственный уважаемый человек. Отец мой был потомственный алкоголик. Мать моя была женщина. Из потомственных московских дворников.
– Серьезное у тебя происхождение, Мухин, – вмешался тут я. – Потомственный там, потомственный здесь.
– А ты думал, салага, – осклабился он. – И вот что я, дорогая родина, от тебя поимел за всю мою нелегкую и непростую жизню? После Румынского фронта отдал душу богу папашка. Пошла по рукам мамашка. И сам я крутился как мог. Не дурак был вроде шибко грамотных. Что почем и откуда знал. Было мне в двадцатом годе целых двенадцать лет, и, пока маманя трудилась этим самым своим вот местом, я понемногу мешочничал. Хватали меня при облавах, били по разным местам, но по малолетству еще выпускали. А кого постарше, бывало, и чпокали.
Я переспросил:
– При военном коммунизме? За спекуляцию?
Переспросил, слегка поежившись от слова «чпокали», но не забывая главного – не подобные чрезмерные строгости были подлинным лицом суровой героической эпохи.
– Ага, за нее за самую, – охотно подтвердил бытовик. – Зато потом, когда спекуляцию разрешили и назвали свободной торговлей, я уже ни хрена не боялся. В карманах миллионы были, на хлеб и на чай хватало. Мамке было не до меня и не до чаю, она со своими хахалями всё больше спиртяру жрала.
– При нэпе?
– При нем, родимом. И еще денатуратом баловалась. Когда наконец стали рыковку продавать, там уже поздно было. Спалила себе всё нутро. И остался я один как перст.
Последнего слова Сеит не разобрал.
– Один как что?
– Как перст, – повторил бытовик, раздраженный непониманием.
– Что такое «перст»?
– Перст он и есть перст, откуда я знаю. Вот ведь елдаш нерусский. Чему вас только в советской школе учили?
Я спросил о другом, более существенном:
– А когда водкой начали торговать? После смерти Ленина?
– Не, еще при нем. Точно помню. Они же с моей мамашей померли вместе, день разницы, в январе, а мамаша водки из магазина немножко хлебнуть успела, я сам для нее покупал.
Мы решили присесть отдохнуть. Отошли подальше от тропки, выбрали место в тени и дружно повалились на траву, здесь наверху еще зеленую, не такую, как под Севастополем, где чудом сохранявшийся растительный покров был желт и сух от смертельного зноя. Над головой в ветвях звенели птичьи голоса. Мухин продолжил рассказ.
– Как мамку схоронили, нашелся добрый человек, пристроил к хорошему делу. Парень я был проворный, бомбили нэпманов без пощады. Навар получали фартовый. Одно хреново – повязали меня через год и отправили на перевоспитание. Лопату в зубы – и на индустриализацию.
– После четырнадцатого партсъезда, – объяснил я Вардану с Сеитом. Те кивнули, но без понимания в глазах. Историю ВКП (б) оба, видимо, знали не очень.
Мухина номера партийных съездов и их всемирно-историческое значение занимали не особенно.
– Да хоть после двадцатого, – отмахнулся он словно от мухи. – И началось мое лагерное житье. Народ у нас был там всякий, бытовик, уголовник, контра. Отпахал я два года, вышел на волю. Осмотрелся – и снова за дело. Но время было уже не то, аховое было время, голодное, с хлебом творилась херня непонятная. И говорили тогда всё больше, помню, про село.
– После пятнадцатого, – исполнил я свой долг политбойца. – Курс на коллективизацию, кризис хлебозаготовок, смычка города с деревней.
– Не знаю, какой там был кризис и какая была там смычка, но жить стало хреновее, чем до моей первой ходки, факт. Нэпмана как не бывало, куда подевался – не знаю. Кого бомбить, непонятно. Взяли меня года через два, смешно сказать, на бабских панталонах. Хотел перепродать. Ну нет, не пару, ясен хрен, а целую партию, штук пятнадцать, но всё одно срамота. И начал строить я Магнитогорск.
– Первый социалистический город на Урале, – объяснил я Вардану с Сеитом. – Полная ликвидация безработицы в СССР. Шестнадцатый партсъезд. Пятилетку в четыре года.
– Нет, – возразил мне Мухин, – я лично проишачил только три. Потом три года на воле мудохался, не знал, чем себя занять. Не на завод же идти, кореша засмеют, уважать перестанут. Я за те две ходки авторитет приобрел. В тридцать шестом пошел по этапу опять. Как паразит и злостный антиобщественный элемент.
– Завершение второй пятилетки, – вставил я полезное уточнение. – Полное устранение капиталистических элементов, ликвидация причин, порождающих эксплуатацию человека человеком.
Сеит равнодушно зевнул. Мухин повел рукой.
– Хрен ее знает, какая у вас пятилетка. Валил я лес в Новосибирской области, недалеко от Томска вашего. После амнистии на вольном жил и тоже валил, со спецпоселенцами.
– Кулаками, – разъяснил я, кто есть кто, представителям национальных меньшинств.
– Ну да, с ними, родимыми. Пожил я на воле в Западной вашей Сибири, передохнул чуток. И понял – совсем задавили у нас русского человека, не продохнуть ему теперь и не просраться. Комсомолия, пионерия, начальство – сплошные жиды.
Я поморщился, уж больно похоже стало на то, что писали в листовках немцы. Но спорить не стал, пусть треплется, душу отводит.
– И уже перед самой войной опоздал я с перепою на работу на двадцать четыре минуты и загремел опять. По указу двадцать шесть и шесть. И нет чтобы спокойно в лагере во благо воюющей родины трудиться, взял да и вызвался зимою в добровольцы. Думал, в казарме теплее будет. Разницы не ощутил. И что имею в результате?
Мухин сделал паузу. На лице была написана неподдельная обида на судьбу. Помолчав немного, он вздохнул и подвел итог исковерканной непонятно кем жизни.
– А в результате имею я то, что меня, русского потомственного человека, защитника Севастополя, понимаешь, два нацмена и один недоделанный комиссар, как последние вертухаи, ведут под конвоем родину защищать.
Он по очереди поглядел на Вардана, Сеита и меня, горько усмехнулся и добавил:
– Расея, ты сдурела.
– Пожрать бы, – заметил Сеит.
* * *
Жрать было нечего. Правда, Сеит отыскал какие-то ягоды и корешки, но от них было проку немного, вскоре опять захотелось есть. Мы медленно брели по склону и думали лишь об одном. Прямо скажем, не об отечественной войне и не об освобождении от гитлеровской тирании высококультурных чехов, отважных югославов и талантливых поляков.
– Да, – сказал мне Мухин часа через два, когда в запавших наших животах вновь сосало и трубило иерихонскими трубами, – тяжело на войне мужику.
Я не понял, куда он клонит, и, перебросив с плеча на плечо мухинскую винтовку, бросил на бытовика вопросительный взгляд. Обрадованный вниманием, он стал развивать свою мысль. Именно что свою, другому такое бы в голову не пришло.
– То ли дело Мариночке…
Я не захотел его слушать и привычно сказал:
– Заткнись.
– Не, а чё? – завелся Мухин. – Она баба, ее дело малое. Пристроиться и не фыркать.
– Заткнись, – повторил я устало. Шедший впереди Сеит – я видел по спине – напряженно прислушивался к разговору, не понимая, о чем здесь речь, но чувствуя по моей интонации, что я вновь недоволен нашим героическим остолопом. Тот же явно вознамерился довести меня до крайности. Неясно зачем. Может быть, просто со зла.
– Да ты, начальник, вижу, втюрился. То-то всё таращился на нее. И лейтенантик, и Мишка-покойник. Хорошо на фронте бабам. Будь ты хоть страшнее всех, а у каждого бойца, если покормят, стоит. Не сердись, Леха, и у меня стояло.
Надо было, конечно, просто его ударить, кулаком, по зубам – а потом будь что будет. Но это могло иметь непредсказуемые последствия. Драка, шум, крики, оружие. Во вражеском тылу. Я резко дернул планку гимнастерки, сунул руку во внутренний кармашек и вырвал оттуда Маринкину книжку. Развернув, сунул ему под нос расплывшейся от воды фотокарточкой.
– А теперь заткнись. Не то убью.
Мухин оторопело уставился на снимок. Подошли Сеит и Вардан и тоже заглянули в книжку. Видя их непонимающие лица, я ощутил вдруг с болью, что лицо на фотографии ничего и никого им не напоминало. Только я и Мухин помнили Марину Волошину. Быть может, два единственных на свете человека.
– Идем? – спросил Сеит.
Я сунул Маринкину книжку обратно, вновь пристроив ее рядом со своей, к которой перед выходом из подвала прикрепил звездочку с пилотки Старовольского. Самодельный потайной карманчик сослужил неплохую службу. Румыны и немцы заставляли выворачивать карманы – но зная, что внутренних карманов у наших гимнастерок не имеется, удовлетворялись внешними. Да и народу было слишком много, за всеми не уследить.
Если задуматься хорошенько, я поступил трусливо и расчетливо. Но лезть в драку с Мухиным было бы тоже не бог весть каким геройством – меня, даже не понимая в чем дело, поддержали бы Вардан и Сеит. И вообще не командирское это занятие – устраивать с подчиненными драки; его задача – сохранять дисциплину в подразделении. В конце концов, бытовик лишь хотел почесать языком, а что язык у него был поганый, то откуда другому взяться, при богатой его биографии, прямо скажем – нетрудовой.
Мы устроили привал через пару часов. Снова жевали орехи и ягоды, найденные с помощью Сеита, снова угрюмо молчали. От голода хотелось выть. За стоявшие западнее горы стремительно закатывалось солнце.
* * *
Скитания наши окончились на следующее утро. Совсем не так, как я себе представлял, а буднично и очень просто.
Мы медленно шли по прохладному лесу, далеко впереди возвышались угрюмые лысые горы. Над вершинами стлался туман. Нас еле держали ноги, мысли путались в голове, казалось, лучше лечь и умереть, туда нам уже не подняться. Да и незачем – искать партизан, не имея понятия, где они находятся, бесполезно. Вроде как иголку в стоге сена.
И тут нас окликнули, по-русски, из кустарника. Укрывшись за деревьями, мы щелкнули затворами. После чего я ответил. Мы перебросились парой-другой слов. И поняли главное – перед нами свои. И эти свои тоже поняли главное – мы севастопольцы.
Их было четверо, двое в форме, двое в перетянутом ремнями штатском. Все неплохо вооружены. У старшего были петлицы с двумя кубарями и скрещенными пушками. Поглядев на Мухина, который без оружия, в отличие от шатавшегося и пожелтевшего Вардана, сильно напоминал подконвойного, лейтенант с любопытством спросил:
– Это кто – арестант? Не хрен с ним цацкаться. Нам тут балласту не треба.
Мухин раскрыл от изумления рот. Партизаны сохраняли равнодушие.
– Это наш боевой товарищ, – объяснил им спокойно Сеит. – Устал очень, я ему оружие нести помогал.
– Ясно, – не стал настаивать артиллерийский лейтенант. – А старший у вас кто есть или командир там какой?
Наши молча посмотрели на меня. Мне ничего не оставалось, кроме как признаться.
– Я, товарищ лейтенант. Красноармеец Аверин.
Лейтенант, не удивившись, протянул мне руку.
– Поздравляю. Вырвались, значит. Мы разведчики, возвращаемся в отряд, завтра, всё по-хорошему, будем на месте. Первый раз севастопольцев видим. Кажись, никто оттуда не пробился. В рубашке родились вы, хлопцы, не иначе.
Сеит вернул бытовику винтовку. Получив назад оружие, тот привычно забросил его на плечо. И уже идя за партизанами, довольно мне шепнул: «Ну теперь повоюем, Лёха, полная, мать, свобода». Я не ответил ему «Заткнись». Потому что опять был дома.
Тригонометрия любви
Флавио Росси
Начало июля 1942 года
Друг мой Грубер выдержал многое. Во всяком случае, так мне казалось. Гибель Юргена стала последней каплей. Но внешне зондерфюрер и тут сохранил хладнокровие.
При авианалете на выезде из Инкермана, молниеносном, кратком, не пострадал практически никто. Русский истребитель пронесся над дорогой, выпустил очередь из пулемета и моментально исчез, не причинив колонне почти никакого вреда. Не полыхали брошенные на шоссе машины, не кричали, не стонали раненые – и только Груберов шофер, успевший отбежать на пару метров, сидел, привалившись к кюветной стенке и вцепившись в живот трясущимися руками. Сквозь пальцы обильно сочилась кровь, рот открывался и закрывался. У меня промелькнула идиотская мысль – закрытым или открытым останется он после смерти?
Грубер молчал. Оказавшийся рядом СС-унтерштурмфюрер кивком головы выразил соболезнование. Труп извлекли из кювета (рот был открыт) и погрузили на шедший в сторону Бахчисарая грузовик. Мы направились к нашей машине. Зондерфюрер, по-прежнему молча, уселся за руль. Вынул из нагрудного кармана фляжку с коньяком. Немного отпил. Сунул мне. Сказал:
– Я знал его мать. Она просила, чтобы… Один из немногих, кто не виновен ни в чем. Либо виновны мы все. Что скажете, Флавио? Вы чувствуете вину?
Я не ответил. Грузовик перед нами двинулся. Колыхнулся брезентовый тент над кузовом – предпоследним пристанищем Юргена Готлиба. Грубер нажал на газ. Меня резко откинуло на сиденье. Коньяк, пролившийся на колени, я стер носовым платком.
* * *
Похороны Юргена задержали нас на сутки. На небольшом солдатском кладбище, белевшем свежими крестами, мы неожиданно наткнулись на старого знакомого из батальона майора Берга. Собственно, это он наткнулся на нас, мы бы сами его не узнали. Он подошел, когда, отдав последние почести Юргену, мы с Грубером брели по недавно обсаженной кустарником кладбищенской дорожке. Отсалютовал и представился:
– Ефрейтор Дидье, господин зондерфюрер.
Зондерфюрер, как заправская кинозвезда, вежливо сделал вид, что ефрейтора узнал. Улыбнулся не только губами, но и глазами. Умный ефрейтор всё понял и, виновато растянувши рот в ответ, объяснил, где и когда мы могли его видеть.
– Да, – признался Грубер смущенно, хотя особенных причин для смущения не имел, – теперь я вспомнил. Извините, что не сразу. Мы побывали в стольких подразделениях.
Ефрейтор улыбнулся опять. Теперь скорее грустно, чем виновато.
– Нас слишком много, и все мы одинаковы. Я имею в виду униформу, господин зондерфюрер.
Среди еще более одинаковых крестов печальная констатация прозвучала куда печальнее, чем могла прозвучать в ином, чуть менее печальном месте. Не таком, посредине которого возвышается пятиметровый крест с надписью «Пали за Великую Германию».
Я протянул ефрейтору руку. Моему примеру демократично последовал Грубер. По-товарищески объяснил ефрейтору, что привело нас на кладбище.
– Может быть, вы помните моего водителя? Юргена Готлиба? – спросил он у Дидье.
– Нет, – признался тот, так же честно, как недавно признался Грубер. И также объяснил причины своего появления здесь. – Мы тут со старшим лейтенантом Вегнером. Приехали, так сказать, навестить. Отдать последние почести. Во время боев не могли, а теперь вот… Господин Росси, вы помните Курта Цольнера?
Я задумался. Имя мне показалось знакомым, однако…
– Нет, к сожалению, нет.
Дидье покачал головой и вытащил из внутреннего кармана десяток перевязанных резинкой фотографий.
– Вот, смотрите, он справа от меня.
«Высокий и смуглый – воздействие жаркого крымского солнца – он напоминает чем-то наших соотечественников. Твердый и решительный взгляд, волевой подбородок, четко очерченная линия рта…» Невероятно, но я вспомнил слово в слово то, что писал лет так двести назад. Созданный мною словесный портрет весьма относительно соответствовал оригиналу – не было твердого решительного взгляда, линия рта и подбородок были скорее стандартными, да и рост был вполне себе средний, равно как и степень смуглости. Но Курта Цольнера я узнал.
– Да. Старший стрелок, я помню.
– Нас в тот день произвели в ефрейторы и щелкнули на память. Видите, у Брауна, он слева, хорошо видна нашивка.
– Вижу.
Могилы Цольнера и его товарищей находились неподалеку. Довольно длинный ряд крестов, прибитые к ним таблички с именами и датами, надетые сверху железные шлемы. Стоявший перед ними Вегнер приветствовал нас кивком. Мы встали рядом. Прямо передо мной, по случайности или нет, оказалась надпись.
«1939
Gefreiter
Kurt Zollner
3. / I.R…
geb. 29.6.1920
gef. 19.6.1942».
Высокий и смуглый, воздействие жаркого крымского солнца…
Погребенный сегодня Юрген Готлиб был, по мнению Грубера, ни в чем не виновен. А этот Цольнер, превращенный мною в символ борьбы против большевистского рабства? Солдат пехоты. Стрелял, ходил в атаку, убивал. Наверняка убивал – или не успел? И что это меняет? Виновен, не виновен? И если виновен, то в чем? Четверо мужчин молчали.
Не знаю почему, но я был уверен, что он не хотел убивать. Не знаю почему, но мне хотелось так думать. Потому, что иначе он был бы таким же, как Лист. А мне он виделся другим, совершенно другим. Нам ведь не хочется разочаровываться в людях.
Я пробежался глазами по прочим табличкам. Повсюду фигурировала всё та же «3. / I.R…» – третья рота такого-то пехотного полка. Я обратился к ее командиру.
– Вы позволите записать имена?
– Для истории?
– Для себя.
– Зачем?
– Не знаю. Захотелось.
Я медленно вписывал их в блокнот, одно за другим. Стрелок Лотар Каплинг, стрелок Йозеф Шиле, унтерфельдфебель Максимилиан Брандт, ефрейтор Альфред Штос, ефрейтор Оскар Гольденцвайг. Кто и в чем был из них виновен? Обладала ли смыслом их смерть? Я украдкой взглянул на Вегнера. Старший лейтенант тоже о чем-то думал.
Неподалеку, за пирамидальными тополями, прозвучала краткая команда. Зарокотал барабан и медленно поплыла мелодия. «Ich hatt einen Kameraden…» Разумеется, что же еще? Вегнер поднес ладонь к козырьку фуражки. Дидье и Грубер последовали его примеру. Я невольно вытянулся и приподнял подбородок. Музыка смолкла. Вновь прозвучала команда. Грянул прощальный залп. В честь виноватых или невинных?
Красота ритуала примиряла с абсурдом. Не в этом ли назначение красоты?
На выходе с территории кладбища, пока еще ничем не огороженной, мы наткнулись на русских военнопленных. Вооруженные лопатами, они под присмотром изнывающих от жары конвоиров занималась рытьем новых ям.
– У меня есть немного вина, – сказал зондерфюреру Вегнер. – Предлагаю присесть в тени.
– Отлично, – ответил тот. – Я сегодня за рулем, но если немного, то можно.
* * *
Вечером, уже в Симферополе, Грубер доверительно мне сообщил:
– Есть возможность вывезти фрау Воронов. Лист ее отпускает, документы он ей выправил вчера. И немецкие, и румынские – у нее в Бухаресте тетка. Узнал вот о нашем возвращении и предложил воспользоваться оказией. Поможете русской девушке.
Я безмолвно и злобно ругнулся. Мне не хотелось никому помогать, тем более фрау Воронов, тем более при участии Листа. Но отказаться было невозможно.
Мы покинули Симферополь втроем. Ольга сидела рядом со мной на заднем сиденье и властно держала мою правую кисть в маленькой крепкой ладошке. «Ничего, ничего, – утешал я себя, – это только до Бухареста». Наш путь лежал в тот самый город на Днепре, где целую жизнь назад мы с Грубером развлекались на празднике в школе, говорили с утконосым Ярославом Луцаком и потешались над глупым профессором Ненароковым.
Утром следующего дня мы добрались до места назначения. Офицерская гостиница была переполнена, город кишел войсками. Нам отыскали частную квартиру без хозяев, с отдельной комнатой для каждого из нас. Грубер немедленно убежал по делам, пообещав после обеда вернуться. Ольгины глаза недвусмысленно говорили, что их обладательница готова воспользоваться моментом, но я предпочел ничего не понять. Ольга ушла прогуляться по городу – решив, что я не вполне пришел в себя после гибели несчастного шофера.
Накануне, во время ночевки, уснуть мне не удалось. В отличие от Ольги, спавшей, по ее собственным словам, как младенец, впервые после смерти мужа. Теперь я надеялся по-человечески отдохнуть. Наш вылет, мой и Ольгин, был назначен на завтрашний день, Грубер всё утряс, получив посадочные талоны на транспортный «Юнкерс» до Бухареста. Ольгина тетка еще не подозревала, какое счастье через день ей свалится на голову. Я потихоньку злорадствовал.
Но выспаться мне не пришлось.
* * *
– Я расскажу вам всё. Но дайте слово, что донесете правду о вековечных чаяниях моего народа. Мой народ привержен идеалам свободы и правды, ему нужна демо… крепкая и надежная власть в лице Великой Германии.
За столом передо мной сидел невзрачный человечек в затасканном пиджачишке, с трясущимися обвислыми щеками, припухшими подглазьями – из тех, кого не впустит в подъезд ни одна держащаяся за место консьержка. Но в этом городе консьержек не было, в нем имелась жандармерия, служба безопасности, военная комендатура. Человечек же, по его словам, имел хорошие отношения с новыми властями, был уважаем ими и ценим – непонятно за что.
Появившись у меня на пороге, этот субъект заявил, что услышал о приезде в город господина зондерфюрера Грубера, с которым ему давно советовал поговорить видный ученый Ярослав Луцак. Ссылка на Грубера меня обрадовала, я немедленно заявил, что господин зондерфюрер удалился, вернется только переночевать, а утром покинет гостеприимный город на Днепре. Мой маневр имел плачевные последствия. «Я знаю, – стремительно сориентировался человечек, – вы всем известный репортер знаменитого миланского издания господин Флавио Росси. Господин Луцак отзывался о вас как о ведущем итальянском специалисте по освободительной борьбе народов бывшего Советского Союза, герое Севастополя и Крымской Яйлы. Вы обязаны услышать Беларусь!» Я не устоял перед напором и сдался.
Он сунул мне в руку визитную карточку, на которой значилось «Dr. Ryhor Paulau», уверенно уселся за стоявший посреди комнаты круглый стол, жестом пригласил меня проделать то же самое (у меня впервые появилась мысль, не дать ли ему пинка) и принялся говорить, требуя от впервые встреченного им человека донести до Европы правду о вековечных чаяниях неведомого мне белорусского народа. Всё было знакомо. Думы о вековечных чаяниях были, похоже, главным развлечением местной интеллектуальной элиты.
Добрый час г-н Паулау твердил мне о добродушии и незлобивости настоящих белорусов-кривичей-литвинов, каковыми качествами пользовались подлые соседи – поляки и московиты, ошибочно именуемые русскими, а также свирепые казаки таинственного капитана (Hauptmann) Хмельницкого. О древней скориновской культуре («Пишется так: Skaryna»), созданной печатником, издавшим в Праге книгу под названием «Библия русская».
– Русская? – переспросил я, записывая сказанное им в блокнот, который он вместе с авторучкой вручил мне в начале нашей беседы.
– В те времена это значило «белорусская», то есть кривско-литовская.
Я сделал вид, что понял.
Объяснив мне про печатника, господин Паулау перешел к церковной унии, заключенной в конце то ли пятнадцатого, то ли шестнадцатого века. Последняя была бы хороша, если бы ее заключили, сказал он мне, на ренессансно-гуманистической платформе, близкой сердцу каждого истинного литвина-белоруса, но, увы, увы, она была заключена на платформе контрреформации.
– Вы понимаете, что я имею в виду? – угрожающе спросил он меня.
Я поспешил отозваться: «О да!» – и сделал очередную заметку в блокноте (чертов Паулау не сводил глаз с моей правой руки).
Он сообщил мне, что уния имела несколько практических аспектов («Вы пишете?»). С одной стороны, она способствовала полонизации общества («Вы понимаете?» – «О да!»). Данный аспект был, по мнению Паулау, негативным. С другой же стороны, мудрые иерархи вели литвинов к прочному единению с подлинно арийским, передовым и нордическим миром, что следовало рассматривать как аспект безусловно положительный. Однако их дело («Запишите непременно») было загублено косной и невежественной массой, подстрекаемой дикими фанатиками и агентами Москвы.
На фанатиках и агентах Москвы мое желание дать доктору под зад существенно усилилось. Он же, ни о чем не подозревая, сообщил, что московские захватчики в прошлом веке упразднили ее, то есть унию, загнав несчастных кривичей в свою закосневшую в чем-то там псевдоортодоксальную («Подчеркните, пожалуйста!») недоцерковь.