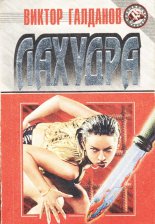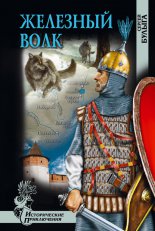Камень духов Кердан Александр
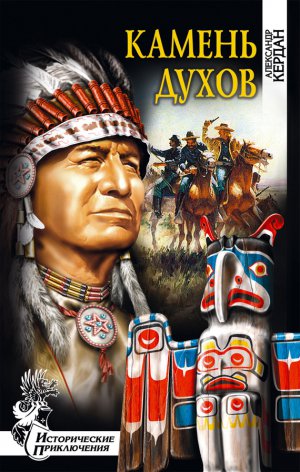
– Эх ты, деревня! Ясно кто – супруга государева… Он ее из самой Варшавы привезти обещался…
– Послушай, братец, – не удержавшись, вмешался Завалишин, – конституция – вовсе не имя, это слово совсем другое означает!
– Что вы, ваше высокоблагородие, мне надысь в кабаке рассказывал один важный господин, что Конституция – должно быть, точно это и есть государева супруга! Иначе для чего бы люди из-за нее на смерть пошли…
Завалишин не стал спорить. На душе его сделалось еще тоскливее. Выходит, что таких, как этот матрос, как этот старик ямщик, как солдаты столичных полков, просто обманули. Заставили идти под пули, не объяснив правду. «На обмане ничего доброго не построишь!» С этим ощущением он добрался до Симбирска. На заставе его встретил один из знакомых с предостережением, что в городе находится курьер с приказом об аресте Завалишина, что в дом его родных ему ехать нельзя.
Окольными путями Дмитрий проехал в дом Ивашевых – давних друзей его родителей и предполагаемых родственников. Сын Ивашевых – Василий, кавалергард и член Южного тайного общества, считался женихом сестры Дмитрия. У Ивашевых он заночевал, успев отправить слугу к мачехе с письмом, в котором просил немедля сжечь его переписку. Наутро, простившись с друзьями, Завалишин надел парадный мундир и сам явился к губернатору, собиравшемуся объявить его в розыск.
В сопровождении жандарма Дмитрия из Симбирска привезли прямо в Зимний дворец. Первый допрос в комнате перед кабинетом нового государя снимал генерал-адъютант Левашов. Он хорошо знал отца Дмитрия и его самого, поэтому, будто случайно, положил на своем столе прямо перед ним бумагу, где довольно крупно было написано: «Показания Александра Бестужева о принадлежности к Северному обществу лейтенанта Завалишина…»
– Ну, вот, – кисло улыбаясь, сказал генерал, – давно ли мы с вами, Дмитрий Иринархович, расстались, а сколько событий, и каких, произошло… Ваш дядя, граф Остерман-Толстой, от коего я не мог скрыть, что послал за вами, сильно огорчен. Мне жаль вас, молодой человек, и ваших друзей… Вы сами все дело испортили, ведь покойный государь был расположен дать конституцию…
Завалишин сдержанно улыбнулся. Левашов заметил это.
– Что, не верите? – спросил он и развел руками. – Дело ваше… Однако перейдем к вам самому. Вы арестованы на основании показания, что были членом Северного общества.
– Никогда не был, – твердо отвечал Дмитрий. Он был абсолютно спокоен, так как сказал правду – членом общества он не состоял.
Уверенность Завалишина в своей правоте понравилась Левашову.
– Вы сможете это доказать? – спросил он.
– Не мое дело доказывать, – смело сказал лейтенант. – Пусть те, кто меня обвиняет, доказывают свою правоту, а я – чист.
Левашов вошел в кабинет царя и через пару минут, приоткрыв дверь, пригласил Завалишина.
– Я слышал о вас много хорошего, – обратился к нему император. – Вы писали моему покойному брату?
– Да, ваше величество, – сказал Завалишин. – Я считал своей обязанностью не скрывать от государя опасностей, к коим вели ошибки его кабинета…
– Не будем поминать прошлого, – прервал его Николай Павлович, – поговорим о настоящем и будущем. Но не теперь. Уже поздно. Изложите ваши идеи о флоте и представьте мне завтра записку. Вы свободны.
Левашов, выйдя вслед за Дмитрием из кабинета, поздравил его с освобождением и сказал, что государь доволен им и намерен извлечь из его знаний и способностей всевозможную пользу для Отечества.
– Однако что мы будем делать, – добавил он, – надобно исполнить кое-какие формальности для вашего освобождения. Сегодня невозможно передать повеление государя об этом начальнику Главного штаба, и потому вам придется переночевать здесь.
Дмитрия разместили на кушетке в комнате дежурного офицера. Он уснул, как только прислонил голову к жесткой подушке. Тогда-то и приснился ему впервые кошмарный сон, будто он тонет во время прошлого наводнения, будто вода заливает ему нос, уши и рот и нечем больше дышать…
Этот кошмар потом не единожды возвращался к нему. Внешне все складывалось для Завалишина неплохо. Обвинение в причастности к мятежу с него сняли. Он был повышен в должности – назначен историографом флота и начальником модельной мастерской. Кроме того, лейтенанта причислили к ученому комитету морского ведомства и включили в состав комитета по преобразованию флота, назначив при этом жалованье выше, чем у генерала.
Но, несмотря на все это, на душе у Дмитрия кошки скребли. Его мучила совесть. Не будучи членом тайного общества, он все же принимал участие в его собраниях, знал о замыслах заговорщиков и открыто пропагандировал их идеи среди офицеров Гвардейского экипажа. Теперь Дмитрию было стыдно, что он не смог переубедить Рылеева со товарищи в неразумности их планов и поступков. Он переживал, что не захотел помешать им. Следовательно, оказался «замаранным», нечестным ни перед тайным обществом, ни перед правительством, которое сначала не поставил в известность о готовящемся перевороте, а теперь вольно или невольно обманул, отказавшись признать себя заговорщиком. Когда-то все это должно было всплыть наружу, а значит, надо ждать нового ареста…
Второго марта в девять часов утра в кабинет Завалишина в Адмиралтействе зашел адъютант Бенкендорфа поручик Муханов и передал, что генерал просит его незамедлительно прибыть к нему по важному делу.
По тому, как отводил Муханов взгляд, Дмитрий понял, что его ждет.
– На вас, лейтенант, сделаны новые показания, – сухо встретил его Бенкендорф. – Я вынужден задержать вас до полного выяснения обстоятельств.
– Меня отправят в крепость, ваше сиятельство? – спросил Завалишин.
Тон Бенкендорфа несколько смягчился:
– Отчего же сразу в крепость… Вот вам опросные листы. Поживете несколько дней в здании Главного штаба, а на квартире вашей будет сказано, что вас командировали в Кронштадт. Так что репутация ваша, само собой разумеется в случае вашей невиновности, не пострадает…
Тот же Муханов проводил Завалишина в Главный штаб. Там его разместили в одной из комнат первого этажа и оставили одного. Дмитрий огляделся. Комната была смежной с приемной, где постоянно дежурили преображенцы, и имела двойную стеклянную дверь, выходящую на тротуар. Увидев, что за ним никто не наблюдает, Дмитрий подошел к двери и потянул ее ручку на себя. Она оказалась не заперта, зато наружная была заделана наглухо. Приглядевшись, Завалишин обнаружил, что она просто была заклеена бумагой по щелям. Он, не зная, верить или не верить в такую счастливую случайность, толкнул наружную дверь. Она поддалась – на ней тоже не было замка.
Дождавшись ночи, когда дежурные в соседней комнате захрапели, Дмитрий надел шинель и осторожно раскрыл дверь. На улице мела метель. Никого из прохожих не было видно. Он беспрепятственно вышел во двор и, ни с кем не столкнувшись, повернул направо, под темную арку Главного штаба.
В долгих спорах ученых мужей о роли и месте личности в истории сломано немало копий. В них поочередно одерживали верх то те, кто превозносил влияние личности, то те, кто отрицал его. Но и первые и вторые под личностью подразумевали только государей, полководцев, диктаторов, гениев. Словом, таких выдающихся людей, которые самим своим положением или талантом просто не могли не влиять на современников и на свое время. Однако, говоря об обычных людях: чиновниках, смердах, солдатах – тех, кого называют «народом», обе стороны почему-то лишали их индивидуальности, а следовательно, и права влиять на те или иные события. Эти повседневные события, на первый взгляд не являющиеся значимыми, по сути своей, как кирпичики стену, составляют историю каждой страны и всего человечества в целом.
Чиновник шестого класса Александр Дмитриевич Боровков, советник для особых поручений при военном министре графе Татищеве, роли своей в истории не преувеличивал, но, будучи человеком в высшей степени добросовестным и старательным, таковую несомненно играл, хотя бы в деятельности Следственной комиссии, правителем дел которой был высочайше назначен.
Карьера Боровкова складывалась ровно, без взлетов и падений. Сын разорившегося купца, в 1808 году он окончил Московский университет и в чине коллежского регистратора поступил на службу в шестой департамент Московского отделения Сената на должность повытчика. Через пару лет стал губернским секретарем. Одновременно с этим Александр Дмитриевич подрабатывал, давая уроки детям из богатых семейств. Это позволяло хоть немного поддерживать скудный бюджет семьи. Среди учеников Боровкова оказался Антон Дельвиг, которого осенью 1811 года Александр Дмитриевич повез поступать в Царскосельский лицей. После успешно сданных мальчиком вступительных экзаменов его учитель остался в Санкт-Петербурге. Сначала служил в судном отделении Департамента горных и соляных дел Министерства финансов, потом перешел в Военное министерство. Будучи человеком разносторонних способностей, Боровков в свободное от службы время слагал стихи, посещал масонские собрания и даже некоторое время был правителем дел знаменитой ложи Избранного Михаила.
Так случилось, что именно Боровкову судьбой было уготовано не только написать проект высочайшего указа о создании Следственной комиссии, но и сделаться самым деятельным ее участником. Исполнительный и умный чиновник пользовался доверием Татищева, председательствующего в комиссии. Благодаря военному министру он и получил должность правителя дел.
Круг новых обязанностей Боровкова был необычайно широк. Он лично составлял опросные листы для каждого из подозреваемых, присутствовал на большинстве допросов, по результатам их писал докладную записку на имя государя. Императору понравились слог и меткость характеристик, даваемых чиновником. Николай Павлович повелел Боровкову составить для него «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайше утвержденною 17 декабря 1825 года Следственною комиссиею». В «Алфавит» попадали все, о ком так или иначе упоминали заговорщики в ходе следствия. Число таковых на нынешний день уже перевалило за пять сотен. О степени виновности каждого Александру Дмитриевичу предстояло составить отдельную записку для императора и представить оную до заседания Верховного суда.
Граф Татищев так инструктировал его:
– Государь желает злодеев закоренелых отделить от легкомысленных преступников, действовавших по увлечению… Твои записки будут приняты в соображение его величества при рассмотрении приговора. Смотри! Сие дело тайное и архиважное!
Боровков и сам понимал ответственность высочайшего поручения и не щадил ни сил, ни времени для его выполнения. За «главным делом жизни», как называл работу над «Алфавитом» сам Александр Дмитриевич, и застал его заглянувший поутру старый знакомый Михаил Яковлевич фон Фок.
В месяцы, прошедшие после мятежа, чиновники, испытывавшие друг к другу симпатию, встречались регулярно, не по одному разу на день. Нужно было обменяться новыми сведениями о бунтовщиках, передать друг другу ту или иную секретную реляцию, которую нежелательно было доверять курьерам. Впрочем, бывало, они сходились и просто так, выкурить трубку, поговорить о вещах отвлеченных. Это даже таким службистам, каковыми являлись оба, не только не противопоказано, но в условиях напряженной работы необходимо.
Вот и сегодня Фок предложил Александру Дмитриевичу прервать ненадолго свои занятия:
– Врач Арендт, дорогой Александр Дмитриевич, настоятельно рекомендовал мне делать в служебных делах хоть короткие, но перерывы. Переключение умственной деятельности с одного предмета на другой, по его просвещенному мнению, благоприятно сказывается на ее результатах…
Глядя на улыбающегося Фока, Боровков поймал себя на мысли, что ему трудно в чем-то отказать. Он отложил перо. Колокольчиком вызвал секретаря и приказал сварить кофе. Пригласил Фока пройти в маленькую гостиную, смежную с кабинетом. Там они расположились в креслах и раскурили трубки.
Поговорили о светских новостях, потом о новой пьесе Расина, премьера которой на днях состоялась в императорском театре с актрисой Семеновой в главной роли. Фок и Боровков были театралами и горячими поклонниками таланта Семеновой и доселе не пропускали ни одной из премьер с ее участием. Но на эту не попали: не отпустили дела. Выразив друг другу огорчение, снова заговорили о светских знакомых, о переменах в общественном мнении по отношению к мятежникам. Это было важно обоим. Они понимали, что работа в Следственной комиссии, где разбираются дела представителей знати, сродни хождению по узкому мосточку над пропастью. Шаг влево – и государь заподозрит в симпатиях к бунтовщикам, шаг вправо – и наживешь себе смертельных врагов среди высших сановников и царедворцев, чьи отпрыски привлечены к следствию. Нужна была линия поведения, которую оба, не говоря об этом ни слова, вырабатывали, общаясь друг с другом.
Когда кофе был выпит, Фок без всякого перехода вдруг заговорил о делах служебных:
– А скажите, уважаемый Александр Дмитриевич, включен ли в ваш «Алфавит» некий Хлебников, о коем я вам сообщал третьего дни?
– Извините, так не припомню, уж больно много имен. Надобно поглядеть в бумагах…
– Не сочтите за труд…
Они вернулись в кабинет. Пока Боровков искал нужное имя в записях, Фок размышлял: зачем это его агенту Барону понадобилось вдругорядь заводить с ним разговор о Хлебникове, служащем Российско-Американской компании на далекой Ситке? Когда Барон в первый раз обратился к нему с просьбой включить в списки подозреваемых упомянутого компанейского служителя, Фок спросил его о Хлебникове. Агент ответил, что у него есть сведения, будто купец состоял в переписке с государственными преступниками Рылеевым, Штейнгелем и находящимся на подозрении Завалишиным.
– Вы можете подтвердить сие обвинение? – спросил Фок.
– Доказательства будут, – ответил Барон. И на самом деле, вскоре он принес несколько писем от Хлебникова Рылееву и Штейнгелю. Правда, в них шла речь о делах компании, но агент настаивал:
– Были и другие письма, где говорилось о мятеже…
– Где же они?
– Преступники успели их уничтожить! Но важен сам факт переписки. А остальное можно выяснить на допросах!
И фон Фок сдался. Его натура протестовала, но разум нашел аргумент для оправдания: сыскная работа – не прогулка по Невскому! Иной раз приходится жертвовать нравственностью, во имя конечной цели, которая есть государственное благо. Что такое судьба одного человека по сравнению с судьбой Отечества? Одним подозреваемым больше, одним меньше… В списках Боровкова уже немало таких, кого просто оговорили или приплели, чтобы запутать следствие. «Если сей Хлебников невиновен, – утешал свою совесть Фок, – его допросят и отпустят. Если же виновен? Тогда вообще говорить не о чем…» А просьбу Барона выполнить надо. Он – агент ценный. Недавно успешно поработал в Москве: с его помощью удалось выявить шайку картежных шулеров и собрать компрометирующий материал на московского губернатора. Такие люди, как Барон, будут необходимы в новом ведомстве, которое создается под руководством графа Бенкендорфа…
Всего этого Михаил Яковлевич, конечно, Боровкову не сказал. Александр Дмитриевич тем временем отыскал нужную страницу и прочел вслух:
– Вот – Хлебников Кирила Тимофеевич. Коммерции советник. Пожалован сим чином в 1825 году. Начальник Новоархангельской конторы Российско-Американской торговой компании… Состоял в переписке с мятежниками… Знал о злоумышленных намерениях… – Боровков перевел дыхание и спросил: – Этого Хлебникова вы искали?
– Других, как мне известно, нет.
– Верно. Человек с такой фамилией в моих записях один. А позвольте полюбопытствовать…
– Не позволю… – все с той же обворожительной улыбкой сказал жандарм. – Сие служебная тайна.
– Даже для меня? – удивился Александр Дмитриевич.
– Прошу простить, но и для вас, мой дорогой друг, тоже…
Они еще поговорили о каких-то пустяках, и Фок откланялся.
По дороге к себе он вспомнил, что обещал Барону проследить, чтобы ситкинскому полицмейстеру было направлено указание арестовать Хлебникова и допросить его с пристрастием на вопрос причастности к мятежу. «Коль имя Хлебникова теперь есть в списках у моего приятеля Боровкова, направить подобный приказ в американские колонии не составит труда. Но интересно, чем же все-таки так насолил нашему Барону этот Хлебников?..»
– …И вы, mon cher,добровольно вернулись в заточение, не воспользовавшись возможностью для побега, которую представляла вам судьба? Et pourqnoi?
– Своим побегом я укрепил бы власти в подозрениях относительно себя самого и тех, кто был связан со мною перепиской и дружескими узами… От правосудия бегут только виновные…
– Ну, а оставшись под следствием, вы надеетесь больше принести пользы вашим друзьям? А вы не боитесь, Дмитрий Иринархович, что вас могут запутать допросами и очными ставками так, что вы сами оговорите себя и своих знакомых, как это сделали многие?
– Я умею хранить тайны, и никто, Александр Сергеевич, не назовет меня бесчестным… Я полагаю так: если дела в моем Отечестве идут худо, это еще не дает мне права покидать его. Если бы я бежал из России, как мне предлагали, то лишил бы ее в своем лице человека, который понимает, в каком положении она находится, и через это понимание способен противодействовать злу, по крайней мере обличая его…
– Дмитрий Иринархович, простите меня, Христа ради, но вы – или святой, или наивны, как ребенок…
– Я, милостивый государь, просто русский человек и жизни своей вне Отечества не мыслю…
– Но ведь вы ходили вокруг света и спокойно чувствовали себя вне России…
– Это совсем другое. Находясь в плавании, я знал, что продолжаю служить своей стране даже за ее пределами! Ведь что такое патриотизм? По-моему, это чувство глубоко нравственное, основанное на долге перед своей Родиной, когда интересы одной личности, семьи и целого сословия не могут быть выше блага Отечества. Если это чувство искреннее, то его ничто из души не вытравит.
– Увольте меня, я не разделяю вашей убежденности. Мне ближе ощущения космополита, для которого дом и родина – вся вселенная. Что это за Отечество, где тебя держат под арестом?
– Правители – еще не суть все Отечество, Александр Сергеевич…
Завалишин и Грибоедов сидели за кофе и пирожными в отдельном кабинете кондитерской Лореда на углу Невского и Адмиралтейской площади. Трудно было поверить, что это не обычные посетители, а подозреваемые в государственном преступлении, которых привели сюда под конвоем. Но армейский капитан, сидевший поодаль, и часовой, стоявший перед дверью в кабинет, не оставляли в этом сомнения. Впрочем, капитан вел себя корректно и в разговор своих подопечных не вмешивался, а солдат в кабинет заглядывал лишь тогда, когда его просили сбегать за газетами или в соседнюю лавку за книгами. Преображенец без страха оставлял в комнате ружье и ранец и мчался выполнять поручение «господ», в надежде на чаевые. Надо сказать, что щедростью задержанных объяснялись и те послабления, которые делал им капитан. Фамилия его была Жуковский, хотя родственником знаменитому поэту и воспитателю цесаревича он не приходился. Этот Жуковский в самом начале следствия помог одному из задержанных, полковнику Любимову, за десять тысяч рублей ассигнациями выкупить в Следственной комиссии свои письма к Пестелю. Часть полученных денег осталась у него. Об этой сделке стало известно всем подследственным, и капитан счел за лучшее с ними не ссориться и за определенную плату выполнял некоторые их пожелания.
Соседями Грибоедова и Завалишина по комнате в здании Главного штаба, где они содержались, оказались полковой командир Кончиалов, бригадный генерал Кальм, братья Раевские, Сенявин – сын адмирала, предводитель подольского дворянства Машинский и князь Шаховской. Почти все они были приятелями по прежней светской жизни. Но особенно сблизились между собой Завалишин и Грибоедов. Александра Сергеевича Дмитрий узнал через Александра Одоевского, у которого на квартире несколько месяцев назад под диктовку автора члены тайного общества переписывали комедию «Горе от ума». Грибоедов был старше Дмитрия на девять лет, но держался с ним, как с ровней. Завалишин хотя и восхищался талантом своего приятеля, но смотрел на него не как на знаменитого поэта, а скорее как на старшего товарища, за которым закрепилась репутация отчаянного повесы и волокиты, чьи дурачества и любовные приключения сделались темой анекдотов, ходивших по столичным салонам. Конечно, они были разные люди, но не зря говорят, что разница во взглядах порой сближает. Дмитрию импонировали ироничность и независимость Грибоедова, резкость его суждений и оценок. Завалишин не был согласен с теми, кто видел в его комедии одну только политическую агитацию. Сам он относился к комедии как к сатире на действительность и объяснял популярность творения Грибоедова тем, что и либералам, и консерваторам доставляет удовольствие посмеяться над широко известными современниками, скрытыми под другими именами.
– Вы знаете, Александр Сергеевич, – возобновил разговор Завалишин. – Переписанный экземпляр вашей комедии первым в Москву привез я. И ни за что не поверите, где устроил читку… В доме у сыновей той самой княгини Марьи Алексеевны, чьим грозным призраком изволили вы завершить сюжет…
– Удивительное совпадение, – желчно хмыкнул Грибоедов. – Я вам премного благодарен, но, позвольте заметить, именно моя комедия и послужила поводом для того, чтобы объявить меня участником тайного общества. Оную в списках обнаружили почти у всех, кто был на площади, из чего и вывели, что я – злоумышленник.
– Это просто смешно! Нынче у всякого читающего человека в России можно найти список вашей комедии…
– То же самое я сказал и в Следственной комиссии. Тогда мне предъявили показания Трубецкого, что я, дескать, вступил в общество в двадцать четвертом году. Я ответил, что и в самом деле вступал в общество, токмо в «Вольное общество любителей российской словесности»! Ну, как?
Завалишин был наслышан, что Грибоедов, когда его арестовывали в Грозной, при помощи Ермолова успел уничтожить все опасные письма, а прибыв в Санкт-Петербург, будучи оставлен курьером один в комнате дежурного офицера, умудрился похитить и уничтожить казенный пакет с уликами. У Следственной комиссии ничего против него не осталось. Поэтому Грибоедов держался спокойно, показывая, что пребывать ему под арестом осталось недолго.
– Значит, вы надеетесь скоро освободиться? – спросил Завалишин.
– Конечно, – глаза Грибоедова из-под очков хитро блеснули. – И вы, мой друг, если последуете моему примеру и бросите ваше бессмысленное дон-кихотство, тоже вскоре окажетесь на воле.
– Я так поступить не могу.
– Не понимаю вас…
– Что же тут непонятного? Я полагаю своим долгом не искать собственного спасения, а воспользоваться ситуацией, чтобы помочь моим арестованным товарищам, взяв часть их вины на себя. Кроме того, я хочу показать правительству, что оно само повинно в мятеже, ибо давало повод и пример к этому своими насильственными действиями по отношению к предшествующим государям – Петру III и Павлу I.
– Вы – неисправимый идеалист, Дмитрий Иринархович. Увы, увы… Чувствую, мне не удастся вас переубедить… Почитаем-ка лучше газету.
Грибоедов взял с соседнего стола «Московские ведомости» и стал читать, то и дело вставляя язвительные замечания:
– «В Абруцских горах поймали недавно дикую девушку. Она имеет от роду лет пятнадцать, прекрасна собой, высока ростом, ловка и неимоверно быстра в движениях…» Представляю я сию красотку! Ха-ха… «Когда крестьяне старались поймать ее, она убежала от них с быстротой белки. Нашлись принужденные прибегнуть к хитрости и обставили любимое место ее пребывания сетьми, в которых она вскоре запуталась, убегая от приближавшихся к ней людей. Лютость ея была неограниченна и едва не сделалась опасною для ея противников, которые наконец овладели ею…» В каком это смысле? Что за язык у наших журналистов, где их учат писать подобные двусмысленности? «Ее привезли в Пескарской госпиталь. Она говорит языком, никому не понятным. Ее поймали совершенно нагую. Ей показывали платье, она посмотрела на него с удивлением, а потом изорвала с изъявлением величайшего гнева…» Бедная сиротка… Ну да ладно… «Между особами, собравшимися в госпитале из любопытства посмотреть сию дикую красавицу, находилась знатная и богатая дама, которая признала ее по родимому пятну на руке родною своей дочерью, похищенной нищими за четырнадцать лет перед сим. Ныне прилагают всевозможные старания для образования и укрощения нрава сего существа, но она изъявляет мало склонности к образованию. Всем представляющимся ей она объявляет смертную войну и мало заботится об ежедневных посетителях своих. Только один врач, кажется, ей понравился. Если он оставляет ее, то она приходит в уныние или бешенство, а когда он с нею, то бывает тиха и весела…» Вот так сказка! Как сказали бы древние, odi et amo!
Завалишин слушал Грибоедова вполуха. История дикой девушки, как бы занятна она ни была, не тронула его сердца. Но каким-то образом она разворошила его собственное недавнее прошлое. Дмитрию вдруг вспомнилась испанка с карими глазами и ее слова: «Я не хочу потерять вас…» Калифорния… Сеньорита Мария… Она была готова отказаться от своих родных, от своей веры, покинуть родину, чтобы остаться с ним рядом. А он, что он ответил ей? «Я мечтал бы сделать вас счастливой, но не могу…» Прав ли был он, отвергая любовь красавицы и подавляя свои чувства к ней, выбирая путь общественного деятеля? До сего момента нет в душе окончательного ответа, а вот ощущение, что все это было не с ним, а если и с ним, то в какой-то совсем другой жизни, вдруг появилось…
Николай Павлович в последнее время полюбил уединенные прогулки. Государственные заботы, продолжающееся расследование по делу мятежников, светская круговерть не оставляли возможности побыть наедине с собой. А человек, будь он заурядный мещанин или могущественный повелитель, нуждается в уединении. Можно даже сказать, что государь нуждается в этом больше.
Верховная власть сама по себе располагает к одиночеству. Она и есть символ одиночества. Тот, кому высший жребий предначертал быть во главе целого народа, всегда подобен неприступной горной вершине, на которую можно смотреть, только запрокинув голову. Никого подобного рядом. Лишь небо да Бог над головой. Но это одиночество публичное. Трон всегда окружен льстецами, царедворцами. От их назойливого внимания и услужливости трудно укрыться. Это мешает сосредоточиться, подумать о главном, услышать глас Божий. Откровение приходит к государю так же, как вдохновение к творцу. И так же, как наблюдателям, находящимся у подножия горы, бывает трудно разглядеть пик, скрытый облаками, подданным нелегко понять, о чем думает самодержец, что тревожит его царственный ум. Еще сложнее понять государя его близким. Да и есть ли таковые у единовластного правителя?
Николай Павлович в этом глубоко сомневался. Перед ним всегда – горький пример отца, умерщвленного по подсказке или с преступного попустительства собственного сына. Свой личный пример, когда и матушка-императрица, и братья Михаил и Константин в самый трудный для него и династии час отказались сотрудничать и поддержать его. А все эти придворные, теперь заглядывающие ему, оказавшемуся победителем, в глаза… Кто из них не прячет ножа за спиной, не жаждет отомстить за арестованного сына или изломанную судьбу дочери, которая замужем за мятежником? Разве поймут они благородство своего государя, выразившееся в нежелании предать огласке всю грязь, предательство и низость, которые открылись ему во время следствия? И это представители лучшего сословия, цвет нации…
Как сложится дальнейшее царствование, начавшееся с такой бури? Какие испытания дому Романовых еще готовит Провидение?..
Обычно Николай Павлович отправлялся на прогулку ранним утром. Его сопровождал только дежурный флигель-адъютант, шествовавший за ним на значительном удалении. Несколько солдат охраны, на которых настаивал граф Бенкендорф, по требованию царя должны были находиться вне поля его зрения. Правда, Александр Христофорович всегда умудрялся расставлять на пути императора агентов Фока, переодетых дворниками, садовниками и фонарщиками. Эти люди так рьяно занимались уборкой дорог, постриганием кустарника или чисткой фонарных стекол, что Николаю Павловичу порой казалось, что это настоящие смотрители за улицами и парками. Сам император, гуляя в одиночку, словно демонстрировал столице, что никого не боится и в государстве больше нет злоумышленников, дерзающих покуситься на него.
Это не было позой. Николай Павлович в тот день, на Сенатской, почувствовал, что в нем нет больше страха за свою жизнь. Очевидцы говорили после, что государь был очень бледен. Но сам император знал, что страха в нем не было ни тогда, ни потом, когда на следствии выяснилось, что двое заговорщиков – полковник Булатов и черноусый «кавказец» Якубович – готовились убить его. Не посмели. Это послужило Николаю Павловичу подтверждением Божьего промысла, убедило его в своей правоте…
В это утро император выбрал для прогулки Летний сад. Он медленно шагал по аллее, идущей от дворца Петра I вдоль Фонтанки, и радовался ранней весне. Листья на деревьях еще не распустились, но набухшие почки говорили, что это случится не сегодня-завтра. Негромко переговаривались среди ветвей вернувшиеся после зимовки птицы. Было так тепло, что Николай Павлович скинул шинель на руки флигель-адъютанта и остался в своем любимом конногвардейском мундире. Если бы не голубая андреевская лента, то издалека императора можно было бы принять за обычного офицера, прогуливающегося по саду в ожидании возлюбленной.
Да, весна, самое время предаваться любовным утехам. Но этой весной у Николая Павловича для них времени не было. Он только сейчас, глядя на пробуждающуюся природу, вспомнил, как давно не заглядывал на половину императрицы Александры Федоровны, не говоря уже о свиданиях с другими женщинами. Еще будучи великим князем, он не мог пожаловаться на отсутствие женского внимания. И сам, что скрывать, любил красивых и утонченных женщин. Одна фрейлина Нелидова чего стоит… Но свои связи и пристрастия Николай Павлович никогда не афишировал и поэтому слыл любящим мужем и примерным отцом. Таким ему и хотелось быть всегда, но бывает трудно устоять, когда на тебя с обожанием взирают очи юных прелестниц…
Лирические размышления императора прервал непонятный шум. Он увидел, что со стороны Марсова поля перелезает через ограду человек в серой накидке. Вот он преодолел препятствие и пустился бежать прямиком к императору. Наперерез ему метнулись несколько солдат. «Неужели кто-то из заговорщиков?» – пронеслось в голове Николая Павловича, но он ничем не выдал своей тревоги. Спокойно наблюдал за происходящим. Человек в накидке опередил солдат и теперь находился в двадцати саженях от императора. Николай Павлович смог разглядеть, что он очень молод, почти мальчишка, и в руках у него нет оружия. Сзади послышался встревоженный голос подоспевшего флигель-адъютанта. Император, не оборачиваясь, жестом велел ему ничего не предпринимать.
Не добежав до царя несколько шагов, незнакомец бухнулся на колени и, запыхавшись, выкрикнул:
– Прошу выслушать меня, ваше императорское величество!
В это время на него навалились гвардейцы, скрутили и ткнули лицом в песок аллеи.
– Оставьте его, – приказал царь. – Кто ты и как посмел явиться сюда? – строго спросил он незнакомца. Тот не выдержал тяжелого взгляда, залился краской, словно девушка, и промямлил еле слышно:
– Юнкер Главного артиллерийского училища Ипполит Завалишин, ваше императорское величество…
– Изволь отвечать громко, – взгляд императора сделался еще тяжелее. – Завалишин… Твоя фамилия мне известна. Кем тебе приходится генерал Иринарх Иванович Завалишин?
– Это мой отец, ваше императорское величество, – уже смелее отозвался юнкер.
– Значит, лейтенант Завалишин, подозреваемый в соучастии злоумышленникам, твой брат?
– Так точно, ваше императорское величество! Из-за него, из-за Дмитрия, я и дерзнул явиться прямо к вам, ваше императорское величество, нарушив требования субординации, – в голосе молодого человека зазвучала высокая нота. Он расправил плечи и заговорил так быстро, словно боялся, что его могут остановить, не дослушав. – Мне доподлинно известно, что мой брат лейтенант Завалишин является шпионом иностранной державы. Все, что я знаю, я изложил во всеподданнейшем донесении.
Он сунул руку под накидку и тут же снова был скручен стоящими по бокам солдатами. Император недовольно поморщился, но замечаний не сделал. Один из солдат залез в карман Завалишина, вынул конверт и протянул его флигель-адъютанту. Тот повертел конверт в руках и, не обнаружив ничего подозрительного, с поклоном передал царю.
Император взял донесение и приказал, указывая на юнкера:
– Посадите под караул и передайте генералу Бенкендорфу, чтобы произвел расследование…
Пройдя по аллее несколько шагов, император оглянулся: солдаты уже поволокли упирающегося и что-то выкрикивающего юнкера к выходу из сада. Николай Павлович с досадой подумал: надо было ехать на Елагин остров, там, на императорской даче, охраняемой с большим усердием, удалось бы обойтись без таких мешающих размышлениям встреч… Он попытался снова переключиться на более приятные мысли, но настроение было испорчено. Повертев конверт в руках, император хотел было передать его флигель-адъютанту, но передумал. Не снимая белых перчаток, он извлек письмо Завалишина и прочел:
– «Движимый усердием к особе и престолу Вашего императорского Величества и ныне имея случай открыть уже тайну, долго тлевшую под скопищем различных непредвиденных обстоятельств, спешу очистить сердце, горящее любовью к отечеству и царю справедливому, от ига, его доселе угнетавшего…»
Далее юнкер сообщал, что его брат совершил государственную измену и имел сношения с иностранными правительствами, за что получил от оных огромные суммы для произведения смут в России. Среди соучастников преступления брата Ипполит Завалишин называл подданного Гаитянской республики генерала Бойе, проживающего в Санкт-Петербурге, и нескольких морских офицеров, чьи фамилии были Николаю Павловичу незнакомы. В подтверждение своих слов юнкер присовокупил, что видел у брата мешки с английскими гинеями и немецкими талерами на сумму не менее десяти тысяч. В конце письма новоявленный герой писал, что за оказанную государю и отечеству услугу ожидает быть ни больше ни меньше как флигель-адъютантом…
«Вот и вся суть верноподданнейших чувств, – усмехнулся император. – Ради флигель-адъютанских аксельбантов родного братца не пощадил! До чего измельчал человеческий род… А meme, и он не оставит на земле ни глотка le grand air…»
В это утро по Дворцовой набережной неподалеку от Адмиралтейства прогуливались два человека в морской форме. Один из них – в мундире старого покроя, другой – в только что введенном на флоте однобортном. Оба с адмиральскими эполетами и золотым шитьем на вороте в виде якоря с витым канатом, но тот, что постарше, в чине полного адмирала, а более молодой – контр-адмирал.
Это были член Государственного совета, бывший морской министр Николай Семенович Мордвинов и на днях получивший должность инспектора классов Морского кадетского корпуса Иван Федорович Крузенштерн. Вместе с должностью он получил и первое адмиральское звание и потому нет-нет да и касался кончиками пальцев толстой золотой бахромы своих новых эполет. Мордвинову были понятны чувства новоиспеченного контр-адмирала: когда долго ждешь заслуженного чина, трудно удержаться от радости при его получении.
Крузенштерн – давний протеже старика Мордвинова. Благодаря Николаю Семеновичу на Ивана Федоровича, еще капитан-лейтенанта, пал выбор при отправке кораблей в первый кругосветный вояж. Крузенштерн не подвел своего благодетеля. В свою очередь и Мордвинов принял его сторону, когда царский посланник Резанов вздумал возложить на командира «Надежды» вину за бунт, якобы случившийся на корабле. Николай Семенович не только замял дело, но и предпринял меры, чтобы военные моряки и их начальник Крузенштерн получили высокие награды за свой поход. При помощи Мордвинова были опубликованы записки Ивана Федоровича, сделавшие его знаменитым далеко за пределами России.
Крузенштерн не забыл своего покровителя. Ему первому он и пришел представиться в новом звании. При взгляде на Николая Семеновича контр-адмирал заметил, что тот сильно сдал: сгорбились некогда могучие плечи, голубые глаза стали почти белесыми. И хотя старый моряк старался казаться бодрым, все – и походка, и голос – давали понять: время безжалостно. Иван Федорович догадывался, что здесь повинны также обстоятельства последних месяцев. Адмирал тяжело переживал случившееся в прошлом декабре и все, что последовало за подавлением мятежа. Крузенштерну по осторожным разговорам было известно, что новый государь узнал о планах заговорщиков сделать Мордвинова одним из членов Временного правительства и поэтому относится к заслуженному флотоводцу с недоверием. Будто в отместку, он назначил его членом Верховного суда над теми, кого старый адмирал считал своими учениками и младшими товарищами. Это бремя еще больше придавило Николая Семеновича, но на вопрос Крузенштерна, как идут дела, он ответил почти шутливо:
– Дела как сажа бела… У нас в отечестве, Иван Федорович, поверь мне, голубчик, нет ничего святого. Мы все удивляемся: почему, мол, в России нет предприимчивых людей, как, скажем, в Англии или той же Америке? Но скажи мне, кто же решится на какое-нибудь предприятие, когда не видит ни в чем прочного ручательства, когда знает, что не сегодня, так завтра его ограбят по распоряжению правительства и законно пустят по миру… Нет, мой друг, можно принять меры противу голода, наводнения, противу огня, моровой язвы, противу всяких бичей небесных и земных, но противу благодетельных распоряжений собственного правительства решительно невозможно принять никаких мер.
– Верно, об этом вы и спорите так жарко на заседаниях Государственного совета, ваше высокопревосходительство? – попробовал тоже пошутить Крузенштерн.
– Спор у нас там не то чтобы жаркий, а жалкий… – с горечью проговорил Мордвинов.
– Простите, ваше высокопревосходительство, смелость моих суждений, но когда нашим соотечественникам везло с государственными мужами? Разве что в пору вашей молодости, при Екатерине Великой, да еще раньше, при Елизавете Петровне…
– Лучше не вспоминай, Иван, не береди душу… Смотреть больно, что с флотом сделали… Негоже мне худо говорить о своих преемниках, но трудно удержаться. Сам посуди, кто они такие? Чичагов – бывший сухопутный поручик, маркиз де Траверзе – француз, потерявший отечество, теперь вот – Моллер… Сим господам не было и нет никакого дела до русского флота, если не сказать больше…
– Однако есть надежда, что при новом государе все переменится. Сейчас токмо и говорят, что о реформе флота, – попытался успокоить закипевшего адмирала Крузенштерн.
– Твои бы слова, голубчик, да Богу в уши. Давеча заглянул ко мне капитан второго ранга Лазарев Михаил Петрович, хорошо тебе знакомый… Был он в расстроенных чувствах и грозился рапорт подать об отставке. Я стал расспрашивать, что случилось? А он: «Вообразите, ваше высокопревосходительство, какое первое поручение дал государь комитету по преобразованию флота! Рассмотреть, какие кивера следует дать морякам!» Вот и все реформы! – старик выразительно окинул взглядом новую форму своего собеседника.
Крузенштерн улыбнулся:
– Без приведения мундиров к единообразию трудно добиться дисциплины и порядка…
– Да, это я понимаю. Но ведь главное-то – корабли! Корабли и люди, коих мы теряем! Насилу удалось мне убедить Михаила Петровича отказаться от своей затеи с отставкой. И так потерь на флоте не счесть… – адмирал посмотрел через Неву в сторону Петропавловской крепости. – Кстати, ты знал лейтенанта Завалишина, что ходил с Лазаревым на «Крейсере» вокруг света?
– Близко не знал, но о его идеях относительно Калифорнии наслышан. Говорят, что лейтенант опять под арестом…
– Да. И дела, как мне известно, у Завалишина неважнецкие… Я ведь имел на него серьезные виды, связанные с американским прожектом. Да и моряком он мне представлялся перспективным, чем-то на тебя похожим лет этак пятнадцать назад… Хлопочут за него многие уважаемые лица. А я, поверь, ничем помочь не могу, хотя и состою членом Верховного суда… Скажу тебе больше и без утайки, Иван Федорович, мне сия обязанность – хуже каторги. Нагляделся на допросах всякого. Одни оговаривают друг друга, лишь бы себя выгородить и наказание скостить, другие требуют четвертовать каждого второго заговорщика… А ведь прежде в либералах ходили… Имен тебе не называю. Ни к чему – меньше знаешь, спокойней спишь! Но вот тут, – адмирал ткнул кулаком себе в грудь, – камень, и дышать тяжко.
Мордвинов надолго умолк, хмуря седые косматые брови. Остановился и, посмотрев на Крузенштерна в упор, произнес, медленно выговаривая слова:
– Думаю, что впредь я не смогу быть более полезен и тебе, Иван, ни как покровитель, ни как советчик. Не перебивай! – заметил он протестующее движение контр-адмирала. – Скоро моей службе придет конец, и случится сие оттого, что впаду я у государя в еще большую немилость. Решил я не подписывать смертных приговоров никому из злоумышленников, к суду привлеченных, ибо никого из них не считаю такого наказания заслуживающим.
– А как же законы, ваше высокопревосходительство?
– Что законы! Ежели бы в нашем отечестве в законах не было такой путаницы, так и преступников осталось бы меньше, – старый адмирал так возвысил голос, что Крузенштерн нервно оглянулся. Но набережная была пустынна. Контр-адмирал тут же устыдился себя самого. Мордвинов понимающе усмехнулся:
– Ничего, Иван Федорович, оглядка в наше время не вредит. И язык лучше держать за зубами… Сам все понимаю, но ничего с собой поделать не могу: consvetudo est altera natura… Вот на днях опять полез на рожон – написал императору прожект, как надобно поступить с государственными преступниками, коих осудят на каторгу. Предлагаю из числа таких способных молодых людей, как упомянутый Завалишин, братья Бестужевы и другие, образовать в Сибири академию, в которой они будут заниматься положительными науками и способствовать процветанию сего дикого края.
– Полагаю, что основной упор вы сделали на минералогию и геологию?
– Не токмо. К наукам, названным тобой, я добавил металлургию, агрокультуру, физику, химию и математику с астрономией.
– Воистину domina omnium scientiarum, – задумчиво произнес Крузенштерн. – Но неужели у вас есть надежда, что его императорское величество утвердит сей проект?
– Надежды юношей питают, а я, дорогой мой Иван Федорович, стар и сед, как сказал бы Крылов. А письмо государю написал токмо оттого, что горько сознавать невосполнимую потерю для России столь блистательных талантов…
Крузенштерн не стал спорить, хотя и думал по-другому. Те, кем так восхищался Николай Семенович, по мнению контр-адмирала, заслужили свою участь. Выступив против государя, они дважды совершили преступление: против военной присяги и Всевышнего…
Память не подсказала Ивану Федоровичу в эти минуты, что когда-то давно, на Камчатке, он сам едва не угодил под суд за действия, мало чем отличающиеся от проступка нынешних подсудимых. По сути, и тогда, и сейчас в центре противостояния была борьба за власть, питаемая личными амбициями и жаждой бессмертной славы. Но не зря же упрекают человеческую память в несовершенстве. Она, при попустительстве совести, легко готова забыть все, что может огорчить ее хозяина.
Во времена различных бедствий маска цивилизации, как правило, слетает с примитивной физиономии человеческого большинства. Войны, революции, мятежи ни разу не обходились без злодеяний обеих противоборствующих сторон. Власть – это сила, а силу трудно удержать в рамках, словно меч в ножнах. Истина состоит в том, что меч, однажды отведав крови, в ножнах долго оставаться не может, подобно тому, как хищный зверь, попробовавший человеческой плоти, потом делается людоедом. Так происходит и с человеческим обществом, которое уверовало в силу меча. Его вожди или правители могут проявлять милосердие к побежденным и даже клясться, что никогда больше не прибегнут к силе, но время все равно сведет их обещания на нет. Обагренное кровью оружие в ножнах не успокаивается, оно жаждет дела и в конце концов находит себе применение. Но суть в том, что государь не может быть только философом, размышляющим о благе для своего Отечества и ничего не делающим, когда его власти и государству угрожает опасность. Вот и приходится властителю брать в руки злополучный меч и искать равновесие между крайностями: тиранией и добродетелью. Искать, памятуя о библейском предостережении: взявший меч от меча и погибнет…
Размышления Николая Павловича прервал Александр Христофорович Бенкендорф, явившийся для доклада о ходе следствия по обвинению лейтенанта Дмитрия Завалишина в государственной измене.
Из слов графа следовало, что факты, изложенные в доносе юнкера Ипполита Завалишина, не нашли подтверждения. В сношение с генералом Бойе пресловутый лейтенант вступил по поручению адмирала Мордвинова. Мордвинов рассказал, что намечалось плавание Завалишина вместе с Бойе на Гаити для налаживания торговых отношений. Что же касается иностранных денег, так это объясняется еще проще: лейтенант, находясь в кругосветном плавании, получал жалованье в испанских пиастрах, коих у него и осталось около семи тысяч. После очной ставки с лейтенантом Завалишиным Ипполит признался, что оклеветал его из желания выслужиться. Теперь он умоляет государя разрешить ему добровольную ссылку, дабы разделить бремя страданий со своим братом.
– Довольно об этом, граф, – прервал Бенкендорфа царь. – Скажите, а что старший Завалишин? Вы выяснили его причастность к мятежу?
– Да, государь. У нас достаточно свидетельств, что лейтенант знал о преступных замыслах заговорщиков и в беседах с ними выражал согласие на решительные действия против императорской фамилии.
– А его письма к покойному императору?
– Мы разыскали их в архиве, ваше величество. Содержание всех трех писем не может служить доказательством благонамеренности сего молодого человека. Скорее всего, они – лишь попытка выгородить себя и запутать Следственную комиссию. Да, вот еще: во время обыска в комнате, где сейчас содержится лейтенант, найдено это… – Бенкендорф раскрыл сафьяновую папку и взял помятую бумагу.
– Qu’est-ce que c’est? – спросил царь.
– Стихи, сочиненные лейтенантом Завалишиным. Дозвольте прочесть?
Получив разрешение, Бенкендорф с выражением продекламировал:
- Я песни страшные слагаю,
- Моих песней не петь рабам;
- Дворяне – вас я призываю
- И гибель возвещаю вам.
- Как смеете вы тем гордиться,
- Рабов имеете что вы;
- Тем боле должно вам стыдиться:
- Рабов имея – в рабстве вы…
- И вам ли думать о свободе,
- Коль угнетаете других!
- Коль ненавидят вас в народе
- Рабы ж – от рук падете их…
– Хватит, граф! Идея сочинения понятна и по этим строкам, а стихотворного дарования в них не нахожу… Явно не Пушкин.
Александр Христофорович вложил листок в папку и улыбнулся так, как умел только он, – уголками губ.
– Что вас так развеселило, граф? – император заметил перемену на лице Бенкендорфа.
– Я радуюсь вашему замечанию, государь. Сей вольнодумец и впрямь – не Александр Сергеевич Пушкин.
– Что же в том веселого? – в холодных выпуклых глазах императора графу почудился скрытый интерес.
– Только одно обстоятельство…
– И какое?
– Для России достаточно и одного Пушкина. Пожалуй, даже сверх меры…
– Вы правы. Предостаточно и одного. – Царь на минуту задумался и спросил: – Кстати, где сейчас сей поэт?
– Там, где и должен находиться, – в родительском имении под Псковом, государь. Пребывает под полицейским надзором. Такова была воля вашего покойного венценосного брата… – сказал Бенкендорф и осекся, вспомнив, что новый император не любит, когда вспоминают его предшественника.
– Хорошо, я помню, – сухо сказал царь. – Срочно подготовьте указ о возвращении Пушкина из ссылки.
Распоряжение оказалось для Бенкендорфа неожиданным, может быть, поэтому он осмелился осторожно возразить:
– Но, ваше величество, у всех заговорщиков найдены списки крамольных стихов Пушкина, являющихся прямым подстрекательством к мятежу… Он водил дружбу…
Видя, что царь встал из-за стола и направился к нему, Бенкендорф замолчал. Николай Павлович подошел вплотную к графу, крепко ухватил одну из блестящих пуговиц на его мундире и, покрутив ее, словно проверяя, крепко ли пришита, строго посмотрел Александру Христофоровичу в глаза.
– Сие мне известно, – сказал он. – У вас есть что-то новое сообщить мне?
– Получены сведения, что поднадзорный Пушкин без разрешения властей пытался выехать в Санкт-Петербург как раз накануне заговора… – поеживаясь под взглядом царя, проговорил граф.
– Пытался? Но не доехал же! – внезапно развеселился император.
Граф облегченно вздохнул и развел руками: мол, точно так, не доехал.
– Поймите, Александр Христофорович, – вновь сделавшись серьезным, назидательно сказал царь, – таких людей, как этот Пушкин, в Отечестве нашем единицы. Да вы же сами только что меня в этом убеждали…
– Совершенно с вами согласен, государь.
– Так вот… Лучше, если такие, как он, будут служить нам, нежели находиться в стане наших неприятелей… Говорят, что поэты – не разум, но инстинкт нации, ее интуиция. Я склонен думать, что к Пушкину сие замечание не относится. Судя по тому, что он пишет, это – умнейшая голова во всей России. Нам надо обратить эту голову в нужную сторону. И знаете, что я придумал, граф? Я готов для столь значимой цели сделаться личным цензором его сочинений…
– Не устаю удивляться вашей мудрости и вашей прозорливости, мой государь, – склонил голову Бенкендорф.
– Поторопитесь с указом. И вот еще что… Попросите Пушкина составить для меня записку с изложением его мыслей о народном образовании.
– Будет исполнено, ваше величество. А что делать с Завалишиными?
Николай Павлович, к которому вернулось благодушное настроение, распорядился:
– Юнкера за лживый донос и дерзость – разжаловать в солдаты и отослать подальше от столицы. А лейтенанта… Где он сейчас?
– В здании Главного штаба. Содержится под арестом с другими подозреваемыми.
– Переведите в крепость. Одиночество благотворно для начинающих поэтов, ибо способствует вдохновению…
8 июня 1826 года Верховный суд вынес приговор по делу ста двадцати одного государственного преступника, замешанного в декабрьском мятеже. Через два дня император утвердил приговор, внеся в него свои изменения. Правда, эти изменения не коснулись вердикта, вынесенного судом, в отношении Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского. Однако девяносто одному осужденному государь снизил на разряд назначенное наказание, в том числе и тридцать одному приговоренному к смертной казни отсечением головы, заменив ее вечной каторгой. В числе удостоившихся права жить по монаршей милости был и осужденный под номером сорок два Дмитрий Завалишин.
Утром 11 июня начальник Главного штаба генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич передал в Морское министерство высочайшие инструкции по проведению разжалования осужденных морских офицеров. Обряд должен был состояться через месяц в Кронштадте, для чего предлагалось на флагманском корабле на крюйс-брам-стеньге поднять черный флаг и выстроить на шканцах представителей всех судов, находящихся на кронштадтском рейде, в соответствии со следующей разнарядкой: по одному штаб-офицеру, одному лейтенанту, одному мичману и одному матросу с каждого корабля.
…В полночь с 10 на 11 июля Дмитрия Завалишина подняли с постели в камере Алексеевского равелина, приказали надеть флотский мундир и вывели во внутренний двор крепости. Там были уже собраны обитатели остальных камер тюремной цитадели. Начались шумные объятия и приветствия. Стража стояла поодаль и не вмешивалась.
Через какое-то время моряков отделили от остальных узников и повели к выходу из крепости. У причала дымил высокой черной трубой пароходик с именем «Елизавета» – первое российское судно на паровой тяге. Завалишин, как и все моряки, хорошо знал этот пароход. Построенный в 1815 году, он курсировал по одному и тому же маршруту: Санкт-Петербург – Кронштадт. «Вот куда нас повезут, – догадался лейтенант. – Значит, приговор приведут в исполнение там…»
Осужденные и конвой взошли на палубу. Пароход издал гудок, напоминающий предсмертный крик чайки, и его огромные, выступающие над палубой колеса с шумом ударили по воде. Короткая летняя ночь была уже на исходе. Небо над Невой и городом было светло-серого цвета, но истосковавшимся по открытому пространству узникам оно казалось прекрасным. Завалишин вместе с остальными полной грудью вдыхал речной воздух, в котором чудился запах моря, и даже пароходный дым не вызывал у него, поклонника парусного флота, обычного раздражения. Он вглядывался в проплывающие мимо силуэты зданий, не участвуя в разговорах товарищей, которые возобновились, как только узники оказались на борту.
Вскоре стража, очевидно испугавшись, что кто-нибудь из арестантов бросится в воду, развела всех по каютам и заперла там. Дмитрий задумался. Он размышлял о разрушительном действии на человека ожидания и бездействия. Оказавшись в одиночной камере, Завалишин сразу же ощутил это на себе. Чтобы не впасть в отчаянье, он решил, что и в крепости должен продолжать работать над самоусовершенствованием. Поскольку распорядок дня для заговорщиков был достаточно свободным, Дмитрий определил для себя, что будет спать не более шести часов в сутки, посвящая остальное время чтению и физическим упражнениям. Обратившись к коменданту с просьбой дать ему какие-нибудь книги из тюремной библиотеки, он получил ответ, что разрешается читать только Псалтырь и Библию.
– Хорошо, дайте мне Библию.
Книгу ему принесли, но она была на древнееврейском языке. Тогда Дмитрий решил изучать этот язык и за два месяца справился с такой задачей.
Тюремные месяцы вообще многому научили его, помогли по-новому взглянуть на мир и прежних знакомых, открыли, как переплетены в людях разные качества: трусость и благородство, предательство и самоотречение. Теперь все уже позади, но Завалишин помнит, как потрясли его очные ставки с Рылеевым и мичманом Дивовым. Мичман прямо на очной ставке бросился Дмитрию в ноги и умолял простить его за свидетельские показания.
– Я дал их токмо оттого, Дмитрий Иринархович, что надеялся: вы с вашими связями уже смогли скрыться за границей и мои слова вам никоим образом не повредят…
Молодой человек совсем запутался и, похоже, находился в глубоком психическом расстройстве. Дмитрий успокоил мичмана, сказав, что не считает его виноватым.
Рылеев же, напротив, повел себя при встрече с Завалишиным дурно. Перед следователями он принялся увещевать лейтенанта:
– Теперь уже нечего запираться. Советую вам раскрыть свое сердце комиссии и государю, как сделал я сам, надеясь на милосердие к раскаявшемуся…
Тут Рылеев начал называть фамилии знакомых Дмитрия, которые якобы состояли в тайном обществе.
– Послушайте, Рылеев, – резко сказал Завалишин, – ведь это гнусно. Вы ищете возможность теперь выслужиться и запутываете даже тех, кого прежде пытались увлечь самыми дурными страстями… Вспомните, как вы прежде проповедывали всем, что в случае ареста лучше дать себя разрезать на куски, но не открывать ничего.
Рылеев заметно смутился и неожиданно попросил следователей:
– Прикажите ему удалиться. Я хочу сообщить комиссии кое-что, чего этому человеку не надобно слышать!
После встречи с Рылеевым к Дмитрию и пришло ясное понимание причин провала мятежа. Мысли сложились в четкую формулу. Он знал, что теперь никогда уже не забудет ее и при первой возможности запишет, чтобы сохранить правду о происшедшем для потомков. «Правила, которыми руководствовались главные деятели тайного общества, были личные цели на первом плане, совершеннейший хаос в понятиях, непонятное легкомыслие людей, взявшихся за важное дело, отсутствие какой-либо подготовки к нему, какого-либо понятия о необходимости ее для успеха, каких-либо соображений о последствиях. Все предпринималось наобум, все предоставлялось случайности… Четырнадцатого декабря действовали внешние обстоятельства, не зависящие от деятелей, которые, напротив, только портили все, что само давалось в руки. За дело исправления зла взялись люди фраз, а не дела…»
Но помимо разочарований идейного плана Дмитрия ждали разочарования личные. Ипполит – любимчик мачехи и вечный баловень судьбы – решился оговорить старшего брата, еще совсем недавно спасшего его из долговой ямы. Дмитрию, вернувшемуся из Америки, пришлось расплачиваться с крупными карточными долгами Ипполита. Младший брат тогда клялся ему в вечной преданности. И вот следствие его клятвы… Это, пожалуй, пострашнее, чем предательство бывших соратников…
Тогда он решился написать императору письмо, в котором помнит каждую запятую.
«Познав свое заблуждение, временное помрачение рассудка и преступные его следствия, среди горького раскаяния и рыданий, повергаясь ниц перед Твоим величием, дерзаю умолять Твое милосердие о нижеследующем. В Сибири на берегу Иртыша, по ту сторону Тобольска, находится монастырь Иоанна Предтечи. Великий Государь! Лиши меня чинов и дворянства, я сделался недостоин их навсегда, и повели сослать в Сибирь в вышеупомянутый монастырь, дабы там, в уединении от людей, я бы мог проводить остальные дни свои в непрерывном служении Богу и очищать себя трудами, покаянием и постом, молясь день и ночь о ниспослании Тебе здравия и долголетнего и счастливого царствования, чтоб, наконец, когда сделаюсь того достойным, воспринять в той же обители сан иноческий!