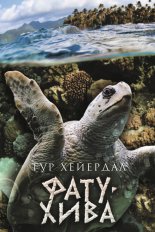Курьер из Гамбурга Соротокина Нина
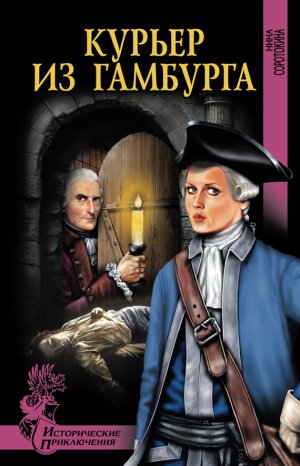
– Дело рано заводить. Подождем. Может, еще объявится.
Поход к квартальному был весьма своевременным, потому что именно в этот день явился настоящий Шлос. Вел он себя возмутительно. За время жизни с опекуном он нахватался русских слов и уже решил, что может изъясняться на этом языке. Жизнь с каретником тоже научила Февронию разговорной немецкой речи. На этом странном воляпюке они и разговаривали.
– Где есть бестия, негодяй, мерзавец и грязный скот, который присвоил мой имя, деньги и честь? – вопил Шлос.
– Вы кого имеете в виду, господин хороший? Только не надо глотку драть.
– Он носил мое имя – Альберт фон Шлос.
– Если вы о моем постояльце, то он исчез.
– Что значит – исчез? Покажи мне дом! Я сам его найти, обнаруживайт и убивайт.
– Ты, сударь, не ори! Комнаты постояльца я тебе покажу, а в моем доме тебе делать нечего.
– Вы его прятать от меня, вот что есть правда. Россия страна воров и негодяев. В Европе совсем другой порядок. У нас закон и умные правители, а у вас всюду обман и взятки.
– Правителей-то наших оставь в покое, обмылок! – Феврония уже стояла в боевой позиции, руки в боки, подбородок вздернут, глаза, как два факела.
Поодаль маячила фигура Озерова. Он явно забавлялся происходящей на его глазах сценой, но боялся подойти. Потом все-таки превозмог страх, подошел к Февронии и зашептал в ухо.
– Скандал у нас был страшный. Вообрази, наш Альберт никакой не Альберт, а самозванец с чужими документами. Он ведь деньги у господина Шлоса украл. Его надо непременно найти.
– Вот и ищи! – огрызнулась Февронья. – Только не раньше, чем с квартиры моей съедешь. Я тут у себя никаких масонов не потерплю.
Озеров испуганно икнул, вытаращил глаза и на полусогнутых ногах поплелся к себе во флигель.
– Вы есть грязный женщин, – продолжал блажить Шлос. – Вы сговариваетесь за моей спиной с этот господин. Ведите меня в его конуру!
– А вот это шиш! – Феврония подтвердила свои слова выразительным жестом. – Я тебя не знаю и знать не хочу. Если ты и впрямь потерпевший, то приходи ко мне с полицией. А сейчас вон с моего двора.
– Я накажу вас. В Сибирь! В Сибирь! Вы есть хам. Я не верю ни одному вашему слову.
Не будем приводить эту перебранку полностью. Шлос не ограничился разговором с хозяйкой. Он добрался до каретника, хотя Феврония физически пыталась этому воспрепятствовать. Обмен любезностями с хозяином отличался от предыдущего объяснения только тем, что оскорбительные слова Шлос произносил по-немецки.
Охрипнув и иссякнув, Шлос заверил хозяев, что так дело не оставит, а сообщит в полицию, и у катерника и мерзкой супруги его будут большие неприятности: уж в это вы мне можете поверить. На этом и расстались. Про коня Доброго Шлос, по счастью, не спросил… Надо бы избавиться от жеребца, решила Феврония. И чем скорее, тем лучше.
Феврония не простила Шлосу – щенок заморский! – безобразной сцены. На следующий день она опять пошла к квартальному и сделала официальное заявление. Тайное общество, господин офицер. Вообразите, тайная секта свила гнездо в ее хозяйстве, осквернила своим присутствием добропорядочный дом. Называют себя вольными каменщиками. Большинство из них – немцы. Какие у них цели, один Господь знает. Врут промеж себя, что истину ищут, а я так понимаю, что они замышляют недоброе. Что недоброе? А заговор составляют против матушки государыни, вот что. Один из них – немец фон Шлос, не постеснялся мне прямо в лицо говорить про государыню оскорбительные речи.
– Так вы же говорили, что Шлос пропал. Нашелся, значит?
– Никак нет. Не нашелся. На его место другой явился и стал орать, что он настоящий Шлос и есть, а тот, который пропал, есть подложный. Но не в этом дело. Масоны – опасные люди. И все что-то шепчутся, выведывают. Проверить бы надо. Нет, господин офицер. Сама я писать не буду. Читать умею, а пишу плохо. Вы изложите все своими словами на бумаге, а я подпишу. То есть крест поставлю.
Эпизод в доме каретника принимал новый окрас. Одно дело, человек пропал, и совсем другое, если произнесено слово – политическое общество. И почему-то имеют место быть два немца с одинаковой фамилией!
На следующий день в дом каретника Франца Румеля явились с обыском два офицера полицейской управы – поручик и капрал. Молодые, бравые, внимательные и явно о себе куда больше понимающие, чем прочие обыватели. Вид у них был не сказать, чтобы очень недоверчивый к мирозданию, а какой-то въедливый, словно они все время вслушивались во что-то и слышали звуки, которые обычное ухо уловить не в состоянии.
– Мещанка Феврония Румель?
– Так точно. Это по второму мужу, а в девичестве Коробкова. Хоть и Румель, вере православной верна.
– Покажите комнаты вашего квартиранта, – решительно приказал чернявый поручик.
Читатель ошибается, если думает, что настоящий обыск умели делать только у нас в советские времена. Тайные сыскные дела и в XVIII веке были поставлены на широкую ногу. Обыск велся очень тщательно, глядели во все глаза. Во всяком случае, когда ушастый капрал, уши, как морские раковины, заглянул за икону, он тут же сказал поручику:
– Здесь лежало что-то. С собой унесли.
Поручик чиркнул себе в книгу карандашиком, а Феврония ругнулась мысленно: «Вот ведь скрытная девка! Опять ее, дуру старую, вокруг пальца обвела. И нет бы самой заглянуть за икону-то. Ведь пыли там собралось видимо-невидимо».
В комнате меж тем началось что-то невообразимое. Перетряхнута была вся постель, одеяла на пол, все подушки ощупали, только что перину не вспороли. Стулья, кресло, шкапчик – все было обследовано самым тщательным образом, но самое большое внимание полицейские уделили одежде Шлоса. Среди пары рубах одна была ненадеваная, она интереса не представляла, а другая, ношеная, была обследована самым внимательным образом, поручик даже понюхал пятна на манжете. «Кофе?» – высказала догадку Феврония, офицер снисходительно скривился, дескать, для вас, женщина, это может быть и кофе, а для нас, служилых, это наверняка кровь. В камзоле вывернули наизнанку карманы, даже башмаки были обследованы на предмет, не таится ли какая-нибудь тайна в каблуках или под стелькой.
Феврония стояла рядом ни жива ни мертва. А вдруг эта неумеха Глафира забыла какую-нибудь важную деталь, теперь будет на ней поймана, и вся, с таким блеском задуманная комедия превратиться в трагедию со страшным концом. Пока все шло спокойно. Но дошло дело до двух оставленных немецких книжек. Капрал взял их поочередно за обложки и раскрыл веером. При этом казалось, что он вслушивается в шелест страниц, словно по шороху пытается определить, не таит ли сия книга в себе что-то опасное. И ведь услышал! Из второй книги выпорхнул листок и, мягко кружа, упал на сапог поручику. Офицеры дружно нагнулись…
– Фамилии, – сказал поручик.
– Список, – подтвердил капрал. – И сколь важные все имена…
Далее они перешли на шепот. Феврония вся превратилась в слух, но не все из услышанного ей удалось разобрать и осмыслить.
– Смотри, – шептал поручик, – Чернышев, елы-палы… А не граф ли это Захар… Чернышев? И Голицын тут. И главное, все без имен, одни фамилии. Какой из Голициных-то?
– А ты хочешь, чтоб тебе и имя, и прозвание, и местожительство…
– Ладно зубы скалить. Наумов… знаешь, кто такой?
– Нет. Здесь указано кап. – пор. Ни у одной фамилии ни должности, ни звания. А здесь кап. – пор.
– Это значит капитан-поручик. Этот Наумов из гвардии. Надо будет проверить. Еще Бакунин…
– А не тот ли это Бакунин? – далее шу-шу-шу. А потом в голос: – Ой, не нравится мне этот список!
«А не тот ли это капитан, который ночью явился на наш двор? – думала меж тем Февронья – Он ведь орал свое имя-то. Точно, Наумов. Что ему понадобилось от Глафиры? По масонским делам, когда правду ищешь, можно и повременить, дня дождаться, а не будить всех. Значит, было что-то неотложное. И еще Бакунин. Не приведи Господь, что это тот самый Бакунин, перед чьим домом Мишка с Глафирой спектакль разыгрывали. Полицейские землю так и роют, до всего дознаются. Но об этом до времени молчок. Только если за грудки схватят, а так ничего не знаю, ничего не видела. Господь, оборони! Неужели я действительно угадала, что здесь политика?»
Полицейские еще раз прошлись взглядом по комнатам, и наконец удалились, сказав на прощанье Февронии, что если будет нужда, ее вызовут в участок для новых показаний. Господи, грех-то какой! И главное, собственными руками втащила себя в ужасную историю. Надо идти к Глафире. Девка окаянная! Так и напичкана вся тайнами.
В этот же вечер она сказала мужу, что отправится к куму в гости, они давно звали в новой баньке попариться, так что, скорее всего, она там и заночует.
– Рассказывай, окаянная, какой список оставила в немецкой книжке?
– Список? Не понимаю, о чем ты говоришь.
– Листок, а в том листке имена.
– Господи! – пролепетала Глафира. – Я сама эти фамилии записала, чтобы не забыть, а когда собиралась, про эти немецкие книжки даже не вспомнила.
– Что это за фамилии?
– Так… люди. Важные люди, близкие ко двору. Масоны. Помнишь, я рассказывала, что мне с Бакуниным надо познакомиться?
– Бакунина помню, а прочие там зачем? И Наумов, который ночью ворота ломал, тоже в этом списке.
– Ты мне листок-то отдай, и забудем об этом, – примирительно сказала Глафира.
– Не могу я тебе его отдать, потому что он в полицейской управе. А ты как думала? Один Шлос исчез в неизвестном направлении, другой явился, ругался, как сатана, вот полиция и пришла с обыском.
Как там в хороших романах описывают сцены, когда нежные девы в нужные минуты падают в обморок? Блаженное, видно, состояние. Вместо того чтобы на страшные вопросы отвечать, лежишь себе, словно во сне, а люди вокруг тебя хлопочут: дайте ей воды, ослабьте воротничок! Потом, когда сознание вернется, видишь вокруг себя только участливые лица. И никто уже на тебя не орет, все понимают, что дева и так настрадалась, теперь она не стоячая, а лежачая, а лежачих не бьют.
Но не отключалось сознание-то, хоть плач, а рука Февронии тянулась к ней не для выказывания участие, а чтоб за горло схватить.
Глафира быстро залезла ногами на постелю, сжалась в комок и даже подушкой прикрылась. Со страху вся она покрылась гусиной кожей, и только ладони и разом взмокли от пота.
– Говори, как на духу! – Феврония откинула подушку и занесла руку, словно хотела ударить, но передумала, схватила за плечи и стала трясла, словно душу хотела вытрясти.
– Ладно, скажу. Отпусти, больно. Я все скажу. Повинюсь. Я боялась, что без денег останусь. А здесь появился в городе немец по фамилии Виль. Масон из Гамбурга. Он думал, что я настоящий Шлос и сказал, что Пруссии нужна помощь. И еще он сказал, что в Петербурге есть люди, которые хотят посадить на русский трон законного царя. Да отпусти ты руки-то! Законного наследника князя Павла Петровича. И все это во благо России и по законам справедливости.
Феврония смотрела на девушку с ужасом.
– Виль мне этих людей назвал и денег дал, чтобы я нашла к ним подход и о намерениях Виля предупредила.
– И ты, ввязалась, окаянная, в такие дела? – простонала Феврония. – Ах ты, дура, дура непочатая! Это что же такое навалилось на мою голову? Ведь не идиотка же ты! Должна же ты хоть что-нибудь соображать глупой своей головой. Ведь не малое же ты дитя!
– Но ведь здесь все по закону. Мать-то у сына трон силой отобрала. Поиск истины, Феврония, вещь сложная. Великий князь Павел имеет такие же права на престол. И вообще не нашего ума это дело.
– А золото прусское брать – твоего ума дело? За иконой их хранила?
Глафира перекрестилась, уж не ведьма ли ее квартирная хозяйка, если до всего умеет дознаться?
– Я тебя на своей груди пригрела, все для тебя делала, – продолжала причитать Феврония, – а теперь вижу – змея ты анафемская! Ты же все время врешь! Может, ты и историйку свою слезливую тоже сочинила? Ты кто?
– Глафира Турлина… – опять прикрываясь подушкой прошептала девушка.
– А кто это может подтвердить?
– Варя… Сестра моя!
– Варя всего лишь несмышленыш из Смольного общества. Она что хочешь подтвердит. Что она помнит из своего детства? Сама говорила, ей было всего шесть лет.
– Степан Кокошкин может подтвердить. Ты написала ему письмо?
– А кто мне подтвердит, что явившийся ко мне молодчик подлинный? Может, он тоже переодетый агент, который на службе у пруссаков состоит?
Как не нервна и трагична была ситуация, Глафира улыбнулась.
– Ты Феврония, как только его увидишь, сразу поймешь, что он никакой не шпион, а именно мой старый друг Степка Кокошкин. У него все на лице большими буквами написано. Ты прости меня, что втянула тебя во всю эту игру. Дурища я, конечно, полная, не отрицаю. Влечет меня жизнь, как щепку по Неве. Давай уж и в последнем перед тобой повинюсь, чтобы не было про меж нас недомолвок.
– И какую еще ты мне гадость припасла?
– Вряд ли ты получишь с меня обещанные деньги. Федор Бакуннн сказал между делом, что опекун меня обворовал. Во всем виновата его страсть. Этот старый козел Ипполит Иванович любит итальянские картины покупать, а они стоят очень большие деньги. Вот на эти покупки он мое наследство и пустил.
– Та-а-к… – Февронья сложила руки на коленях и уставилась в пол. Видно было, что нервная встряска, а главное, довесок – сообщение о напрасности всех усилий, совершенно выбили ее из колеи. Не было больше сил ни на крики, ни на упреки.
Глафире было непереносимо это молчание:
– Можешь меня выгнать, можешь в полицию сдать. Жизнь моя кончена, как ты понимаешь. У меня сейчас один путь – камень на шею и в канал. Недаром опекун сочинил легенду, что я утонула. Видно, судьбу не обманешь.
Феврония подняла на нее глаза, темные, тяжелые, как ртуть, они казались неживыми.
– Если ненароком попадешь ты в Тайную экспедицию, не сознавайся ни в чем. Ты из дома бежала в женском платье, скиталась, в доме моем не была и кто я такая есть, не ведаешь. Ври, что хочешь, но в правде не сознавайся. Список ты не писала и что в нем, не знаешь. Стой на своем, а то мы все на каторгу по твоей милости пойдем.
– А что такое Тайная экспедиции? – Глафира наконец расплакалась, но слезы не принесли ей облегчения.
– А это такое место, где правду ищут без всякой жалости. Полвека назад называлось это место Преображенский приказ, потом Тайная канцелярия. Убиенный государь Петр ее упразднил, но супруга его, матушка государыня, дай ей Бог здоровья и всяческого благополучия, обустроила с господином Шешковским Тайную экспедицию. Он ей сейчас и заведует. Прозвище у Шешковского «великий инквизитор», то есть гад последний, и весь город боится его, как огня.
– Ты на меня донесешь?
– Сиди в светелке тихо, как мышь. Дождемся твоего Степана и вместе будем думать, что делать. Да и захочет ли он тебе помогать? Ты же теперь преступница. Понимаешь ли ты, что истинно есть преступница!
– Может, мне за границу бежать?
– Ой, грехи мои тяжкие. Посадил Господь на шею бестолочь. Твоя простота хуже воровства. Еще не хватало, чтобы тебя на границе, балбеску, перехватили. На улицу ни ногой. Меня не жди. Я здесь появлюсь, если хоть что-нибудь проясниться. Кума я в наши дела посвящать не буду. Не приведи Господь, он сболтнет что-нибудь лишнее, тогда нам не жить.
Вернувшись домой, Феврония зашла в светлицу, в которой недавно обитала Глафира. Бумага, чернила – все было к ее услугам. Она только слегка обманывала полицейские чины, утверждая, что в грамоте слаба. Писать умела, но плохо и коряво. Раньше за нее Глафира записки строчила, теперь надо самой, больше некому.
Прежде чем приступить к трудному занятию, она встала перед иконой на колени:
– Матерь Божья заступница. Вразуми, подскажи, что делать. Даже у Глафиры, дурочки блаженной, есть помошник, а мне совсем не на кого положиться. Пошли мне благостные мысли.
Она умакнула перо в чернила и вывела печатными буквами: «Кровинка моя Натальюшка!» Предуведомление Февронии было написано без единого знака препинания и с полным пренебрежением грамматических правил. Но не буду утруждать читателя нагромождением нелепостей. Приведем текст ее к удобоваримому виду. Итак…
«Кровинка моя Натальюшка! Предуведомление сие очень важное. Как только прочитаешь его, тут же уничтожь, потому что дела здесь государственные. Нельзя, чтобы писулька моя попала в чужие руки. Случилась у нас большая беда. Дурища Глафира подвела под подозрение благодетеля Вари Бутурлиной – Бакунина. В списке не только Бакунин, но и другие важные люди. Если дело кончится арестом, то никаких денег Варваре не видать, и будет Варвара бесприданница. Я не знаю, кого из Бакуниных подозревают – отца или сына, но нам с тобой и то плохо, и другое не лучше. Пусть Варвара упредит Федора Бакунина – так, мол, и так. Подозревают его в заговоре против государыни. Варваре сообщи об этом деликатно, потому что Глафира сказывала, что она сохнет по нему, по Федору-то. Мне пошли только записочку с одним-единым словом: получила».
Архип передал письмо Наталье с таинственным видом, присовокупив шепотом:
– Матушка ваша в роще уже третий час ждет ответа.
– Что значит – ждет ответа? А где ты раньше был?
– Так занятия у вас, потом обед.
– И какой я должна дать ответ?
– Письменный. Вы записочку прочитайте.
– Да что я напишу? У меня и пера нет. Может, отведешь меня к матери или ключ дашь?
– Днем никак невозможно. Места лишусь. Ночью другое дело. Только предупреди заранее.
«За те деньги, которые мать тебе платит, мог и днем рискнуть», – подумала Наталья, но спорить не стала.
– Ладно, жди меня здесь.
Через десять минут девушка принесла к беседке ответ. В записке были лишние фразы. К слову «получила», Наталья добавила: «…только ничего не поняла. Я должна знать все подробности. Мы должны увидеться. И принеси с собой мокрую глину».
Давняя мечта Февронии о том, чтобы дочь ее подружилась с кем-нибудь из благородных, сбылась. После ночной встречи сестер, коей Наталья стала невольной участницей, у Вари и воспитанницы-мещанки установились свои отношения. Их нельзя было назвать дружбой, виделись они редко, да и характер у Натальи был суровым, но Варя очень дорожила новыми отношениями, и Наталье это было приятно. Встречи их происходили на прогулке, иногда Наталья только и успевала, что передать письмо от Глафиры, но случалось, ночью Варя отваживалась опять сделать из подушек подобие лежащего тела и отправлялась в опасное путешествие по темным коридорам к комнатенке Архипа.
Разговаривая с Варенькой, Наталья дивилась, какая эта благородная смолянка наивная, можно даже сказать – совсем дите. А ведь шестнадцать лет, уже для брака созрела, а ничего, кроме институтской жизни, не знает. О своих буднях Варя рассказывала по-детски непосредственно, высказывала мелкие обиды на подруг и ругала классных дам.
– Я думаю, что вас лучше учат, чем нас, – говорила Варенька, – мы изучаем умные науки, электричество, например, но все знают, что все эти искры и молнии нам ни к чему, что основная наша учеба, это бегло трещать по-французски и грациозно делать книксен. Скажу тебе по секрету, это у нас называется «обмакиваться». Катенька Нелидова обмакивается изящнее всех, даже изящнее Глаши Алымовой. А классные дамы? Что они от нас хотят? Мы умные книжки читаем. Ты знаешь, кто такой Вольтер? А Монтескье? И правильно, что не знаешь. Они и нам не нужны, потому что важнее всяческих знаний хорошие манеры. И главное, прямо держать фигуру и не горбиться. Быть сутулой, это грех, так говорит моя классная. Если будете горбиться и иметь плохие манеры, вас никто, никогда не возьмет замуж.
После этих слов Варенька заливалась хохотом. Здесь и Наталья не выдерживала, тоже начинала смеяться. Сама она никогда не жаловалась, хотя много к тому было поводов. В Мещанском училище с девушками не сюсюкали, не умилялись их знаниям, могли и затрещину дать. Не секли всенародно, и то хорошо.
В первое же из их ночных свиданий Варенька, замирая и вслушиваясь в себя, произнесла имя «Федор». Это один пригожий молодой человек, сын ее опекуна, и он ей нравится, нравится. Сам-то опекун обезножил из-за подагры, и теперь Федор Бакунин время от времени навещает ее. Конечно, не так часто, как хотелось бы. Но в Смольном Обществе такие законы, ты же знаешь.
Как только лелеемое в душе слово обрело звук и выпорхнуло наружу, Варя уже не могла остановиться. Ей необходимо было поделиться с кем-то своим счастьем, иначе она просто задыхалась. Говорить о своей любви с подругами она не могла, хотя тема женихов и будущего замужества была главной в задушевных беседах, но каким-то неведомым образом о реальных и придуманных кавалерах сразу узнавал весь класс. Радость знакомства с обожаемым делилась на всех. Каждая воспитанница была вправе отщипнуть от этого пиршественного пирога, таковым было условие любовной игры. А вот этого Варя допустить никак не могла. Бакунин принадлежал ей и только ей, и сознание, что уж Наталья никак не покуситься на ее собственность, делало ее совершенно откровенной.
Собственно, подкладкой тесных ее отношений с Натальей и были разговоры про Федора Бакунина. Ожившая чувственность стояла как ком в горле, иногда вдруг странно начинал ломить низ живота. Целомудренная Варенька пугалась этих странных ощущений и, проговаривая мечты свои вслух, она хотя бы временно обретала телесный покой. Наталья была на два года старше, и уже поэтому ей приходилось играть роль и няньки, и гувернантки, и старшей сестры, и даже матери, которую Варе не суждено было узнать.
Что может быть более желанным и увлекательным для юной девы, чем разговоры о своем возлюбленном? Варя пересказывала мельчайшие подробности их редких встреч, вспоминала, в чем он был одет, какая погода стояла на дворе в момент их свидания. Он любит темные парики, вопреки моде, да, да, хотя мог бы вообще обходиться без париков, у него чудные каштановые волосы. А какие у него глаза! По поводу бархатных и бездонных глаз Варенька распространялась особенно подробно, потому что в первое их свидание раз он как-то особенно сощурился, другой раз посмотрел так выразительно, что душа ушла в пятки, третий раз глаза его были отуманены нежностью, и так далее по кругу до бесконечности. И удивительное дело, терпеливо слушая рассказы Вареньки, Наталья никак не узнавала в них молодого щеголя, который с давних пор, задолго до знакомства с Варей, стал волновать ее сердце.
Потом Варя показала свою высшую драгоценность, которую она носила под грудью, а чтоб не морщилось платье, туго подхватывала свой трофей поясом. Обычай носить на теле какую-нибудь вещь «обожаемого» был таким же стойким в Обществе, как молитва перед сном или страх перед Белой Дамой. Хранили пуговицы, обрывки тесьмы, платки, а Варенька хранила забытую Бакуниным серую перчатку.
При виде этой вещицы у Натальи шевельнулось в душе что-то вроде опасной догадки, но она тут же прогнала ее прочь. Мало ли таких перчаток на свете, их весь Петербург носит.
Как уже было говорено, Екатерине не нравилось, что дети простолюдинов учатся в одном помещении с юными дворянками. Жизнь их протекает отдельно, но удержать девочек от контактов трудно, иногда невозможно. А вдруг молодые мещанки и солдатские дочки научат благородных смолянок не тому, чему следует? О крайностях не говорим, но согласитесь, народ по сути своей вульгарен и прост. Давно было задумано вынести Общество для простолюдинов за стены монастыря, но все никак. Казна была пустой, много денег отнимали внутренние неурядицы, а еще польский вопрос, и турецкий…
Но в начале семидесятых деньги нашлись. Тогда и начали с северной стороны монастыря возводить каменное здание. Строили медленно. Будущий участок еще не был обнесен забором, а начальница де Лафон решила начать обустройство новой территории. Сад ведь за один год не вырастет, да и собственный огород недурно иметь. Воспитанниц надо приобщать к труду, отличная практика, и, как учит великий Руссо, тесное общение с природой.
На огороде работали только старшие воспитанницы Мещанской школы, благородные могли выйти за стены монастыря только по праздникам и под самым бдительным присмотром.
Позднее лето, жарко, осы жужжат. Необычайно много было в то лето оводов и ос, поэтому приходилось работать в платках, закрыв лицо почти до глаз. На огород ходили в серых форменных платьях, только белый холщовый фартук сменяли на полосатый, затрапезный. Помнится, Наталья тогда обирала гусениц с молодых завязей капусты. Распрямила затекшую спину, встряхнула руки и пошла из грядок за лейкой. И в этот момент неподалеку остановилась запряженная четверней карета. Из нее выпрыгнул щеголеватый молодой человек и решительным шагом направился к Наталье. Ей бы убежать прочь, а она застыла с лейкой в руках, забыв о ее тяжести. И еще почему-то запомнилось, что левая рука его, несмотря на зной, была в серой шелковой перчатке, а на голой правой руке на указательном пальце красовался перстень с незнакомым камнем, коричневым с искоркой, в цвет глаз. Этим пальцем он и поднял ей подбородок.
– А скажи, хорошенькая, румяные губки, как можно найти мадам де Лафон?
Она не успела ответить. Появившаяся воспитательница вклинилась между ними и, прикрывая Наталью юбкой, несколько истерично воскликнула:
– Сударь, все вопросы задавайте мне. Вам нужна мадам? Сейчас я вам все объясню. А ты иди работай, – прикрикнула она на девушку.
Потом Наталью обвиняли в том, что она нарочно выпустила лейку из рук и облила чулки и туфли господина, и замочила водой юбку воспитательницы. Ничуть не бывало! Лейка сама выпала из рук, потому что незнакомец внимательно и бесцеремонно продолжал пялиться на Наталью, и под его мягким и любопытным взглядом она, что называется, сомлела. Пальцы и разжались.
Совсем простая история, и нечего было бы о ней и вспоминать, если бы полгода спустя не случилась вторая встреча, на этот раз уже в монастырском саду у беседки. Дело было весной. Снег совсем сошел, но по утрам лужи подергивало ледком. Уже прилетели грачи и раскричались на всю округу. Наталью послали в госпиталь к матери-настоятельнице отнести старинный «Часослов», истинное произведение искусства. «Часослов» позаимствовала давеча учительница рисования. Незнакомец, тот самый, шел от главного входа, шел по-хозяйски, словно имел право разгуливать по монастырской территории. Удивительно, что он ее сразу узнал, хотя Наталья шла с непокрытой головой, только шаль накинула на плечи. И разговаривал он на этот раз совсем иначе, называя Наталью на «вы».
– Ну вот, вы без лейки, и мне ничего не грозит, – сказал он, с улыбкой рассматривая Наталью. – А вы еще больше похорошели.
Наталья присела в ответ, «обмакнулась», как барышня. Что она могла ему сказать? Он посмотрел на книгу, протянул руку, и девушка покорно отдала ему «Часослов».
– Рукописный. Красиво. Вы умеете читать по-старославянски?
Она кивнула. Надо было немедленно уходить. Не приведи Господь, кто-нибудь увидит из окна, как она беседует с красивым господином. Тогда нареканий не оберешься. Могут и наказать. Все бы хорошо, все правильно, но ноги не шли.
– А я опять к мадам де Лафон. Она хорошая начальница?
– Она добрая. Простите, сударь, мне надо идти, – Наталья протянула руку за «Часословом», но молодой человек быстро спрятал книгу за спиной.
– Скажите, как вас зовут, тогда отдам.
– Прошу вас, сударь, нам нельзя…
– Разговаривать нельзя? Но имя-то свое назвать можно?
– Наталья.
– Ну вот и славно, мадемуазель Натали. А фамилия? Есть же у вас фамилия, – и добавил после малой паузы, – если вы здесь учитесь.
Последнее замечание отрезвило девушку. Понятное дело, бесфамильные дети крепостных здесь не учились. А она-то, дура, отвечая на его вопросы, вообразила, что он принимает ее за барышню. В глазах незнакомца она была всего лишь вольной, и не более.
– А почему ты не спрашиваешь, как меня зовут? – спросил он, вдруг переходя на «ты».
Наталья изогнулась и ловко вырвала из рук незнакомца книгу, и тут же бросилась бежать. Кто бы мог предположить, что он броситься за ней? Незнакомец нагнал ее у самого госпиталя. Перед тем как захлопнуть перед его носом дверь, Наталья, сколько она потом корила себя за это, крикнула ему в лицо:
– Прозорова моя фамилия!
Прежде чем войти в камору матери-настоятельницы, Наталья долго стояла, прислонившись к стене. Надо утишить дыхание и придать лицу спокойное, бесстрастное выражение. Кажется, отдышалась. Ну, Господи благослови! Только бы никто из монахинь не заметил, как бежал за ней по парку прыткий молодой человек.
Вы не поверите, господа, но была и третья встреча, которую и встречей не назовешь, так только, перегляд и волненье до беспамятства. Наталья чувствовала, знала, что пришлась по сердцу незнакомцу. А случилось все так. В воскресный день в круглой зале намечалось важное представление, на котором должны были присутствовать великий князь Павел Петрович с великой княгиней. К представлению готовились давно, но о посещении важных гостей узнали все-то за два дня. А тут как на грех одна из классных дам заболела, другая уехала хоронить богатую родственницу. Словом, случился недостаток рук, и Наталью вместе с двумя воспитанницами Мещанского училища взяли помогать юным артисткам в переодевании.
Наталья увидела «своего кареглазого» еще когда он подходил к зданию. Рядом с ним вышагивал долговязый, худенький юноша в круглой шляпе. Она так и замерла у окна, и чудо, он почувствовал ее взгляд и тоже поднял голову. Как с высоты второго этажа он рассмотрел ее лицо, не понятно, но он не только узнал Наталью, но и явно обрадовался ей, а потом поклонился и рукой помахал в знак приветствия. Она так переволновалась, что спряталась за штору.
Потом, когда представление уже началось, Наталья на цыпочках подошла к двери в круглую залу. В щель мало что увидишь, но ей повезло. Не только кареглазый попал в поле ее обзора, но и спутник его был отлично виден. Откуда мне знакомо его лицо? – размышляла девушка. Почему-то вспоминалась ночь, и пламя свечи, и неровные блики на стене. Батюшки, да это же Глафира, жиличка маменькина! Вот, значит, как она выглядит в мужском платье! А вполне прилично, даже и не заподозришь, что она не мужчина.
Наталью так поразило это открытие, что она испугалась и слишком громко захлопнула дверь. А потом смеялась над собой – чего переполошилась? Надо было подольше посмотреть на этих двух, как они ведут себя, как общаются. Сама мысль, что кареглазый вовлечен в круг людей, имеющих прямое отношение к ее родному дому, взволновала ужасно. Словно сама судьба подсказывала, что не зря она сталкивает их вместе и что эти три случайные встречи имеют продолжение.
Через две недели, а может, и того больше, Варя изловила Наталью на прогулке, увлекла ее за кусты сирени и, глотая от счастья окончания слов, зашептала в ухо:
– Сюрприз, ах какой сюрприз!
– От кого сюрприз-то?
– От фата-морганы. Вообрази, на спектакле, оказывается, был Федор Георгиевич, и отгадай, друг мой Наташенька, с кем он сюда приехал?
Наталье ничего не надо было отгадывать, она и так все поняла.
– С Глафирой, моей Глафирой. Ну, ни сказка ли? Моя Глаша прелесть. Она нарочно познакомилась с Бакуниным, чтобы меня потом с ним подружить. Или нет, не так… все это мои фантазии. Она хочет проверить, правильный ли я сделала выбор. В письме о месье Бакунине всего пару слов, а больше все обо мне. Глаша такая деликатная! Пишет, что я выглядела в балете отлично, что мне аплодировал весь зал, и сам великий князь изволил несколько раз всплеснуть руками. Ну все. Я побежала. И устрой, чтоб мы ночью увиделись. Ах, как хочется поговорить.
И что Наталья теперь ей скажет? Что их общему возлюбленному грозит смертельная опасность? Нет. Такая новость благородной Вареньке не под силу.
Письмо матери об опасности, грозящей Бакунину, взволновало Наталью гораздо меньше, чем сбивчивый Варин рассказ. Какие там могут быть заговоры, вздор какой! Зачем чиновнику Иностранной коллегии и секретарю самого Панина ввязываться в сомнительные противоправные сообщества. Это явная глупость. Нелепая накладка и чье-то дурное воображение. А вот опознание кареглазого, которого Варя разом снабдила и именем, и статусом, и подробностями жизни, и даже титлом – жених, обожгло, как брызнувший с горячей сковороды жир.
Хотя какая сковорода, какой огнь и пламень? Акстись, девушка! Как будто ты раньше не понимала, что мечты твои о красавце барине наивны и беспочвенны? Но мечтать нам никто не может запретить. Раньше это была только ее тайна, а тут на нее и покусились, словно кто-то властно влез в ее сон и принялся распоряжаться – пойди туда, сделай то-то.
Наталья была трезвым человеком и умела посмотреть на жизнь практически, а потому до времени решила ничего не предпринимать. Жизнь сама шепнет ей подсказку. А пока очерченный ей круг стал совсем маленьким, тесным, как рублевик, и все они на нем топчутся. Будь у нее возможность бороться с Варей за Федора Бакунина, она бы не уступила. Но судьба-проказница подшутила над ней, сыграла в кошки-мышки. Но мышью она быть отказывается. Она и дальше будет слушать пресный Варин лепет про обожаемого жениха, и будет складывать ее секреты в своей памяти, как чистое белье в сундук, и виду не подаст, что ей это неприятно. А пока надо поговорить с матерью.
Архип был верен своему обещанию. Через три дня поздним вечером он дал ключ от заветной калитки. Наталья загодя договорилась с классной, что переночует у монахинь при госпитале, размещенном в дальнем флигеле у западной стены. От этого флигеля до калитки было рукой подать. Монахини любили девушку, она была отличной помошницей во всех работах – послушаниях, случалось, что и за больными ходила, и кашеварила, если просили. Матушка-настоятельница, глядя на Наталью, не раз говорила то ли с укоризной, то ли с сочувствием:
– Трудно, девочка, будет тебе в миру. Внешняя приятность большой соблазн, и много будет охотников до твоей красоты. Блюди, себя, голубка, а главное, молись почаще.
Убегая из кельи на свидание с матерью, Наталье и в голову не приходило корить себя за обман. При искренней религиозности она еще в детстве придумала себе оправдание: если творишь для доброго дела и никому вред не приносишь, то Господь тебя поймет, и ангелы помогут. Главное, с самой собой быть честной.
Вечер был теплый, по счастью, темный. С Невы доносилось хоровое пение, видно, барка плыла с дровами или с сеном. Феврония ждала дочь у калитки в кустах бузины.
– Слава Богу, я уж заждалась. Что так поздно-то?
– Я же говорила – в одиннадцать. Не надо было раньше приезжать. Вечно ты, маменька, с запасом во времени.
– А как же без запаса? Без него, поди, и не проживешь. Ну, обойми меня, что ли, давно не виделись.
Они прошли в глубь рощи, нашли давно обжитую поваленную березу, сели. Ферония робела перед дочерью. Не поймешь, в кого она уродилась такая, мало того, что красивая, умная, так еще и образованная. Она давно поведала дочери тайну Глафиры, но рассказала ее под особым углом. Были произнесены слова, мол, если мы поможем сестрам воссоединиться, то они нас за это и отблагодарят. Про бумагу, в которой Глафирой были обещаны две трети своего состояния, Феврония не посмела рассказать дочери. Мало ли как дело обернется. Гордячка Наталья может и отказаться от богатства, полученного таким способом.
– Принесла, что просила? Давай, – ключ мягко вошел в мягкую глину. – По этому оттиску сделаешь ключ. Не вечно же нам зависеть от Архипа.
– А что нам от него зависеть, – проворчала Феврония, – если вы к новому году в новый дом переедите.
– Обещать, не значит сделать. И потом я думаю, эти страсти к новому году сами собой улягутся.
– Какие страсти?
– Да заговор твой!
– Наташка, про заговор никому, – Февронья закрыла рот дочери ладонью. – Не шути с этим. Еще не хватало, чтобы нас под розыск подвели.
– Не бойся, не подведут, – она отвела руку матери. – Рассказывай. Да не шепчи. Кому нас тут подслушивать-то? Разве что гребцам.
Но песни уже не было слышно, только ветер шуршал верхушками берез. Наталья слушала мать молча, не перебивала вопросами, только при особо крутом повороте событий, хмыкала насмешливо. Как, оказывается, Глафиру-то прижало! Испугалась царевна-лягушка, сбросила кожу – мужской камзол. Рассказ о появлении настоящего Шлоса ее развеселил, но дальнейшее показало, что радоваться совсем нечему.
– Так ты, оказывается, сама пошла с доносом в полицейский участок? Зачем тебе это понадобилось?
– Да разозлилась очень. Ты бы видела, как этот петух ощипанный себя вел и какими словами меня называл. Все немцы такие, а этот Шлос – худший из них. Я думаю, что он и есть настоящий заговорщик, а дура Глашка только подстава.
– Ну, хватит про заговор. Тем более, что ты сама его и выдумала. Смешно, право. Ты же говоришь – масоны. Я про них тоже вроде краем уха слышала. В эти масоны многие знатные записались. Пока не похоже, что Бакунину что-то по-настоящему угрожает. Полиция Шлоса, то бишь Глафиру ищет?
– Искали, да не нашли. У меня в полицейской управе старый знакомец служит. Он когда-то у Франца свою колымагу чинил. Так этот знакомец определенно сказал, что загубили нашего Шлоса лихие люди. Убили и труп спрятали.
– Это хорошо, – сказала Наталья и добавила после недолгой паузы, – жалко сестер. Одна шальная, другая блаженная. Оберут их до нитки.
– Не хотелось бы, – скривилась Феврония, в голосе ее не было и намека на участие.
– Ты знаешь, где живет этот Бакунин?
– А как же, – Феврония назвала адрес. – А зачем тебе?
– Мало ли. На всякий случай. Без нужды ко мне не пиши и не приходи. Но как узнаешь что новое, опасное, тут же передай мне записку. В записке лишнего не пиши, только день и час. Ключ-то у тебя свой будет. И не переживай ты так! Обойдется. Сейчас лучше всего затаиться.
На этом и расстались. Наталья решила до времени не посвящать Вареньку в Бакунинские дела. Пока никакой неприятности не произошло, а девочка всполошится, еще и глупостей может наделать. Если ситуация обостриться, то она сама напишет Бакунину упредительное письмо. Но не надо раньше времени бить в колокола. Пока так называемый заговор всего лишь домыслы маменьки, а она известная паникерша и сочинительница.
Жизнь потекла по институтскому уставу. Наталья внимательно слушала учителей, аккуратно делала уроки, а сама все думала об одном и том же. Если писать Бакунину, то как? Во всяком случае, не надо приплетать к делу Глафиру. Как-то непорядочно открывать походя ее тайну, девица и так настрадалась. Но, с другой стороны, если не рассказывать про Глафиру, то как объяснить этот дурацкий список, которым заинтересовалась полиция?
Учительница не похвалила ее за акварель. Начала рисовать летний солнечный день, так и изображай радость. А на бумаге откуда-то появились темные пятна. Если дерева залиты светом, то зачем на небе грязные, предгрозовые облака? Это мои предчувствия, хотелось ответить Наталье, но ничего этого она не сказала и смяла рисунок.
В тот же вечер она пошла в сторожку Архипа и написала письмо. «Милостивый Государь! Беру на себя смелость написать вам это письмо, в коем упреждаю – вам грозит опасность. Известный вам фон Шлос имел неосторожность оставить в своем доме бумагу, коей при обыске заинтересовалась полиция. Сия бумага имеет в себе список лиц. Я не знаю всех особ, кои там перечислены, но знаю наверное, что ваше имя, а так же имя капитана Наумова там обозначено. Остаюсь с почтение Вашей милости всепокорный слуга». И дата.
Письмо по известному адресу отнес Архип, но передал не сам, а использовал для этой цели мальчишку, который на углу торговал пирожками с капустой. Посочувствуем нашим героям, Наталья опоздала со своим посланием.
Сходка боевой группы, как окрестил ее Бакунин, состоялась как обычно у Наумова. Пять офицеров, все проверенные люди, Бакунина не было. На этот раз обошлись без пустого балагурства. Хозяин дома поставил вопрос ребром – пора назначать срок. Обсуждения были нервными, главный спор разгорелся относительно конкретной даты. Когда приступать – до того, как злодей Пугачев будет пленен, или после? Говорят – вот-вот, и злодей будет в руках правительственных войск. И все никак!
После поражения под Казанью в июле войско мятежников сильно поредело. Сведения, поступавшие в Петербург, носили в основном секретный характер, но какие секреты можно сохранить на Руси, если они касаются всего народонаселения? В столице было известно даже, что злодей опубликовал манифест, дающий крестьянам вольную. После оного манифеста зверства повстанцев вошли в новую фазу, хотя, кажется, худшего, чем было, и вообразить себе нельзя. Последние вести «с полей брани», как иронично называли офицеры войну с голытьбой, носили оптимистический характер. Пугачев пытался занять Царицын, но потерпел поражение. Затем 24 августа Иван Иванович Михельсон дал бой у Черного Яра (Бог весть, где находится этот населенный пункт, где-то в степях). Пугачевцы лишились обоза, артиллерии. Их живой силы полегло немерено. От огромной, когда-то двадцатитысячной армии осталось всего ничего, человек триста, а может, и того меньше. Теперь эта горстка людей движется к Уралу.
– Трудно вообразить, господа, но Пенза и Саратов встречали злодея хлебом-солью.
– А что обывателю делать? Кому хочется на виселице болтаться? Как только Пугачев свой манифест опубликовал, народ наш стал рубить дворянские семьи под корень, чтобы потом некому было требовать назад свое имущество. Разорят господский дом, а семью всю целиком с детьми и гувернантками зарубят саблями.
– Говорят, и священников вешали. Словно сам Сатана вел этот сброд к грабежу и убийству.
– А ведь императором себя называл. А всей своей шайке давал чины соответственно табелю о рангах. Одного в графы произвел, другого назначил генерал-фельдмаршалом, бабы – в статс-дамы, девки – во фрейлины.
– Мне рассказывали, достоверно вам говорю, что как только Пугачев занял Саратов, он, называя себя Петром III, повелел городу присягнуть. Потом город заняли мы. Велено было немедленно опять присягать государыне Екатерине. Отступникам обещали казнь через повешение. У горожан с пристрастием выясняли: кого вы считаете царствующим лицом – покойного государя или ныне здравствующую императрицу? Смех, да и только! Потом в Саратов опять явилась армия злодеев. Но на этот раз Петр Иванович им показал!
Речь шла о Петре Панине, герое турецкой войны. Видно, сильно напугал императрицу Пугачев, если она не поостереглась назначать на высокий военный пост Панина, который вместе с братцем спит и видит, как на трон восходит обожаемый ими Павел. В обеих столицах злословили, что сам Пугачев был рад этому назначению и ждал от Петра Ивановича реальной помощи.
– Наверное, и Суворов с армией подошел к месту назначения. А уж он-то быстро разберется, что к чему.
Имя Александра Васильевича Суворова было очень популярно в армии. Сорокачетырехлетний генерал-майор уже успел одержать блестящие победы в Польше, он занял Краков, и польский вопрос, так досаждавший императрице, был решен. Об его участии в турецкой кампании тоже все были наслышаны. Это именно Суворов выиграл битву при Козлудже, после чего турки вынуждены были подписать на наших условиях Кучук-Кайнарджийский мир.
– Если злодеев осталась всего горста, – задумчиво сказал Вернов, – от плена Пугачеву не миновать. Свои же и выдадут. Помните по истории, был при Алексее Михайловиче такой злодей Стенька. Погулял он тогда по Волге, покуражился.
– Вечно ты, Гриня, вспоминаешь небылицы. Не знаю я никакого Стеньку.
– Как же, как же… Еще песня такая есть. Там что-то про любовь и персидскую княжну.
– За борт он ее бросает, – хмуро подсказал Наумов. – Этого Разина, когда банду его поприжали, свои же казаки выдали правительству.
Все вдруг замолчали и виновато переглянулись, как-то вдруг стало неловко.
– Погодить надо, – сказал Кныш. – Я дело говорю.
– Константин прав, – согласился Вернов. – Если мы в это неспокойное время Павла Петровича на трон определим, то повстанцы, хоть их и горстка, очень приободрятся. Как бы нам не разжечь новой заварушки.
Здесь даже Наумов согласился. Надо ждать, когда захватят Пугача. Да и не гоже сажать нового государя на трон с подрезанной ножкой. Надо чтобы все замирились, успокоились, а тогда со спокойной совестью совершить справедливое дело.
– Я так думаю, – Наумов встал, оглашая свое решение. – В честь поимки злодея по Петербургу прокатятся праздники. Их будет много. Значит, государыня то и дело будет выезжать из дворца. Охрана тем временем потеряет бдительность, и тут мы ее… – он закончил речь свою характерным хватательным жестом, словно муху поймал на лету. Ну, если не муху, для его лапищ муха была маловата, но птичка сладкоголосая как раз подходила для его крупной руки.