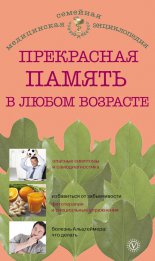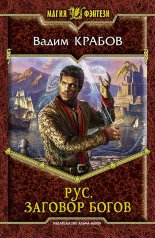Левая сторона Пьецух Вячеслав

– А то, понимаешь, какую моду взяли! То они калмыков переселяют, то крымских татар, а теперь и за нас взялись, за среднюю полосу! Что за древнеегипетские приемы?!
Надо заметить, что шебалинские издавна были в обиде на районные власти и за метафизический трудодень, и за налоги на яблони, и за двойной план по мясу, поэтому народу прочно легли на душу Пестелевы слова. В сомнении остался один Степан Умывакин, старый пораженец и пессимист.
– Ничего у нас не получится, – сказал он. – Потому что против лома нет приема. Вот ужо нагонят ребят в черных шинелях, так сразу как миленькие в Петропавловское побежите! В ОГПУ наших шуток не понимают, это я, граждане, знаю не понаслышке.
– Ты что, Умывакин, осатанел?! – сказал ему Иван Соколов. – Все-таки сейчас не сорок шестой год, а семьдесят девятый – предельно ты допился, старик, как я погляжу.
На это Умывакин только махнул рукой, давая понять, что между сорок шестым и семьдесят девятым годами он принципиальной разницы не усматривает.
Как бы там ни было, сход сочинил протест, все шебалинские его подписали, кроме Умывакина да малолетнего Сорокина, который писать еще не умел, и Пестель самолично доставил протест в район.
Заместитель предисполкома Меньшиков выслушал Пестеля, прочитал протест, посмотрел в окно, постучал ногтями по какой-то зеленой папке, потом сказал:
– Давай считать так: вы эту бумагу не писали, а я ее не читал. Иначе вы, товарищи, жизни будете не рады – это я официально вам говорю.
– Ну уж нет, товарищ Меньшиков, – заявил Пестель. – Мы бумагу писали, а вы – читали!
– Смотрите, мужики, как бы горючими слезами вам не умываться.
– А ты нас не пугай!
– А я вас и не пугаю.
– А ты нас не пугай!
– А я вас и не пугаю. Просто-напросто посадим мы вашу шоблу за групповщину со взломом, и все дела.
– Не мели чепухи – такой и статьи-то нету.
– Ничего, мы вас без статьи посадим.
Так впоследствии и случилось, с некоторыми отклонениями от этого обещания, но прежде произошел ряд грозных событий, настолько необыкновенных для здешнего захолустья, что о них даже районная газета вынуждена была глухо упомянуть. На другой день после разговора Пестеля в исполкоме Шебалино посетила группа товарищей из района во главе с начальником милиции майором Петелиным, удаленным из самой Москвы в связи с неполным служебным соответствием, а проще говоря, за какие-то архаровские проделки. С группой товарищей у шебалинских вышел тяжелый разговор у дальнего колодца – стороны остались друг другом крайне недовольны и разошлись решительными противниками. Причем Петелин предупредил:
– Не хотите по-хорошему, будет по-плохому.
– По-плохому – это как? – спросил его Умывакин, который в присутствии майора вдруг чего-то остервенел.
– А так: бульдозерами вас выкорчевывать будем, как социально чуждую поросль, чтобы другим неповадно было.
Поскольку в районе знали, что Петелин на ветер слов не бросает, вечером все шебалинские мужики, числом семеро, сошлись в баньке у Пестеля на совет; даже малолетний Сорокин явился на него с рогаткой в кармане, но его педагогично провозгласили сыном полка и выставили за дверь.
– Значит, положение наше такое, – открыл совет Пестель – либо мы идем на поводу у Петелина с Меньшиковым, и тогда опять мы выходим белые рабы, либо мы отстаиваем деревню до последнего издыхания.
– Я предлагаю бороться до последнего издыхания, – сказал Иван Соколов. – Все равно на эту жизнь глаза мои не глядят, а так хоть потешимся напоследок. А посадят – отсидим, тоже для нас не новость.
Сергей Соколов добавил:
– Тем более что на зоне, братцы, ничего страшного нет. Я же сидел и знаю. Сыт, обут, одет да еще работаешь восемь часов, как в городе, а не полный световой день, как у нас в полеводстве, да еще реальная зарплата тебе идет!..
– Тогда будем голосовать, – предложил Пестель и сделал какое-то историческое лицо. – Кто за то, чтобы отстаивать Шебалино до последнего издыхания?
Шесть правых предплечий, трогательно подпертых левыми ладонями, одновременно взлетели вверх. Против был единственно Умывакин.
– Я что, психический, – сказал он, – чтобы идти на неминуемую погибель?! Я и в войну с голыми руками не хаживал против «тигров»…
– А зачем с голыми руками? – заметил Кравченко Валентин. – Ружье у нас на что?..
– Можно еще сделать несколько бутылок с зажигательной смесью, – предложил Петр Соколов. – Я в школе делал, тем более что у меня пятерка была по химии.
– Ну, это ты уже хватил, – сказал ему Пестель. – Может, мы еще авиацию подключим? Нет, ребята, обойдемся одними ружьями, да еще упаси господь целиться в человека; бьем только по скатам и в воздух, так сказать, для острастки.
После того как все решения были приняты, мужики разошлись по своим дворам и занялись боевыми приготовлениями: они чистили ружья, снаряжали жаканами патроны и подыскивали одежку защитного образца. Дети, предчувствовавшие праздник, путались под ногами, женщины сидели где-нибудь в стороне, злыми глазами следили за боевыми приготовлениями мужей, но прекословить пока не смели.
Утром следующего дня все шебалинские женщины отправились в поле, где завершалась уборка кормового картофеля, а мужики сошлись у околицы, уселись на корточки, закурили и стали неприятеля поджидать; Петр Соколов притащил-таки бутылку с зажигательной смесью, и она грозно торчала у него из кармана прорезиненного плаща. Около десяти часов утра за перелеском, начинавшимся возле пруда, послышалось тарахтение тракторного движка, и шебалинские моментально заняли еще загодя намеченную позицию, то есть они залегли поперек деревенской улицы в том месте, где когда-то была поскотина, а теперь только торчали колья.
И сразу сделалось как-то тихо, хотя трактор по-прежнему тарахтел. Денек был хороший: уже установилась прохлада, тонко пах нувшая первым прелым листом, квело светило солнце, а небо было блекло-голубым, как бы застиранным или как будто оно выгорело за лето.
– Прямо мы, ребята, как эти… ну, которые на Сенатской площади бунтовали! – сказал Иван Соколов и делано засмеялся.
– Вот-вот, – откликнулся Кравченко Валентин. – Как декабристы и погорим!
Сергей Соколов сказал:
– Я в книжке читал: из них только пятеро по-настоящему погорели. Остальные – год тюрьмы, пять лет каторги и это… по-нашему будет химия, бесконвой. Сейчас такие срока дают, если, например, грабануть какую-нибудь палатку.
Из-за перелеска показался бульдозер – позади него на первой скорости тащился милицейский автомобиль.
– И Петелин, хищник, пожаловал! – сказал Пестель.
– То-то и оно! – произнес кто-то рядом, и Еремей обернулся посмотреть – кто.
В двух шагах от него лежал с ружьем Умывакин.
– А ты чего тут? – спросил его Пестель.
– Петелина встречаю.
– А ружье на что?
– Для отдания почетного караула.
– Ну-ну, – одобрительно произнес Пестель и отвернулся. Из милицейского автомобиля действительно вылез майор Петелин в сопровождении двух младших чинов и сказал что-то бульдозеристу. Тот ему тоже что-то сказал, и бульдозер медленно пополз в сторону древней риги, которая стояла еще со времен помещика Коновалова.
– Начали, что ли? – обратился вполголоса к Пестелю кто-то из Соколовых.
– Погодим маленько, – ответил Пестель. – Пускай он первый ударит, чтобы мы, значит, вроде как отбивались.
Бульдозер тем временем был уже возле риги; на минуту он стал, точно задумался о чем-то механическом, о своем, но потом, поддав газу, рванулся вперед и свернул ножом угол. После этого машина сдала назад и застыла, попыхивая дымком; видимо, далее того, чтобы припугнуть шебалинских, планы Петелина все же не заходили.
Тогда Пестель скомандовал:
– Огонь! – И первые выстрелы загремели. Милиция залегла, бульдозерист как ошпаренный выскочил из кабины и бросился наутек. Вдруг из-за риги мелькнула узнаваемая фигура Петра Соколова, и в бульдозер, матово сверкнув на солнце, полетела зажигательная бутылка; машина вспыхнула мгновенно и вся – не зря у Петра была пятерка по химии.
– Кравченко! – закричал Пестель. – Не подпускай ментов к газику – рация у них там, как бы они не вызвали на подмогу!
Это Пестель как в воду смотрел: Петелин, согнувшись в три погибели, уже крался к автомобилю. Кравченко Валентин дал залп из обоих стволов, метрах в двух впереди Петелина задымились фонтанчики рыжей пыли, и майор затих, как если бы нечаянно прикорнул. Но тут нижние чины открыли беглый, немного панический огонь из макаровских пистолетов, и Петелин стал отползать назад, что было видно по колыханию подсохших зарослей иван-чая.
Когда выстрелы смолкли, раздался голос Сергея Соколова, надтреснутый от обиды:
– Нет, ребята, я так не играю! – сказал он и выставил на всеобщее обозрение окровавленное предплечье. – Это уже называется беспредел!
Впрочем, больше милиция не стреляла, вообще никак не давала о себе знать. Шебалинские выждали минут десять, потом по команде Пестеля встали в рост и с ружьями наперевес пошли в атаку на позиции неприятеля. Ни милиционеров, ни бульдозериста на месте не оказалось.
– С первой победой вас, ребята, – мрачно сказал Пестель и опорожнил стволы от гильз.
– А все-таки на душе кошки скребут, – сознался Кравченко Валентин. – Как-никак по своим стреляли – нехорошо.
– Да какие они свои?! – взъелся Иван Соколов, обращаясь ко всей команде. – Они такие же свои, как эти… как я не знаю кто! Они над народом издеваются, а ты говоришь – свои!
– Хорош базарить! – распорядился Петр Соколов, который перевязывал рану брату Сергею. – Давайте лучше обмозгуем, как на дальнейшее отбиваться.
– А чего тут особенно обмозговывать? – сказал Пестель. – Баб на ночь разогнать по родне в Иваньково да в Петропавловское, а сами засядем в риге, и пускай они нас возьму т…
– Ты тоже Суворов-Рымникский! – возразил ему Умывакин. – Если мы засядем в риге, они нас в момент умоют! Круговую оборону надо занимать, садовая твоя голова! Но только на ограниченном плацдарме, и чтобы коммуникации в полный профиль.
По общему соглашению вплоть до вечера рыли окопы, потом разгоняли по родственникам свои семьи, потом перекусили на скорую руку, а к сумеркам ближе заняли оборону. С женщинами ничего поделать так и не удалось – они собрались у дальнего колодца и выли в голос; Кравченко Валентин свою даже слегка побил, но с нее как с гуся вода, и она выла со всеми вместе.
– Что сейчас будет, ребята! – весело, но с гибельным оттенком сказал Иван Соколов из своей ячейки. – Это, конечно, словами не передать!
– Спокойно, товарищи сентябристы – откликнулся Кравченко из своей.
Умывакин приблизился к Пестелю, закурил мятую сигарету и тихо заговорил:
– Вот мы в сорок втором году так же держали круговую оборону под Черным Яром. Нынче нас враз сомнут через твою мягкотелую установку, так следует ожидать, а в сорок втором году мы долго держались, суток, наверно, пять. Так что ходил я, командир, ходил я с голыми руками против «тигров», было такое дело. То есть не с голыми руками, понятно, а при мосинской винтовочке со штыком. Ранило, конечно, жалею, что не убило… Потом год в концлагере под Орлом, потом еще пять лет в лагере, но это уже в Инте…
– А в последний раз ты за что сидел?
– В последний раз я сидел за то, что Круглянская выписывала фальшивые разнарядки.
Вдали послышался шум моторов.
МОСКВА – ПАРИЖ
Около того часа, когда над Уральским хребтом начали наливаться влажные осенние звезды, бригада Владимира Солнцева собралась за дощатым столом, врытым посреди вагонгородка, чтобы скуки ради сгонять партию в домино; дожидались только подачи света, а то костей было не разобрать. Но еще долго стояла особенная, какая-то глубоко отечественная мгла, в которой отгадывалось отчаянье и пространство. Пахло вечерней свежестью, борщом, машинным маслом и стиркой. В одном из ближних вагончиков неутешно рыдал младенец, точно он предчувствовал свою будущность.
Наконец вспыхнула стосвечовая лампочка, повешенная аккурат над доминошным столом, которая питалась от подстанции поселка Москва, и Попов ни к тому ни к сему сказал:
– А между прочим, бугор, мы уже третий месяц втыкаем без выходных.
Остальные поддержали Попова невнятными восклицаниями.
– Ну, вы, ребята, вообще! – возмутился бригадир Солнцев. – А кто гулял на День работника нефтяной и газовой промышленности?..
– Да буду я твоей жертвой, – вступил азербайджанец Са лим, – ты еще вспомни про Новый год!
– В общем, ты, бригадир, как хочешь, – твердо сказал Кузьмин, – но чтобы завтра был у нас выходной! Я ставлю вопрос ребром!
Бригада одобрительно загудела, и Кузьмин, осмелев, добавил:
– А то я взбунтую производственный коллектив… Ну, ни в грош не ставят рабочего человека!
Солнцев вдарил по столешнице костью и зло спросил:
– Знаешь, что бывает за антисоветскую пропаганду?
– Нет, бугор, ты не увиливай, – сказал на это Попов, – ты давай конкретными словами отвечай на запросы дня!
Трудно сказать, что было тому причиной, но Солнцев неожиданно пообмяк.
– Хорошо, – согласился он, – пару выходных я, положим, организую. Но что вы будете делать сорок восемь часов подряд? Вы же подохнете от безделья!
– Зачем подыхать, – сказал азербайджанец Салим и, в свою очередь, вдарил по столешнице костью, – в Париж поедем, как на День работника нефтяной и газовой промышленности.
– Хрен с вами, – сдался бригадир Солнцев. – В Париж так в Париж, пожелания трудящихся – это для нас закон.
К доминошному столу пришлепал ручной енот, и Солнцев дал ему закурить; бригада с полгода тому назад приучила животное к табаку – сунут ему в ноздрю сигарету, он себе и дымит. Так вот Солнцев дал закурить еноту и пошел на радиопункт переговорить с вертолетчиками насчет санрейса Москва – Париж. Перед уходом он наказал бригаде:
– Вы давайте собирай бабки на вертолет.
И бригада зашуршала сотенными купюрами.
Еще сутки ушли на то, чтобы сообщиться с Парижем и вынудить у начальника потока пару выходных дней. А рано утром в четверг солнцевская бригада, разодетая в пух и прах, погрузилась в железную стрекозу: на Солнцеве был желтый галстук в черный горошек, на Кузьмине – японский костюм, одновременно отдававший во все цвета радуги, и рубашка, расстегнутая до пупа, Салим напялил на голову смушковую папаху, а Попов вырядился в ядовито-зеленый бархатный пиджак, сшитый, по всем вероятиям, из портьеры.
Кузьмин, очень любивший жизнь, спросил у второго пилота:
– Как техника-то работает?
– А так работает, что без молитвы не включаем, – ответил второй пилот.
И Кузьмин задумался о своем.
Долетели они, впрочем, без приключений и приземлились в окрестностях Парижа, когда на равнину уже окончательно пала ночь. Отчинили дверь, и Попов, который, будучи темным малым, при этом неплохо знал родную поэзию, продекламировал нараспев:
Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!..
Встречал брига ду странно одетый тип – на нем были плисовые штаны, что-то вроде толстовки, белая сорочка и галстук «бабочка».
– Салют, Жан-Поль! – приветствовал его Солнцев отчасти по иноземному образцу, и Жан-Поль расплылся в европейской улыбке, то есть в такой улыбке, которую отличала приятная снисходительность или даже искусно скрытая неприязнь. – А ну-ка скажи нам для настроения что-нибудь по-французски.
Жан-Поль переменился в лице и бесчувственно произнес:
– Же сью тре контан де ву вуар анкор, мсье лез уврие рюс. [2]
– Звучит, – одобрил его Кузьмин.
Затем солнцевская бригада уселась в автомобиль, подкативший непосредственно к вертолету, и направилась в Париж, который давал о себе знать немногочисленными огнями.
– Куда едем? – спросил Жан-Поль. – Я предлагаю по-старому в Мулен Руж.
– Олды, [3] – произнес Салим.
Что-то через полчаса автомобиль остановился возле приземистого, продолжительного строения, на котором так и было написано: «Мулен Руж». Бригада спешилась у подъезда и, нахохлившись, проследовала внутрь. При входе в маленький зал, или большую комнату, ребят встречала некая Жозефина – крашеная блондинка в черном лифчике и колготках на босо тело; каждый ритуально хлопал ее по мягкому месту, на что Жозефина бормотала нечто невразумительно неродное и делала легкий книксен.
Посреди зала стоял низкий стол, ломившийся, что называется, от выпивки и закусок; когда бригада устроилась за столом, Жан-Поль начал разливать выпивку, а Жозефина обеспечивала закуску. Поначалу пир развивался благопристойно – Жан-Поль сказал по-французски речь, а Попов в пику откликнулся на нее поэмой «Бородино». Но потом мало-помалу пошли безобразия: Солнцев демонстративно пил самогон из пластикового ведерка, Жозефина танцевала на столе, Салим пел азербайджанские песни, Кузьмин на спор съел миску борща со связанными руками, Попов шесть раз таскал Жозефину в соседнее помещение. Примерно за полчаса до того как всем повалиться кто где сидел и забыться мертвецким сном, задели некоторые традиционные, трогательные предметы. Бригадир Солнцев ни с того ни с сего сказал:
– Какое-то тут все вредное, неродное! Даже самогон у них керосином пахнет…
Салим добавил:
– И вообще французы червей едят.
– То ли дело у нас в Москве, – сообщил Кузьмин и мечтательно улыбнулся: – Это… березки кругом стоят, с последним прощелыгой можно душевно поговорить, бабы ведут себя не так все-таки безобразно…
– Но главное, – сказал Солнцев, – у них совершенно чуждая политическая платформа. У нас «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а у них – «Человек человеку – волк».
– Тут, Вольдемар, ты, конечно, прав, – согласился Жан-Поль, рассеянно озираясь, – французы, точно, народ тяжелый. Я читал ихнюю литературу: что ни персонаж, то хоть оторви и брось.
– Ну, ты! – сказал ему Солнцев. – Тебе за что деньги платят? За то, чтобы ты нам, в частности, прекословил, развивал идеологию классового врага. А ты нам весь кайф ломаешь своими необдуманными словами!.. Ну-ка давай противоречь, давай искажай действительность, клевещи!
Жан-Поль переменился в лице и бесчувственно произнес:
– Французы, когда червей едят, то это они от жиру бесятся, а вот почему вы до сих пор червей не едите – это для нас загадка.
Попов повернулся к Солнцеву и спросил:
– Можно, бугор, я ему в рог дам за это конкретное измышление?
– Эй, эй, эй! – запротестовал Жан-Поль. – Мы так не договаривались, между прочим.
– А если за дополнительную плату? – спросил его Солнцев.
Жан-Поль призадумался на мгновенье.
– Нет, – затем решительно сказал он. – И за дополнительную плату я не согласен на мордобой. Вы ведь вон бугаи какие – раз-другой вдарите, из меня и дух вон…
– В таком случае, – объявил Попов, – придется тебя разжаловать обратно в Иваны Павловичи из Жан-Полей. За трусость и эгоизм.
Наступило продолжительное молчание, так как бригаду основательно разморило. Потом Салим, позевывая, сказал:
– Интересно: нет ли у них в области поселка под названием Вашингтон?
– А ведь я, ребята, электроды позабыл спрятать, – спохватился Кузьмин и сделал испуганные глаза. – Уговорят электроды, гадом буду, уговорят!
– Одна отрада, – сказал, засыпая, Солнцев, – что завтра лететь в Москву.
– В Москву, в Москву! – забубнила бригада на пьяные голоса.
ТРОЕ ПОД ЯБЛОНЕЙ
В Смоленской области, в одном незначительном городке, живут трое… как бы это поаккуратнее выразиться – отщепенцев, что ли: Клавдия Половинская, бывшая «немецкая овчарка», Степан Иванович Горбунов, бывший шуцман сельской полиции, и глубокий дед Серафим, некогда служивший у Врангеля в писарях. Невзирая на то что уж сколько воды утекло с тех пор, как эта троица провинилась перед народом, городок ее бойкотирует, и отщепенцам ничего не остается, кроме как только водиться промеж собой.
Иной раз, на закате дня, они собираются в саду у Клавдии Половинской, располагаются под яблоней, где стоит низкий стол, покрытый клеенкой, которая замыта до какой-то мертвенной белизны, пьют чай из тульского самовара и говорят об одном и том же. Приблизительно так у них строится разговор…
Половинская:
– Разве я, прости господи, виновата, что своего Францека полюбила, что у меня родилось к нему безумное чувство, что мы почти три года прожили душа в душу?
Горбунов:
– Ты как, Клавдия, ни крути, а все же твой Францек в глазах мирного населения выступал как фашистская нечисть и оккупант.
Половинская:
– Да ведь любовь не разбирает, кто заместитель по политической части, кто фашистская нечисть и оккупант! Она, так сказать, без суда и следствия, на месте, просто берет и лишает тебя ума. Потом: я ведь Францеку не подстилка какая-нибудь была, а законная жена, мы же с ним расписались в комендатуре!
Дед Серафим:
– Для суда и следствия это значения не имеет. Я вон у барона Петра Николаевича Врангеля всего только полгода и прослужил. Кроме пера, никакой оружии в руках не держал. А и то в истребительно-трудовых лагерях отсидел огромадный срок. Да еще меня на весь остаток жизни в лишенцы произвели. А ведь это, граждане, была та же самая русская армия, я что, французам каким служил?
Горбунов:
– А возьмем опять же мою историю… РККА бросила население, как, сказать, наш страхагент учительшу Ковалеву, – опрометью, безо всякого сожаления и по всем признакам навсегда. Тут надо же было как-то прилаживаться к новой жизни… Тем более что у оккупантов был красный флаг, и на Первое мая они гуляли. Потом: я же был не какой-нибудь там каратель, а обыкновеннейший полицай, вроде того же милиционера. Я что, людей вешал? Я Ваську Тарасевича гонял, который и при советской власти два раза сидел за мелкое воровство!
Половинская:
– Ты-то хоть, Степан Иванович, ходил при винтовке и с повязкой на рукаве, а я-то с каких блинов такие страдания претерпела? Вон русские царицы сплошь да рядом за немцев шли, и, кажется, ничего, безмолвствовал народ. А меня и чужие не одобряли за то, что я ихнего солдата приворожила – на свадьбу даже ни одна собака немецкая не пришла, – и наши в сорок четвертом чуть ли не всем городом били: ну почему такая несправедливость? Дед Серафим:
– Ты в этих краях, Клавдия, справедливости не ищи. В том-то вся и вещь, что ее тут нет испокон веков. Меня вон и у барона Петра Николаевича Врангеля чуть было не расстреляли за то, что я по нечаянности бумагу секретную искурил. И красные в истребительно-трудовых лагерях чуть-чуть не свели в могилу. Это я просто был такой человек мореный, что никаким историческим событиям оказался не по зубам.
Горбунов:
– Нет, это ты, старый черт, просто-напросто в последнюю войну уже был ни на что не годен. Вот кабы тебя мобилизовали наши в июне сорок первого года или немцы в полицаи произвели, вот тогда бы мы посмотрели, кто оказался бы в победителях – история или ты!
Половинская:
– Уж нас-то с Францеком, можно сказать, в куски история изломала. Просто она проехалась по нам всей тяжестью своего пресловутого колеса. Я вон на седьмом десятке все еще хожу в «немецких овчарках», а Францек сложил свои косточки под городом Могилевом – вечная ему память. Так мне в сорок четвертом году его начальство и отписало: «Погиб в боях за великую Германию». Только при чем тут великая Германия, не пойму, если он погиб под городом Могилевом?..
Горбунов:
– Это мы с тобой, Клавдия, ни при чем. Так себе, вроде дичка при большой дороге – кто ни прошел, тот сдуру и оборвал. А ведь, наверное, должно быть наоборот. То есть простой человек – это все, а великая Германия или там общественное выше личного – это идет предпоследним пунктом.
Дед Серафим:
– В том-то вся и вещь, что никогда, Степан, по-твоему не было и не будет. У нас еще при Николашке Кровавом общественное было выше личного. Про борьбу Ивана Грозного с врагами народа я даже и не заикаюсь. И насчет сплошной коллективизации при Михаиле Романове промолчу.
Половинская:
– И все-таки это удивительно: через такой кошмар мы прошли, и ничего, по-прежнему существуем!
Ну и так далее, в том же духе. Между тем самовар все еще дышит пахучим жаром, на небесах одна за другой выступают звезды, и старая яблоня шумит, повинуясь легкому ветерку, причем как бы завидуя, как бы очарованная шумит, дескать, до чего же, ребята, интересная у вас жизнь.
О ВРЕДЕ ЧТЕНИЯ
Павел Зюзин – с виду обыкновенный сорокалетний мужик, однако с точки зрения социальной психологии это такая исключительная фигура, что на всякий случай его следует описать. Он невысок ростом, коротконог, головаст, лицо у него нездорового цвета, растительность на нем скудная, уши непропорционально значительные, как у слона, глаза – маленькие, серые с искрой, расставленные до неприятного широко, – глядят они так лукаво-печально, что в худшем случае испугаешься, а в лучшем – насторожишься. Зимой и летом он носит одно и то же: допотопную вельветовую куртку, которые в свое время назывались «бобочками», дешевые штаны из «чертовой кожи», на голове – вязаную кепку, на ногах – гигантские кирзовые сапоги. Если хорошенько к нему приглядеться, то приходит на мысль, что в прошлом столетии он был бы среди тех, кто нищенствует, пророчествует и идет на костер из-за всякого пустяка.
Вообще этот человеческий тип сквозит нездоровьем, но Павел Зюзин за всю свою жизнь даже ни разу не простудился. Одно только в этом смысле в нем подозрительно – то, что он совершенно не способен к какому бы то ни было созидательному труду. Ну, не может человек работать, все у него из рук валится, и хоть ты, как говорится, кол на голове теши! В разное время совхозное начальство пробовало его в должности плотника, полевода, конюха, электрика, истопника общественной бани, шорника-надомника и даже собирателя лекарственных трав, но ни на одной из этих должностей он больше недели не продержался. Важно заметить, что Павел и сам был не рад тому, что ему не дается общественно полезная деятельность, и, дезертировав с очередного производственного участка, он всякий раз уезжал к тетке в Новый Иерусалим. В конце концов Павла определили на срамную по его годам должность ночного сторожа при конторе. С этим назначением он смирился.
Зато у Павла Зюзина есть «одна, но пламенная страсть» – чтение. Читать он выучился противоестественно рано, года в четыре, и с той поры уже ничем, кроме чтения, серьезно не занимался. Читает он, главным образом, художественную литературу, но иногда навалится и на исторические исследования, трактаты, толковые словари. Гнушается он только критическими статьями, и поэтому до такой степени невежествен в этой области, что считает Белинского малозначительным драматургом. Из-за страсти к чтению он много претерпел в жизни: со школой ему пришлось расстаться в четвертом классе, ровесники над ним всегда надсмехались, и ни одна девушка в округе не принимала его всерьез, так как левой рукой он мог, конечно, делать все то, что полагается делать нормальным парням, но при этом в правой руке будет обязательно держать книгу. Вообще книга – такая же принадлежность его фигуры, как кнут у пастуха, или дизельный дух у механизатора, или очки у бухгалтера Ковалева.
Поскольку здешний народ до такой степени занят в сельскохозяйственном производстве, что ему, как говорится, головы поднять некогда, и Павел Зюзин на всю деревню единственный читающий человек, как-то сама собой сложилась следующая традиция: время от времени Павел рассказывает односельчанам о книгах, которые он читал. Называется это «концертами» и происходит, в зависимости от разных причин, либо на бревнах, заготовленных для ремонта клуба, поблизости от того места, где висит било, либо в самом клубе, либо на деревенском «пятачке», оборудованном возле столетнего дуба на предмет танцев и посиделок. Заслуживает замечания, что благодаря этим «концертам» деревня совершенно в курсе русской классической, зарубежной классической и текущей литературы. Тут знают таких авторов, о существовании которых рядовые читатели не подозревают даже в крупных культурных центрах. Из-за того, что Павел Зюзин читает за всю деревню, к его нетрудоспособности, в общем, относятся снисходительно. Опишу один из таких «концертов».
Ближе к вечеру – если только пора не страдная, по телевизору не показывают ничего путного и стоит ведренная погода – человек двадцать-тридцать деревенских собираются, скажем, на бревнах, заготовленных для ремонта клуба, возле того места, где висит било, и посылают за Павлом бухгалтера Ковалева. Павел является серьезный, с томом за пазухой, руки в брюки. Кто-нибудь говорит:
– Ну и что у нас там новенького за отчетный период?
– Например, роман «Аэропорт», – отвечает Павел. – Автор Артур Хейли, американский писатель.
– Ничего?
– Ничего. Только нереально. Дикие у них какие-то люди. Я таких на практике не встречал.
– Слушай, Павел, – спросит его кто-то еще, – а чего тебе стоит прочитать что-нибудь по агротехнике или ветеринарии?
– Чего не могу, того не могу.
Действительно, Павел на дух не переносит так называемую специальную литературу, и сколько, например, механизаторы ни упрашивали его прочитать книгу о реставрации подшипников и справочник по ремонту трактора «Беларусь», он их читать упорно не соглашался.
– Так, а на какую тему у нас сегодня концерт? – спросит бухгалтер Ковалев, который во всем любит определенность.
– Сегодня концерт на тему «Старосветские помещики». Автор – Николай Васильевич Гоголь.
– Давно пора, – послышится чей-то голос. – Ты ведь, Паша, этих помещиков год читаешь.
– Так ведь я как читаю: чутко, вдумчиво, проникновенно. Бывают случаи, когда шестнадцать раз одно предложение прочитаешь, чтобы всецело освоить его художественное значение.
Вот, скажем, предложение: «Ты горд, говорю я тебе, и еще раз повторяю тебе: ты горд». Это предложение, фигурально выражаясь, по калорийности равняется Полному собранию сочинений какого-нибудь Анатолия Иванова.
Такая несусветная критика в адрес всесоюзного авторитета вызывает у деревенских неодобрительный ропот, поскольку они всегда придерживались той позиции, что если человек способен составить десять слов в одно внятное предложение, то его не годится критиковать.
– Итак, повесть Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики», – продолжает Павел. – Но сначала, как всегда, напомню краткую биографию автора. Родился Николай Васильевич в начале прошлого века в деревне на Украине. Окончил Нежинский лицей – это такая школа, вроде нашего техникума. Потом переехал на жительство в Петербург, где начал свою литературную деятельность. Был холостым, бездомным, всегда без копейки денег – но это уже традиция. Умер в Москве сорока трех лет отроду по неизвестной причине.
Последние слова Павел сопровождает многозначительным разведением рук, давая понять, что великие писатели – такой мудреный народ, что им ничего не стоит умереть по неизвестной причине.
– «Старосветские помещики» были написаны… – на этих словах Павел достает из-за пазухи том и начинает его листать, – были написаны приблизительно в 1834 году, так как Гоголь начал над ними работать в конце тридцать второго года, а в тридцать пятом они уже вышли в свет. В чем там дело… Живут себе помещики, старички, он и она, бездетные. Ее зовут Пульхерия Ивановна, его – Афанасий Иванович. Живут они душа в душу, семья у них, можно сказать, образцовая, но образ жизни, конечно, глубоко старорежимный, предосудительный: спят и едят – более ничего.
– Это прямо как наш районный уполномоченный, – замечает кто-то, и все смеются; если районный уполномоченный присутствует на «концерте», он недовольно кашляет в лодочку из ладони.
– И вот поди ж ты! – говорит Павел, выкатывая глаза. – Оказывается, что при всем этом они ужасно симпатичные старички! Он такой дородный, юморист, – Паша лицом и фигурой изобразил дородного юмориста, – а она: маленькая, пугливая, добродушная старушонка, – Паша и старушонку изобразил. – Он все время ее стращает: «А что, – говорит, – если наш дом загорится? Куда мы с вами, Пульхерия Ивановна, денемся?» Она ему: «Все-то у вас, Афанасий Иванович, глупости на уме…»
Далее Павел во всех подробностях передает содержание «Старосветских помещиков» и при этом так живо изображает то старосветских помещиков, то серенькую кошечку, то приказчика-проходимца, что односельчане следят за ним, раскрыв рты. В заключение он приступает к анализу идейной стороны дела:
– Впрочем, это все, как говорится, сюжет, который у плохих писателей всегда имеет самостоятельное значение. Но большие писатели относятся к сюжету только как к орудию производства, а вообще они всегда норовят посредством его что-то сказать. Что же говорит нам Николай Васильевич Гоголь? В данном конкретном случае он нам говорит, что вот вроде бы люди только и делают, что спят и едят, а следишь за их жизнью, и от жалости наворачивается предательская слеза. Потому что люди-то хорошие, добродушные, а и жили как дураки, и умерли как дураки из-за того, что верили в предрассудки. Не то время, не то окружение – и пожалуйста: из жизни получается анекдот! Причем я считаю, что эта тема злободневна и в наши дни, в том смысле, что если бы я, например, родился в Костроме, а не в нашей злосчастной Степановке, то в области чтения я наверняка вышел бы в большие специалисты.
– Гоголь вон тоже в деревне родился, – с ядовитым выражением скажет районный уполномоченный, если он присутствует на «концерте», – и тем не менее достиг выдающихся художественных результатов. Так что – спокойно, товарищ Зюзин!
– Да, но ведь у него были культурные родители! – горячо возражает Павел. – Они понимали, что к чему. А моя мама Нюра, которая сроду не знала, с какой стороны книга открывается, в одиннадцать лет приставила меня к вилам! В этом смысле меня только одно окрыляет: какое художественное произведение ни возьми, везде у людей невзгоды, везде что-нибудь, да не так! Вообще страшная штука – литература. Вот вы, товарищи, пашете себе, поднимаете надои и в ус не дуете в остальном – и, наверное, правильно делаете, – но только литература нам тем не менее показывает: почему-то жизнь все еще не так прекрасна, как того заслуживает человек. И даже более того – жизнь, это сплошная недоработка. Не знаю, как вы, а у меня сердце кровью обливается, как подумаю, что жизнь – это сплошная недоработка. Ведь полторы тысячи лет существует наша преподобная нация, а все-то у нас так или иначе наперекосяк. Ох, тяжело мне, товарищи, исключительно тяжело!
– А вот это уже злобное очернительство! – восклицает бухгалтер Ковалев. – Ты давай, Павел, сворачивай свою лавочку, а то я на тебя в район настучу.
– Ну, настучи, – смиренно говорит Павел, и все расходятся по домам, несколько пришибленные темными Пашиными словами.
СЛАВЯНЕ
Прежде всего нужно оговориться, что этот рассказ, собственно, не рассказ, то есть не рассказ в литературном смысле этого слова. Видите ли, писательство – занятие щекотливое и даже двусмысленное. С одной стороны, писатель вроде бы отображает реальность, во всяком случае, сочиняя, он ориентируется на правду, а с другой – занимается совершенными выдумками, да еще жульнически снабжает их символами действительности, норовя, как говорится, продать воробья за певчего соловья. Например, он пишет, соображаясь со здравым смыслом, присовокупляет необязательные, но усиливающие впечатление вероятности описания и картины природы, придумывает персонажам характерные имена, а также вкладывает им в уста балабольные речи, весьма напоминающие те, какие в ходу у живых людей. Так вот, в этом смысле мой рассказ – не рассказ, поскольку в нем отсутствует выдумка, и все то, что последует ниже, имело место в Москве в один из ноябрьских дней 1983 года.
В этот день я писал все утро. Потом я навестил одного своего приятеля, захворавшего какой-то детской болезнью, забежал в издательство «Московский рабочий» и, перед тем как воротиться домой, сделал визит в маленькую закусочную, известную под названием «рассыпная». Я взял портвейну, две карамельки и устроился у окна. Только я устроился у окна, как ко мне подсаживается человек и, я чувствую, сейчас замучает меня разговором. Действительно: он некоторое время заглядывал мне в глаза, а потом его, что называется, прорвало.
Честно говоря, сначала я пропускал его слова мимо ушей и только старался смотреть на него таким образом, чтобы ему было стыдно. Но затем я стал невольно прислушиваться – с этого все, собственно, началось.
– …Куда ни пойдешь, везде наткнешься на какой-нибудь очаровательный закоулок, – говорил сосед, – просто удивительный город Москва! И знаете, есть один закоулок, который дороже мне всей Европы. Тут недалеко, рядом с Арбатом, в самом начале Малого Афанасьевского переулка, есть что-то вроде крошечной площади, чрезвычайно уютной и симпатичной. Если станешь спиной к Арбату, то направо будет остановка 39-го троллейбуса, а налево – палисадник с тремя кленами и туркменское представительство. Кругом старинные московские дома, окошки смотрят по-человечески и, вы знаете, не городская, какая-то буколическая тишина. С Калининского проспекта – шум, гам, а здесь тишина, только троллейбус изредка прошелестит…
Я на этом месте всю свою молодость простоял. Раньше была такая мода: встанешь, как дурак, и стоишь. Стоянка у меня была возле шестого дома, прямо против Филипповского переулка, там еще было одно окошко по правую руку: на фигурно вырезанной бумажной подстилке горшки с цветами, с иваном мокрым, кажется, белые занавески, накрахмаленные до сахарного состояния, а между горшками сидела куколка, изображающая младенца, раньше назывались они – «голыш». Стоишь себе, вдруг: тень-тень… колокола звонят, там рядом церковь апостола Филиппа. Старушки пошли. Потом, уже ближе к обеду, идут старшеклассницы в белых фартуках, и сразу в переулке запахнет отечественными духами…
А на четвертом курсе я женился и уехал на Запад. Дело в том, что моя жена была подданной Соединенного Королевства. Мы с ней так договаривались: здесь поживем, там поживем, здесь поживем, там поживем… Там мы с ней жили в Люксембурге. Немного в Париже, немного в Брюсселе, но главным образом в Люксембурге.
И знаете, что удивительно, люди везде живут одинаково, то есть обыкновенно. Первое время бросаются в глаза всякие мелочи, и поэтому кажется, что жизнь в Брюсселе не похожа на жизнь в Москве. Потом все становится по местам, но первое время даже сердишься, до того непривычно. Жизнь там, знаете ли, чистенькая, аккуратная, и с непривычки зло на нее берет. Во-первых, все страшно расчетливы, особенно насчет денег, и от этого складывается впечатление, что люди бедно живут. На самом деле просто у них во всем точность и экономия. Во-вторых, им не о чем разговаривать. У меня первое время от их разговоров прямо мозги чесались: ля-ля-ля, ля-ля-ля… и все это, знаете ли, с таким умным видом с таким достоинством, а о чем ля-ля-ля?.. Ни о чем: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Кроме того, вообще по-ихнему говорить – это целая мука. Видите ли, мы иначе говорим, не в том смысле, что на другом языке, а иначе. У русского, в сущности, у каждого свой язык, а, положим, англичане все говорят формулами, заготовками, это очень нудно так разговаривать. Потом, трудно обходиться без наших вроде бы ничего не значащих выражений, которые на самом деле многое значат. Например, на тебя напало такое чувство, что нужно сказать: «Ну, ты даешь!» – а ведь ни за что так не скажешь. Можно сказать «ты странно поступаешь», но «ты даешь» – хоть на уши становись, все равно не скажешь. Одним словом, мука…
И вот в один прекрасный день все это довело меня, как говорится, до точки кипения. Дело было в Париже. Значит, выпил я, выпил немного – там быть пьяницей может себе позволить только очень состоятельный человек, – выпил и стал безобразничать, как будто я в стельку пьян. Ну там, песню спел, пристал к одному прохожему, а под конец, хотите верьте, хотите нет, в знак протеста немного помочился на площади Этуаль.
Полтора месяца в тюрьме отсидел! Когда я на суде все рассказал, что к чему, судьи головы сломали, не знали, как квалифицировать мой поступок. Отсидел, как говорится, от звонка до звонка.
И вот как-то утром, уже на свободе, просыпаюсь я и – странное чувство… Такое чувство бывает по утрам у людей, которым рано идти на работу: так гадко, что жить не хочется. Что такое? Встаю, подхожу к окну: серенький индустриальный пейзаж, только нижние этажи праздничные, похоже на бедно одетого человека в новых ботинках. Машины мчатся, людей нет, пусто. И вдруг мне припоминается то самое окошко в Малом Афанасьевском переулке. Припоминается так живо, что меня прямо током ударило. Увиделись белые занавески, горшки с цветами, куколка, наши богомольные старушки, а на душе уже и колокола тенькают, и троллейбус шуршит, и какая-то мелодия играет – прямо скажу: тяжело! Так тяжело, что я, грешным делом, всплакнул. Стою у окна, реву, а за спиной жена ворочается в постели и вздыхает, по-английски, знаете ли, вздыхает, наши так не вздыхают.
Это называется – тоска по родине. Уж не знаю, естественно это или противоестественно, но прежде я ни о какой родине вообще понятия не имел. Ну что это за овощ такой, в самом деле: родился в Северодвинске, жил в Термезе, умер в Улан-Удэ…
Прямо скажу, не ожидал, что это так серьезно, не ожидал! Поразительное и, вы знаете, страшное чувство! Это неудобопонятно, но за простой тоской здесь проглядывает именно страх, именно он и есть, так сказать, лейтмотив всего этого дела. Страшно вдруг умереть, страшно, что все чужое, страшно, что на тысячи километров вокруг некому сказать «Ну, ты даешь», просто страшно. Это очень похоже на то чувство ужаса, которое испытывают маленькие дети, когда они теряются; я в детстве часто терялся.