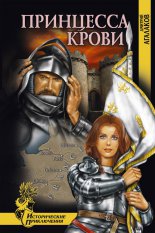Роман с Полиной Усов Анатолий
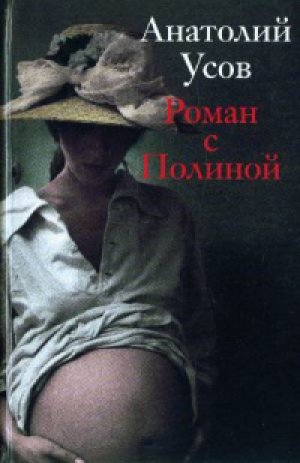
— Я и немец, и еврей, на трубе играю, на машинке строчу и на поле жну, — сказал я, — а мир вообще исстрадался без нас.
Но уже было поздно.
— Я так и знала. А ты так ничего и не понял, — Полина прижала палец к своим губам, а потом к моим, я снова ощутил одинокий запах очищенного апельсина. — Ты больше не увидишь меня. Прощай навсегда, на веки вечные…
— Вот б..! — взорвалась вся пересылка.
— Ша, пацаны, не б…, и вы увидите, это законная баба!.. А кто еще скажет про нее поганое слово — глаз на жопу натяну. И кончайте, суки, наконец, онанировать! Не воображайте, что вы трахаете ее…
Конечно, так нагло умные мужики на хате себя не ведут. Но разве я был когда-нибудь умным? Это счастье не для меня.
— Крутой, но не круче горы, — ответили пацаны и стали меня…
Отходив так, что я потерял сознание, они накачали меня в бессознанке водярой и сделали на груди наколку «Нет счастья в жизни».
Я не хотел терпеть такой коренной беспредел. И хотя в душе был всегда уверен, что его, счастья, в жизни все-таки нет, я уполз в сортир, едва только пришел в себя.
В сортире из толчков выметалась пурга. Жестяной абажур тусклой лампочки бился о потолок. За дощатыми стенами завывал ветер Арктики. Я, теряя сознание от боли и приходя в него от холода, выдавливал по свежей ране тушь и перекалывал «Н» на «Е», «E» на «С»… чтобы было «Есть Счастье в жизни»… Зачем я делал это тогда? — Наверное, потому, что всегда был упрямым, это, во-первых. И потом у, как это ни романтично звучит, мне иногда, если я вспоминал Полину, казалось: есть счастье в жизни — это любовь.
Вернувшись в сознание в какой-то третий или десятый раз, я увидел напротив себя, прямо у своего лица сидящего на толчке старика. Старик был такой худой, что его щеки касались друг друга внутри беззубого рта.
Снег выметался из-под тощей задницы старика густым белым облаком и тут же смешивался со струями темно-вишневой крови, которой ходил этот старик. Ему было больно, лицо страдало и покрывалось потом, из беззубого с синюшными губами рта шел тяжелый нутряной стон.
— Мужичок, кто тебя так уделал? — он хоть и старый, и ему пора давно отдавать концы, мне стало жалко его.
— Ты неправильно понял, зэка, — старик раздвинул ворот шикарной рубахи, на его ключицах синели две восьмиконечных звезды. — Я Жора Иркутский. А ты кто?
Я был, конечно, новый на зонах, но даже я знал, что Жора Иркутский смотрит за всеми лагерями на Севере.
— Я Толька Осс, статьи ….. … лет без пораженья. Извините, я думал…
— У тебя неправильные понятия о жизни. Первое, нельзя на зоне старшему задавать вопросы. Второе, нельзя никого жалеть. Третье, нельзя смотреть, кто чем серет… За нарушение каждого закона на зоне — кирдык.
Из-за спины кто-то схватил меня за подбородок жесткой заскорузлой рукой и так высоко задрал голову, оголив и выгнув дугой шею, что я испугался — вот думаю, и пришла гусиная смерть, сейчас полетят шейные позвонки и будет счастье, если я сразу умру. К шее, к тому месту, под которым пульсирует сонная артерия, он приставил заточку. От его рук пахло острым дерьмом, паршивым табаком и нутряным салом.
— Что касается сути вопроса, моей жопы никто не касался, чего искренне желаю твоей, — прогундел Жора Иркутский.
Я скосил глаза, чтобы видеть его лицо и чтобы понять, что надо такому большому уважаемому здесь человеку от такого ничтожного гнома, как я.
— Зачем портишь правильную маляву? — спросил старик, имея в виду наколку, что сделали мне.
Я попытался объяснить, почему. Мое объяснение в разумных глазах, конечно, казалось глупым.
— Счастья нет. Любви нет. Баба — не человек, — объяснил мне суть моих заблуждений Жора Иркутский. Из его истерзанной болезнью прямой кишки, наконец, вместе с кровью вывалилось немного дерьма, ему, видимо, полегчало, он вытер пот со лба поданным шестеркой вафельным полотенцем.
Стройный вихлястый парень принес парашу с теплой водой. Жора сел в нее голым задом. Другой шестерка принес жаровню типа той, над которой жарят шашлыки. В жаровне мерцали угли. Шестерка раздул их, набросал из мешочка сушеной травы, заклубился обильный дым. Шестерка водрузил на жаровню что-то типа большой воронки с сиденьем над горлышком. Первый шестерка отер Жоре тощие маслатые ягодицы махровым полотенчиком. Жора сел на сиденье над горлышком, втягивая дым больным задом. Шестерка накинул на Жору большой овчинный тулуп, в каких сидят над проволокой часовые, закинул одну полу на другую.
— Жора, его пришить, а то у меня уже рука затекла? — спросил хриплый голос того, кто выгнул мою шею дугой и держал упертую в нее заточку.
— Потерпи чуток, мы еще побазлаем, — Жора закурил «мальборо», предложил мне. Я никогда не курил, но решил попробовать перед смертью, что это такое.
Жоре стало совсем хорошо. Он протянул красивую длиннопалую руку, шестерка поставил в нее флакон с коньяком. Жора сделал хороший глоток и дал глотнуть мне. Коньяк мне понравился, я подумал, все равно пропадать и выпил все. Тот, кто держал меня за подбородок, застонал, должно быть, от горя и так сильно выгнул мою бедную шею, что там хрустнуло.
— Он убьет меня, — простонал я.
— Он знает свое дело, — довольно хмыкнул старик. — Ты резвый парень.
— Нет, — возразил я. — Это от комплексов, я боюсь показаться трусливым и поэтому всегда хамлю.
— Хрен с ним, с этим Фрейдом, мне он до фени, — старик посмотрел на белые пятна под ухоженными ногтями и посчитал пальцы, видимо, что-то загадывая. — Значит, ты тот самый парень, который уложил передовой отряд торговцев дурью?
Мое нутро похолодело и опустилось в ноги. Ноги задрожали и стали слабыми, я скосил глаза, чтобы увидеть чего он хочет. Его рот улыбался, из прищуренных страшных глаз шла непоколебимая сила. Мне стало понятно, почему именно он правит всеми северными лагерями.
— С чего ты взял, мне даже не шили такое? — независимо от меня ответил мой пьяный и дерзкий голос. Жесткая рука еще крепче сжала мой подбородок и еще круче выгнула мою нежную шею; знал бы я, как сложится жизнь, не в университет бы ходил, а в подвалах качался.
— Что тебе шили? — спросил голос Жоры Иркутского, теперь, как ни косили глаза, я не видел его.
— Что было, — ответил мой голос.
— А что было? — терпеливо спросил голос Жоры Иркутского.
— Что шили, — ответил я.
— Ты, сучий потрох, с кем колеса разводишь? — сказал за спиной этот паршивый хмырь и надавил заточкой сонную артерию на моей шее.
— Это не он говорит, это говорит его страх, — сказал голос Иркутского. — Отпусти его харю, а то я не вижу глаза, у меня есть вопрос.
Жесткая сильная рука отпустила мой подбородок, я оглянулся и посмотрел на него, да это был настоящий горилла. Он сделал грязными сильными пальцами «козу».
— Выбью, — сказал он.
Мне очень хотелось плюнуть в его жестокую морду, но я подумал, действительно, выбьет, что-то не хочется умирать слепым.
Жора Иркутский закурил новую сигарету и дал закурить этому диплодоку.
— Ты понял, почему братва засадила тебя на общую за угон, а не упекла на спец за покушение на своих достойных братанов? — мне он почему-то не предложил сигарет у, ну и хрен с ним, подумал я, а также все северные сиянья на свете. Навек закрылось мое сердце, не быть мне мужем и отцом.
— Я понял, — ответил я. Я смотрел в его жесткие непроницаемые глаза вышедшего на охоту зверя и мне, действительно, многое становилось понятным.
— Ты правильно понял. Ты будешь «петух на зоне». Будешь спать у параши. Жрать только объедки. Любой будет иметь твою задницу. Каждую минуту ты будешь жалеть, что мама родила тебя.
— Этого не будет, — упрямо ответил мой голос. — Я убью каждого, кто полезет ко мне.
— Убей его, он только один, — сказал Жора Иркутский, задумчиво кивнув на того, кто стоял за моей спиной.
Я собрался и со всей силой двинул громилу локтями в бока. Тот засмеялся и сдавил мою шею, обхватив ее левой рукой. Я обмяк и почти потерял сознание. Горилла освободил захват и дунул в мое лицо своим зловонным дыханием. От этой ужасной вони я тут же пришел в себя.
— А их будет много. Тебя придушат влажным полотенцем, ты расслабишься и обмякнешь. Твоя жопа станет влажной и нежной…
Я молчал, я думал, сейчас как следует соберусь, сгруппируюсь и обеими ногами так садану старика в его беззубую морду, что тот, кто сзади, тут же убьет меня и я умру не униженным. Навек закрылось мое солнце, не быть мне мужем и отцом — да, так пели зэки в те времена, когда на Сахалин ездил за туберкулезом молодой земский врач Антон Павлович Чехов. Только я успел чуть-чуть собраться, этот всесильный старик спросил меня:
— Николай Осс сорокового года рождения кто тебе?
— Отец…
С этой минуты мое положение круто переменилось, на хату я вошел смотрящим бугром. С другой хаты к нам перевели двух жилистых ловких парней. Парни спали по очереди. По очереди один из них был неотлучно при мне.
«Замочить» их никто не смел, это были доверенные люди самого могущественного человека в Арктике Жоры Иркутского. Я правил твердо и справедливо. Через полгода меня короновали «вором в законе» и накололи две роскошные звезды на моих ключицах. Мастера обмотанной ниткой иглы и пузыря с тушью подправили маляву на моей груди, закрыв орнаментом на тему «один день в России» получившиеся огрехи.
Теперь у меня красовался роскошный текст «есть счастье в жизни — это любовь» в окружении самых невероятных и вероятных способов этой самой любви, совершаемой 37-ю народностями России.
Еще через полгода меня перевели на другую зону. Там я стал смотрящим уже по зоне. Если перевести на военный язык, это скорее всего генерал. «Хозяин» советовался со мной через день, «кум» был на посылках.
Когда-то очень давно, когда отца посещало хорошее настроение и жизнь его не была столь паршивой, а работа была уважаемой и высокооплачиваемой — одним словом, когда мы были покойны и счастливы в своем застое, как жабы в болоте, отец рассказывал мне о своем детстве.
Оно было печальным. Отец рос длинным и близоруким. Его дразнили: «глиста», «дядя, достань воробушка», «фитиль». А тех, кто это делал, отец не видел. И ему казалось, что это делали все, что это весь мир отвергает его.
Он прятался от людей, ходил в школу окольными путями и не заметил, как ему исполнилось пятнадцать с половиной лет и он превратился в высокого, стройного, атлетически сложенного юношу с черными волосами, голубыми глазами, красивыми и мужественными чертами лица.
Как раз в это время его отцу, а моему любимому деду, наконец, здорово повезло: его перевели с большим повышением по службе в базовый район залива Святого Владимира.
Здесь было отлично. Никто не дразнил его, будто все сговорились удержать Колю от самоубийства, о котором он все чаще подумывал… В этом чудесном месте все искали дружить с ним, подходили знакомиться, расспрашивали, кто он такой, откуда прибыл, каким видом спорта занимается, чем интересуется в жизни, кем хочет стать.
Здесь в первое утро, когда он пошел в школу и перепрыгивал через канаву, папа встретил девушку, которая перепрыгивала через канаву навстречу ему. Они ударились друг о друга, потому что оба были близорукими и оба стеснялись носить очки. Они упали в канаву нос к носу и увидели, как они красивы.
Так случилось, что это была самая красивая и самая умная девочка базового района. Они познакомились и стали дружить. Мне всегда хотелось, чтобы папа, наконец, сказал: «Это была твоя мама». Но папа так и не сказал это.
Папа в этом месте всегда замолкал и молчал очень долго. Ему чудилось, как они, рослые девятиклассники, кричат на классном часе, обсуждая маршрут летнего похода по следам Арсеньева и Дерсу Узала. Ведь это был Дальний Восток, до Сихотэ-Алиня рукой подать, он начинался тут же за окнами, там, в тайге, цвел виноград и ревели тигры.
Здесь, в этом прекрасном, любимом богами месте, мой отец чуть не стал поэтом, он просыпался ночью в слезах; папа никогда не плакал от обиды и боли — он плакал от счастья, что в жизни все так хорошо и красиво складывается, и писал до рассвета стихи. Он похудел, в его дневнике появились тройки, мама устраивала ему скандалы, но папа ничего не мог с собой сделать.
…Однако в России счастье не бывает долгим. Всегда находится реформатор, который способен испортить все, что успело хоть как-то сложиться и кое-как притереться после усилий предыдущего реформатора. В тот момент им оказался некий Хрущев, маленький, лысый, крикливый, с большими претензиями и большим животом. Первым делом он сократил армию и флот, убрал из них поколение победителей, оставшихся в живых после той страшной мировой войны, которая у нас известна как Великая Отечественная. Отец моего отца, мой любимый дедушка, был в их прекрасном числе…
Там же в этом чудесном месте, где рос в тайге виноград, где медведи лакомились дикими грушами, а уссурийские тигры жрали пятнистых оленей, у папы был друг, ровесник и одноклассник Николай Головин.
Он тоже был в каком-то роде изгоем. Нет, он не был длинным и близоруким, с этим у него был полный порядок. Он был некий уникум, н у, к примеру, не видел никогда железной дороги, а также трамвая, троллейбуса, унитаза. Но это не самое главное, что отличало Головина от других, — здесь жило полно народу, который никогда не видел унитаза, водопровода и ни разу в жизни не садился в троллейбус, автобус или трамвай. А о том, как выглядит железная дорога, знал лишь теоретически.
Главная его особенность состояла в том, что Коля был «пиджаком», т. е. у него не было отца, служившего в Вооруженных Силах. Как не было, впрочем, и любого другого.
Причем он не был сиротой в общем понимании, просто не было в мире никогда ни одного человека, который бы вдруг откликнулся, скажи Коля «папа». Когда он был маленьким, он влезал на самое высокое дерево на вершине самой высокой сопки в округе и часами кричал: «папа! папа!» Однако папа не появился.
Колина мама тоже не была военной, как, к примеру, у Таранца, она работала вольнонаемной уборщицей в политическом управлении базового района.
Конечно, народ в этом месте жил добрый и чуткий, но с Колей никто особенно не дружил, хотя никто и не гнал его от себя. Это скорее всего происходило из-за того, что всемогущий в будущем Жора Иркутский никогда ни к кому не набивался в друзья. А вот с папой они почему-то сразу сдружились. Каждый из них обрел в лице тезки друга в первый, а может быть и в последний раз в жизни.
Потом Коля стал Жорой, так сильно подействовали на него те блага цивилизации, которые он увидел, когда базу здесь сократили и он с мамой вынужден был перебраться во вполне бандитский шахтерский поселок Сучан, где у мамы жили какие-то дальние родственники из нивхов. Наверное, он хотел, чтобы тот честный и благородный отрок Коля остался сам по себе и жил своей собственной честной жизнью в чьей-нибудь памяти.
«Кум» моего лагеря, где я сидел смотрящим, пригласил меня к себе в оперативную хату. Он разлил водку по двум маленковским[7] стаканам, напахал сала большими ломтями, достал из сейфа банку с маринованными огурцами. Мы подняли стаканы и сдвинули разом.
— За все хорошее, Николаич. Ты правильно смотрел за плебсом, мне было удовольствие с тобой работать.
Я подумал, кум не прост, не по дури ляпнул о настоящем в прошедшем времени, мне сидеть еще восемь лет, под амнистию мои статьи не подпадают, значит, кум что-то задумал, значит, надо его опасаться. Но по нажитому долгим опытом правилу виду не показал, что о чем-то подумал, и ответил как надо, то есть никак:
— Будь здоров, Евгеньич.
Мы выпили еще по стакану. Потом оделись потеплее, вышли из хаты, сели в вездеход с уже разогретым мотором и насухо протертым ветровым стеклом и поехали за 70 км в поселок, где жили расконвоированные алмазодобытчики, чтобы, как сказал кум, проверить в настоящей больничке не балуется ли тубик, который я нажил в 93-м в Бутырке и который давно вылечил.
Я подумал, что-то ты врешь, что-то у тебя морда сегодня кирпича просит. Что-то не взял ты с собой водилу и конвойного с автоматом, хотя конвойного обязан взять, не хочешь, видно, посторонних глаз и свидетельских показаний. Значит, хочешь ты меня по дороге пришить. А так как по собственной прихоти людей с таким положением, как у меня, мочить никто не посмеет, значит, почему-то братки сдали меня. Видимо, героиновая наркомафия проплатила мою безвременную кончину.
Ну что же, подумал я, я многое уже испытал и многое успел увидеть. Наверное, на мою долю хватит. Я сразу же ощутил себя вернувшимся из полета. Как долго не было меня здесь. Все соскучились обо мне. Я красиво посадил аппарат на три точки и спустился в лифте на землю. Солнце светило как всегда ярко и сбоку. Тепло пахло хвоей и листьями. Встречать нас пришла, кажется, вся колония, и среди них стояла та, кто сильнее всех любила и ждала меня. Как давно я не переживал эту радость всеобщей любви. Как хочу навсегда вернуться в нее и узнать, наконец, что будет потом, после того, как меня встретили… Значит, пришло время, значит, пора, пусть опер сделает, что должен, я не буду мешать…
За воротами и колючкой, у магазина, в уазик подсел мужичок одних со мной лет такого же высокого роста и такого же посредственного телосложения. Он открыл кожаный «дипломат» и достал бутылку с водкой. Мы раздавили ее на троих. «Подельник», — подумал я про этого вольного мужика.
Евгеньич, в нарушение всех инструкций и правил, сам крутил баранку по завихряющейся поземкой дороге. А я думал на тему, когда буду уходить отсюда, кто за мной придет, какой ангел и куда он меня отправит? По всему выходило, что ангел черный и отправит, скорее всего, в ад. Мы распили еще один пузырек и закусили бутербродами с нельмой, которые прихватил вольняшка.
Евгеньич остановил машину. Я посмотрел на спидометр, мы отъехали от зоны 36 км. Я подумал, шестью шесть тридцать шесть, не попасть бы мне с этими шестерками куда-то похуже ада и попросил отъехать еще чуть-чуть.
— Самая пора немного отлить, — возразил Евгеньич. — Как ты считаешь, Юрок?
— Самое время, — согласился вольняшка.
— Вот видишь, и Юрок так считает.
Я вылез на укатанную дорогу и потянулся. Евгеньич держался у меня за спиной. Вокруг дороги стояли под снегом юные елочки. Зачем он прихватил вольняшку, подумал я, наверное, чтобы был свидетель моего побега.
За моей спиной били об наст две мощные струи. Я тоже попробовал помочиться, но то ли на нервной почве, то ли из-за тех «бесед» со следоками, когда меня прессовали и отбивали почки, у меня ничего не вышло.
— Тебе надо обязательно показаться урологу, — чутко сказал за моей спиной Евгеньич.
Я обернулся и посмотрел на него, его подлая сыскарская морда не только кирпича, целого блока просила. Я не удержался и сказал напоследок:
— Здесь нет наивных, Евгеньич.
— Я думаю, — согласился кум. — Слушай, Юрок, сбегай по-молодецки, сруби эту красавицу, главврачу подарю под Новый год.
Кум достал из ножен огромный рубило — боевой нож спецназа и протянул вольняшке. Вольняшка взял рубило, застегнул ширинку и побежал за елкой. Кум вынул из кобуры ствол, подождал, когда тот отбежит метров на десять, и стебанул ему в спину. Я видел, как клочья полетели у того из полушубка.
Кум подошел к дергающемуся в предсмертной судороге телу, сделал контрольный выстрел в голову. Потом вытащил из багажника спортивную сумку из кожзаменителя и протянул мне.
— Переоденься в салоне — все, догола. Протрись, запах чудесный, — он вынул из-за пазухи пузырек с «Шипром». — Настоящий мужской запах, это не какой-нибудь пидерасский «Кортье».
В Карлаге в одно время со мной загорал на нарах известный пидор Манюта, из всех напитков он предпочитал именно «Шипр», но я не захотел спорить.
Я разделся догола, не жалея, намочил в «Шипре» утирку и обтер себя ото лба до пяток. Евгеньич забрал мое тюремное барахло, бросил его на труп, облил из канистры бензином и поджег.
В сумке лежала в аккуратных пакетах на первый взгляд простая, но, как мне показалось, очень дорогая одежда.
Было предусмотрено все — от нижнего шерстяного белья с мягким нежным начесом до меховой куртки из нубука, все великолепно сидело на мне, все было точно моего размера. Я выпрыгнул из машины и заново ощутил, как легка и удобна моя новая роба.
— Круто. Когда я такое надену? — вздохнул Евгеньич.
Мы подождали, когда тело обгорело достаточно, чтобы было невозможно узнать, кто там лежит, сели в машину и поехали дальше. Кум вытащил из-за пазухи фляжку со спиртом, глотнул сам, дал отпить мне.
— Помянем кента. Правильный был мужик, но имел один недостаток, догадайся какой.
— Я догадался.
— Правильно. Это большая находка — по всей антро… антропото… тьфу ты, блин… одним словом, даже зубы пломбированы, как у тебя. Не говоря о возрасте, телосложении и прочих фактах.
Мне было тяжело на душе; тот, кто пошел из-за меня на такие расходы, потребует от меня немало. Чем же, он хочет, чтобы я платил ему? Чтобы я стал киллером? Террористом? Убил президента? Да, это самое дорогое. Что-то не хочется этим всем заниматься, мне уже 32, пора строить дом, сажать деревья, заводить детей. А тут новый виток в уголовщине… Кто же заказал все и все опять решил за меня? Еще через три километра, когда на спидометр выскочила цифра 40, я увидел на обочине «ниссан-террано» с тонированным остеклением. Кум Евгений подвел меня к этой машине, открыл дверку. За рулем сидела Полина…
Ах, как шло Полине это маленькое черное платье, как оно подчеркивало ее нежный загар… у тебя родинка на верхней губе, признак чувственности и кокетства… пятнышко абсолютно круглое и скорее светлое, чем другое, — это признак того, что тебя ожидает большое счастье и большое богатство, и дай Бог, чтобы это произошло на самом деле.
Я неудачно повернулся на каблуках и почувствовал, как у меня на правом полуботинке опять отклеивается подметка. Этот паршивый клей, надо написать жалобу, разве так «держит намертво»!?
И я понял в этот миг, что бы со мной ни случилось в жизни, как бы тяжело или как радостно ни пришлось, я буду вспоминать его как невыразимое и неповторимое счастье — именно это, а не что остальное: когда я целую ее и чувствую губами каждый маленький капилляр, чувствую, как он наполняется жизнью, как набухают губы, твердеют соски. Полина слабо возражает мне, между нами возникает и растет родство, мы становимся друг другу родными.
Я вошел в нее и ощутил ее сладкую нежную плоть. Случилось то, о чем я мечтал и чего достиг. Но радости не было — это все? А что дальше?.. И что я за человек, что вообще может доставить мне радость? Сделать хотя бы на минуту счастливым? Или хотя бы довольным?.. Конечно, я украл у нее эту близость, можно сказать, отнял.
Если бы она домогалась меня, как я ее. Или если бы она получила от меня такой восторг, который не получала и никогда не получит ни от кого, и чтобы всю оставшуюся жизнь, занимаясь этим, она вспоминала меня, думала обо мне, мечтала о встрече. Чтобы, забыв стыд и гордость, преследовала меня.
Я стал молиться: «Господи, дай мне огромную мощь! Н у, дай! Господи, дай! Что тебе стоит…»
Я очень старался. Полина закрыла глаза и стала постанывать и изворачиваться подо мной. Я обрадовался и опять стал молиться: «Господи… Господи… Господи!.. Ну еще чуть… Еще две минуты…» И вдруг ощутил, что слабею. Я испугался, что сейчас все кончится. И только я испугался, все кончилось.
Я вспомнил, что читал о Распутине. Его достоинство всех сводило с ума. Самые блестящие фрейлины императорского дворца, забыв стыд, искали близости с ним. Его длина была 32 см, а у основания, вдобавок, выросла бородавка, которая во время контакта так заводила партнершу, что некоторые даже теряли сознание. Власть Распутина над женщинами была беспредельной.
Ну, почему это не я?! Я представил, как Полина кричит от страсти и радости… мечты прекрасны, действительность же убога… Почему все так вульгарно просто? Почему от величины и крепости члена в этом мире зависит все? Или почти все? Ух, как я понимал князя Юсупова. Этот наглый бородатый мужик пришел со своим мерзким дрыном на случку с его юной прелестной женой. И как было ему отказать — друг царя, любовник царицы — он вдурь валил любую на спину, терзал двадцать минут, и после этого любая становилась его рабой.
Увы, это не я. Полина стесняется смотреть мне в лицо. А я не знаю, как быть дальше. Что-то сказать или просто уйти молча? А что я скажу? «Извините за покушение с негодными средствами»?
Я с трудом отыскал трусы, которые как-то попали в пододеяльник. Надевая их, с омерзением посмотрел на свой мелкий и вялый орган, который был в два раза меньше, чем у того разбойника из Сибири.
Полина тоже молчала. Она лежала с закрытыми глазами и кажется чего-то ждала.
Я подумал, что нельзя уходить молча. Так уходят хамы. Полина разве в чем виновата?
Я встал перед тахтой на колени — не потому, что я такой рыцарь печального образа, а чтобы не громоздиться пожарной верстой. Я снял с нее одеяло. Полина тут же испуганно натянула его на себя. Она мельком глянула в мое лицо. Я увидел в ее глазах страх. Бедная, она боялась меня.
— Полина, не бойся меня. Я плохой, но я не зверь… — я хотел сказать что-то необходимое для нее в эту плохую минуту, но я не знал что и я сказал то, что сильнее всего мучило меня самого. — Прости, что я изгадил тебя…
Полина молчала. Тогда я отвернул маленький уголок одеяла. Под ним лежала стопа. Пальцы на ней испуганно сжались. На одном, на изгибе, была молодая мозоль. Я прислонился грудью к тахте и стал осторожно, один за одним, целовать пальцы. Дивный, сладкий вкус пота. Я совершенно не брезговал. Я был удивлен, мне не было это противно. Наоборот, были какая-то радость и даже восторг, что я делаю это и что это мне не противно. Тогда я стал подниматься губами выше и дошел до колена.
— Не надо, я так не люблю, — прошептала Полина, и от звука ее, ставшего мне родным, голоса словно камень свалился с моей души. Я почувствовал необыкновенную нежность к ней и необычайную силу. Я стал целовать ее спину, руки, шею.
Она повернулось ко мне. Ее лицо было заплаканным. Я стал целовать каждую слезинку на нем и выпивать ее, промокая губами. Неожиданно Полина обняла меня и прижалась своими губами к моим. Меня трясло как в лихорадке. Все звенело во мне от желания и силы… Как было потом, я никогда никому не скажу…
— Толик, ты можешь ответить мне на один вопрос? — спросила Полина.
— Я могу ответить на любой твой вопрос, — ответил я.
— На любой? Нет, ответь на один, но только правду.
— Как скажешь, — я поцеловал ее.
— Почему у тебя такая странная фамилия — Осс — ты еврей или немец?
— Кем хочешь, тем буду.
— Нет, я хочу правду, ты обещал… — в ее голосе послышалась еле заметная и очень женственная капризность.
Я ощутил, как во мне опять растет желание и мощь. У меня закружилась голова от предчувствия чего-то грандиозного, я сказал ей:
— Выходи за меня замуж.
— Когда? — насмешливо спросила Полина.
— Чем быстрее, тем лучше, — я весь горел, я чувствовал, как у меня пылают щеки.
— Зачем? — спросила Полина.
— Я буду тебя защищать, — как-то слишком непросто ответил я.
Полина тут же уловила этот паршивый тон и поморщилась. Боже мой, ведь я искренне хотел бы защищать ее от всего, что готовит нам каждый день наша жизнь, откуда такая фальшь в моем голосе? Почему, когда человек хочет сказать что-то искреннее, но высокое, все кажется вдруг фальшивым. Почему не фальшивы только ирония, сатира и юмор? Почему злость никогда не кажется нам фальшивой?.. Потому что, обещая хорошее, нам врут, а суля плохое, говорят правду?.. Интересно, это уже кто-то сказал или я сам придумал? Полина ответила мне с иронией:
— Я уже дала согласие Роберу, у него больше возможностей защищать меня.
Вот и накрылась моя любовь сытой американской задницей.
Стукнула входная дверь в смежную комнату. С работы явился ее отец, он притащился с дружками и все матерился там за стеной:
— Где, блин, подмени, да где, блин, подмени…
На моем лице, видимо, отразился испуг.
— Не бойся, защитник, у него есть недостатки, но есть и достоинство — он никогда не заходит ко мне, — прошептала Полина.
Она проводила меня по общему коридору, по которому нам навстречу валили сотни людей с кастрюлями, сковородами и сиденьями от унитазов.
Мы шли вместе до пешеходного перехода у перекрестка улицы Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Я спросил:
— Можно я тоже задам один вопрос?
Полина посмотрела на меня внимательным взглядом.
— Можно, — сказала она.
— Ты любила кого-нибудь?.. — мне стало стыдно, что я спрашиваю об этом, я невнятно домямлил. — Ну… ты понимаешь?..
— Да, понимаю, — Полина сорвала стручок акации, обломила его, сделала пищалку, дунула, звука не получилось, она выбросила ее. — Очень любила… Это был мальчик. Поэт. Я училась в десятом классе.
— А потом?
— Я разрешила задать только один вопрос.
— Значит, ты больше никого не будешь любить, — сказал я.
— Я не очень-то и стремлюсь, — сказала она…
— Полина, мне нечем будет заплатить тебе, — сказал я Полине.
— Ты уже заплатил, — Полина прижала грудью баранку, вынула из сумочки новенький международный российский паспорт с вложенным в него авиационным билетом.
Я развернул паспорт, в нем была вклеена моя свежая фотография, фамилия значилась ОВОД, имя мое, АНАТОЛИЙ.
— Полина, почему обязательно Овод?
Полина стала хохотать, как сумасшедшая. Жизнь в Америке ей явно пошла на пользу, я раньше не видел, чтобы она так смеялась. Зубы у нее были белые, как тот рафинад, который по пять комков на день давали нам каждое утро.
— Полина, куда ты так гонишь, давай остановимся, поговорим.
— Толинька, у нас еще будет время, наговоримся. А сейчас надо подальше отъехать отсюда.
Она сказала мне «Толинька», она никогда так раньше не говорила.
— Ты сказала мне «Толинька»?
— Да, я сказала… — она посмотрела в мои разноцветные глаза. — Тебе не нравится?
— Ты спросила, нравится мне или не нравится?
— Ну и что? — спросила она.
— Полина, что случилось с тобой?
— Я люблю тебя, — сказала она.
— Когда? — удивился я.
Мы едва не столкнулись с мчащимся навстречу огромным карьерным «БелАЗом». Полина остановила машину у обочины. Сама обняла и сама поцеловала меня. У нее было прекрасное дыхание молодой здоровой женщины. От меня же воняло спиртом, нельмой и «Шипром».
— Прости, от меня поди так воняет, — извинился я.
— А как от тебя должно пахнуть — ты ведь не из санатория, — вздохнула она. — Знаешь что, я немного устала, ты не мог бы чуть-чуть повести машину? — спросила она.
— Надо попробовать, я уже девять лет ничего не водил.
— Боже мой, ты девять лет просидел?!
— Девять, — сказал я и подумал: «всю жизнь».
— Попробуй. — Полина пересела ко мне на колени, опять обняла и опять поцеловала. Глаза у нее поплыли, дыхание прервалось. — Какое счастье, что я нашла тебя, — прошептала она…
— Какое счастье, что ты захотела найти, — сказал я.
— Я не знала, я бы раньше стала искать…
И вот уже я гоню по ледяной дороге надежный «ниссан-террано». Террано — это, кажется землепроходец, если «терра» — земля, значит, «террано» именно то, что нужно для такой дороги. Поземка за стеклами машины превратилась в пургу, сильный арктический ветер хлестал в нас со всех сторон острым колючим снегом.
Полина тронула меня за плечо. В ее руке было международное водительское удостоверение с моей цветной фотографией и фамилией Овод.
— Ну, почему все-таки Овод? — спросил я ее.
Она опять начала хохотать, как ненормальная. Мне тоже стало смешно, я тоже стал хохотать, не помню, когда я смеялся так.
— С этой фамилией меня первый же мент заметет.
— Осс разве лучше? — сквозь смех спросила Полина.
«Осс», конечно, ничем не лучше, но и «Овод», разумеется, не фонтан.
— Зато в Америке с этой фамилией ты будешь весьма популярен, — сказала Полина.
— Каким образом? — я совсем не понял ее.
— Ну, они подумают, что это ты сам или что ты его потомок, будешь выступать на паати в лайброри, рассказывать о нем, о себе… Тебе будут за это немножко платить.
Я опять ничего не понял.
— Они что — идиоты? — спросил я.
— Я бы так не сказала, просто их интересует все, что они не знают, — возразила Полина.
— Тогда они дети, — сказал я.
— Это, пожалуй, в точку, — согласилась Полина, — абсолютные дети. «Хочу» — «дай», «не хочу» — «не буду»… иногда — добрые, иногда — злые, но всегда конкретные и простые, как дети.
— Если они такие дети, почему тогда они самые главные в мире? — спросил я.
— Дети разве — не самые главные в мире? — спросила Полина.
— У тебя есть дети? — спросил я.
— Вопрос не корректный, — холодно сказала Полина. Я понял, что в этом кроется какая-то драма.
Пурга разыгралась и превратилась в настоящую бурю. Я включил все наружное освещение. Мы мчались сквозь завывание метели и снег по твердой обледенелой дороге. У нас стало, видимо, одинаково на душе, потому что мы вдруг оба запели:
- Буря мглою небо кроет,
- Вихри снежные крутя,
- То как зверь она завоет,
- То заплачет, как дитя,
- То как спутник запоздалый
— и т. д. до самого конца.