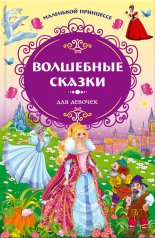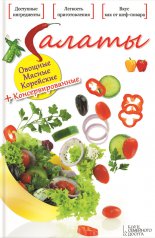Notice: Undefined variable: contentRead in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 681
Notice: Undefined variable: row in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―Æŧ ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―

ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Ōļïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 27 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 113 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[11]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―å ŧ ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 300 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―)
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―3 ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!!!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
- ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
- ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
- ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1936 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
- ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ā
- ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1940/41 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 40 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 22 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 4 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―įŧ
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 21-ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 200 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 200 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 200 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1941 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― 1945 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1946 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 200 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 72 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―).
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1966 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1941 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 10 ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―). ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 50 ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?