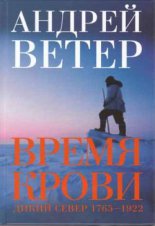Зубы дракона. Мои 30-е годы Туровская Майя

«Наши студии производят от 30 до 70 картин в год каждая… Сколько произвела в этом году картин ваша студия „Мосфильм“?» Покривив душой, Александров ответил, что аж двенадцать. «При такой программе дешевле делать картины старым кустарным способом, как в Европе, – сказал Капра и добавил: – Мне кажется, что именно в плановом государстве следовало бы давно перенести кинематографию на юг». «Кто поедет на юг?» – возразил Александров. «То же говорили в Америке в 24–25 годах, когда шло великое переселение в Голливуд»[178].
Беседа эта состоялась 7 мая 1937 года, а 10 октября того же года Нильсен (еще в феврале награжденный орденом «Знак Почета») был арестован. И та же газета «Кино», которая иначе как «орденоносцем» его не именовала, теперь называла Нильсена «наглым проходимцем», который «разжигал ажиотаж вокруг порочной идеи создания киногорода, которая на практике привела бы к омертвлению крупнейших капиталов». Ну и конечно, говорилось о «чуждых» методах «конвейерного производства фильмов»[179]. Идея киногорода была, таким образом, похоронена вместе со всем руководством кино – и это тоже история «Мосфильма» в 1937 году…
Смешно, конечно, теперь – по окончании советской власти, столетия и даже тысячелетия, когда злосчастный Форос вообще оказался в другом государстве, – обсуждать в сослагательном наклонении вероятность советского Голливуда. С одной стороны, ведь построили же Днепрогэс, Магнитку, ЧТЗ (Челябинский тракторный завод) и СТЗ (Сталинградский тракторный завод). С другой, как ни кинь, конвейер действительно не отвечал установке на «искусство», на «душу» и проч. С третьей, кто и вправду согласился бы покинуть столицы? Но с четвертой, почему бы не случиться кинематографическому Новосибирску? Ведь жила описанная Ильфом и Петровым Одесская киностудия – и продолжает жить…
Закончу это гадание на гуще советской истории кинокурьезом из книги Шумяцкого. В зените кинематографических мечтаний, на Московском фестивале 1935 года (кстати, старейшем после Венеции), «бронзу» получили мультики Диснея, в том числе «Три поросенка». Они даже вышли на отечественный экран, оставив нам на память лихой мотивчик «Нам не страшен серый волк». Может быть, этим подарком мы, советские дети, были обязаны тому, что в розовых поросятах идеологически бдительный нач-ГУК увидел типичный пример «аполитичности». Меж тем как на самом деле именно неунывающие поросята озвучили своей залихватской мелодией Who’s afraid of the big bad wolf «Новый курс» Рузвельта, став его эмблемой и, значит, политическим шлягером. Кое о чем Шумяцкий все же догадывался. «Мораль диснеевских фильмов, – пишет он, – невысока. Это обычная капиталистическая мораль». Если два братца были разгильдяями, «то третий брат, отличавшийся трудолюбием, как и полагается капиталисту, построил каменные палаты»[180]. Эта оговорка по Фрейду (трудолюбие = капиталист) как нельзя лучше демонстрирует различие между американскими values, иначе говоря, ценностями, и российской версией американизма – не трудолюбие, а энтузиазм, подвиг, дело чести, доблести и геройства. Так, может быть, и вправду не подошел бы советскому экрану киногород с его бесперебойными съемками и десятикратной продукцией? Может быть, недаром заметил Капра, что американская техника обгоняет режиссеров – зато советская отсталость вечно располагала и их к подвигу?
Время-как-родина
Советско-американские кино-отношения, как отраслевые, так и общественные (не говоря об известной любви Сталина к Голливуду), – это отдельная, полная тайн, обманов, страстей и бюрократических изысков тема для исследования. «Великое советское кино», живущее в автономном режиме соцреализма, если и было отделено «железным занавесом», но взгляд не отводило от Голливуда. Взгляд из Америки на советское кино был систематичнее, спокойнее и уравновешеннее. Но предлагаемое ниже сличение отдельных лент из ретроспективы Sov-Am прямого отношения к этому не имеет. Случаи перелицовки сюжета встречались (например, фильм «Тринадцать»), но нечасто. Прямые влияния тоже были избирательны (все тот же Александров). Сравнительные программы ретроспективы зиждутся не на этом.
В основе сравнения – смыслообразующий мотив фильмов, некий pattern, указывающий на месседж. Подобные мотивы диктуются чем-то более универсальным, чем текущая идеология или политическая система. Они актуализируют созвучные темы из кладовых культуры, аранжируя их на свой лад.
Разумеется, столь стройной системы соответствий, как «кино тоталитарной эпохи», американский фильм не предлагал. Сходные мотивы располагались веером, в разных направлениях. Если что их и объединяло, то месседж в его самом общем виде. Как правило, то послание, с которым фильм обращается к зрителю, в советском и американском кино имело противоположный вектор. Ограничусь несколькими примерами.
Сходность мотивов и противоположность морали особенно наглядны в случае экранизации одного и того же первоисточника. В качестве примера годятся экранизации evergreen романа Стивенсона «Остров сокровищ» – американская (Treasure Island,1934, MGM; режиссер В. Флеминг) и советская (1937; Союздетфильм, режиссер В. Вайншток).
Отечественная версия была едва ли не последней эскападой бравурного правления Шумяцкого. Парадоксальным образом она попала под огонь критики как раз за «советизацию» приключенческого сюжета. Охота за сокровищами «для себя», ясное дело, не могла вдохновить руководство ГУКа, и в происходившее в XVIII веке действие фильма был добавлен мотив борьбы… Ирландской революционной армии за независимость! Сокровища нужны были для ее вооружения (надо сказать, что на докладе в любой западной аудитории явление на экране пресловутой ИРА вызывало нервный смех). Кроме идеологизации сюжета, была в фильме еще одна экстраваганца: надеясь залучить любимицу советского зрителя, австрийскую знаменитую травести Франческу Гааль, мальчика Джима переделали в девушку Дженни. С иностранкой не получилось, но роман Дженни с доктором Лайвеси далеко увел действие от романа. В эпилоге переодетую Дженни принимали в армию повстанцев, и речь их предводителя мало чем отличалась от песни «уходили комсомольцы на Гражданскую войну».
В переломный момент ареста Шумяцкого (как и всей верхушки кино) даже зрительский успех и высокий бокс-офис не спасли фильм от разгрома и от эпитета «вредный». Разумеется, это было делом очередной конъюнктуры – давно ли сам Шумяцкий громил Эйзенштейна за «Бежин луг»?
Американский фильм был ближе к оригиналу, но и он не обошелся без отсебятины, не менее знаковой. Картина изначально была поставлена на популярную пару – детскую звезду Джекки Купера (Джим) и знаменитого Уоллеса Бири (Длинный Джон Сильвер). Коль скоро по сюжету они то и дело оказывались заложниками друг за друга, в кино между ними возникала дружба, и в финале Джим тайно отпускал пленника восвояси, а бывший предводитель пиратов, в свою очередь, произносил прочувствованную речь о будущей экспедиции, в которой он станет участвовать уже как «честный Джон Сильвер» – его наставила на путь истинный привязанность маленького Джима.
Таким образом, если в нашем случае месседж был «революция», то в заокеанском – «доброе сердце». При всем разнообразии тем и сюжетов, эту оппозицию можно признать интегральной для всего корпуса советских и американских лент той поры.
Однако тут, как и там, tour de force картины служили пираты, и мы, советские ребята, еще долго и с воодушевлением распевали песенку:
- Пятнадцать человек на покойника ящик,
- Йо-хо-хо, веселись, как черт!
- Пей, сам дьявол наш душеприказчик,
- Йо-хо-хо, все равно за борт! –
а любимым персонажем был тот же самый bad Джон Сильвер в веселом и талантливом исполнении хромого Осипа Абдулова. Таким образом, уже эти два фильма очерчивают алгоритм сравнения: общий структурный мотив при разнице фабулы и противоположный месседж; при этом – короткое замыкание сходства иногда по самому неожиданному поводу.
Интересно, что в «Нью-Йорк Таймс» (17.01.38) можно найти изложение всех отечественных претензий к советскому «Острову сокровищ» (включая якобы «растрату государственных средств»).
Кадры из фильмов «Город мальчиков» (слева) и «Путевка в жизнь».
«Путевка в жизнь» (1931; Межрабпом, режиссер Н. Экк) и «Город мальчиков» (Boys Town, 1938; MGM, режиссер Н. Торог), несмотря на разрыв во времени, обнаруживают даже более структурного соответствия, чем экранизации общего первоисточника. Оба фильма посвящены попыткам справиться с проблемой трудных подростков (при этом, разумеется, русская беспризорщина, вышвырнутая на улицу годами Гражданской войны и разрухи, мало похожа на «делинквентных» мальчишек американского «тупика»). Оба фильма имеют документальную основу (это, кстати, одно из «замыканий», типичных для Sov-Am). В анамнезе русского сюжета – история Болшевской коммуны, основанной чекистами; американского – опыт патера Флэнэгана, чья детская коммуна в Небраске просуществовала два десятилетия. Фабула, как обычно, несходна, но «перековка» трудного из трудных – вожака беспризорных Мустафы (его играл башкирский поэт Кырла) и гангстерского отродья Уитти Марча (Микки Руни) – несущий структурный мотив в обоих фильмах.
Поразительно, но «Путевка» – первая «говорящая картина», ставшая к тому же отечественным «хитом», признанная в Венеции одним из лучших фильмов года, получившая мировой прокат и оцененная американской прессой, дома была разругана вдрызг (в том числе знаменитым Карлом Радеком) как «поражение на идеологическом фронте», как далекая от требований пролетарского искусства, буржуазная, сентиментальная лента, не достойная даже правильных «попутчиков». Пройдет еще немного времени, и сама пролеткультовская критика будет в свою очередь разгромлена, расстреляна, а не то так «перевоспитается» куда живее и радикальнее, чем Мустафа. Картина же, заслуженно, войдет в золотой фонд советского кино…
Семь лет спустя американская лента и вправду предъявит все, в чем левая критика обвиняла «Путевку»: общечеловеческую борьбу «добра» и «зла», буржуазную филантропию, а сверх того еще и христианскую ноту. Отца Флэнэгана, не уступая Николаю Баталову в роли чекиста Сергеева, отлично сыграет Спенсер Трэси.
При этом надо не забыть знаковое различие, уже упомянутое выше в связи с советско-нацистской ретроспективой. Если злонамеренный Марч, даже попав в гангстерскую перестрелку, спасется и «перевоспитается» благодаря преданности маленького Пиви, то Мустафа будет убит бандитом Жиганом накануне пуска железной дороги, построенной бывшими хулиганами из его «малины». Религиообразующий мотив жертвоприношения зато объединит сходные картины авторитарных режимов: советского, немецкого и итальянского.
Марчу погибать не понадобится – он просто вернется в лоно веры.
Примеров такого «подобия – противоположности» можно привести немало, вплоть до «Кубанских казаков» (первоначальное название «Ярмарка»), рифмующихся с американской «Ярмаркой штата». Но я остановлюсь на паре всячески знаменитых лент – «Цирке» Г. Александрова (1936, «Мосфильм») и «Ниночке» Э. Любича (Ninotchka, 1939; MGM).
Оба фильма были экранизациями, оба стали гордостью своих кинематографий, оба оказались завидно любимы зрителями и расхвалены прессой, оба украшены именами главных звезд своей «системы» – всемирной Греты Гарбо и социалистической Любови Орловой.
На первый взгляд, между историей американской циркачки, бежавшей из Штатов из-за своего черного ребенка и занесенной судьбой на гастроли в Страну Советов, и эмиссаром органов Ниной Якушевой, посланной из Страны Советов в Париж, чтобы продать конфискованные драгоценности великой княгини, общего мало, почти ничего. В одном случае действие комедии с уклоном в мелодраму происходит за кулисами цирка, в другом – в фешенебельном парижском отеле против Эйфелевой башни.
На самом деле это почти зеркальная история женщины, которая, встретившись с нежданной любовью, меняет не только страну пребывания, но и политическую систему. Станции этой «перековки» эквивалентны, если и не тождественны. Первый поцелуй и последний поцелуй Любича у Александрова хоть и замещается гэгом, но означает ту же победу любви. Перемена дресскода символизирует переход в другую систему ценностей: Любовь Орлова отказывается от «буржуазных» нарядов и переодевается в девственно-белую форму советских спортсменов. Грета Гарбо тайком покупает замысловатую «буржуазную» шляпку и осваивает вечернее платье. Обе становятся невозвращенками. Одна принимает при этом сторону коллективизма (приобщение Марион Диксон к массовой песне «Широка страна моя родная» – это еще и приобщение к коллективу), другая – индивидуальной любви.
Обеим звездам пришлось при этом выйти за привычные рамки. Если Александров влюбил советских зрителей в американскую циркачку Марион Диксон (каковой Орлова и осталась для зрителей), то Любич, заставив инфернальную Грету Гарбо единственный раз в ее карьере расхохотаться, «очеловечил» замороженную советскую функционерку. «Гарбо смеется» было избрано слоганом фильма, и дива оказалась отличной комедийной актрисой.
К «странным» совпадениям фильмов относится непредвиденный встречный a parte – антиамериканский и антисоветский фильмы как будто обмениваются ударами рапиры. Если «Цирк» начинался на территории США, и Александров квалифицированно воспроизвел типовой американский сюжет погони – преследования Марион разъяренной толпой, то Любич очень похоже скопировал парад на Красной площади, в котором участвует Ниночка. Именно такой парад послужил эпилогом «Цирка»; но коль скоро для Ниночки это нижняя точка ее судьбы, то для Марион – высшая.
Я скоро привыкла к тому, что подобные «короткие замыкания» случаются без предупреждения почти в любой паре картин ретроспективы, и уже не удивлялась им.
Вот два инженера, советский и американский, склоняются над макетами своих сооружений.
В американском фильме «Я – беглый каторжник» (I am a Fugitive from a Chain Gang, 1932, WB; режиссер Мервин ЛеРой) протагонист становился успешным и творчески состоятельным инженером, сбежав с каторги и ощутив себя свободным человеком; зато в советском фильме «Заключенные» (1936, «Мосфильм»; режиссер Е. Червяков) инженер-вредитель, напротив, «перековывался» и вдохновлялся на неожиданные технические решения лишь в лагере, на Беломорско-Балтийском канале под руководством (точнее под конвоем) чекистов.
Если в советской «Машеньке» (1942, «Мосфильм»; режиссер Ю. Райзман) трех девушек из техникума поселяли вместе в общежитии, то в американской «Китти Фойл» (Kitty Foilye, 1940, RKO; режиссер С. Вуд) они сами снимали общую однушку ради экономии. Машеньке ее ухажер как бы в знак обручения дарил туфли, Китти ее кавалер – платье…
Самое удивительное, что в двух картинах о «крае земли» (тема общая для обеих стран-континентов), вовсе разнородных, чтобы не сказать противоположных по стилю, пунктир мотивов совпадал почти буквально. «Аэроград» А. Довженко (1935, «Мосфильм» и «Украинфильм») – кинематографическая поэма; «Порождение Севера» (Spawn of the North, 1938, Paramount; режиссер Генри Хэтэуэй) – мелодрама; но просторы Аляски и Дальнего Востока почти что смотрятся друг в друга. Там и тут речь идет о паре друзей; о вторжении в пограничный суровый мир «чужого»; о предательстве друга и о вынужденном выстреле в друга. Даже орнаментальное присутствие аборигенов роднит оба фильма…
Грета Гарбо (слева) в фильме «Ниночка»; Любовь Орлова в фильме «Цирк».
Странно, но на любом докладе эти нечаянные пере клички всегда больше интриговали слушателей, нежели очевидная и ожиданная противоположность месседжа (в «Порождении Севера», к примеру, «чужим» был русский рыболовный пират, в «Аэрограде» – японский диверсант).
Отвечать на вопросы «Почему так похоже?» мне всегда было затруднительно, хотя бы оттого, что ответ представлялся в виде некоего глобального сквозняка поверх стран и систем, для которого кроме затертого «духа времени» я не могла найти подходящего слова. Недавно, и вовсе по другому поводу, такое слово мне попалось у немецкого историка Карла Шлегеля. Это было слово-цитата из переводного Эренбурга Zeitheimat. Я не поленилась найти первоисточник – немецкий перевод его книги «Виза времени» (1928), и там оно стояло на нужном месте и в нужном значении общего времени, «времени-как-родины». Разумеется, мне захотелось узнать, как это емкое понятие значилось у автора на родном языке. Увы, уже в русском издании 1931 года все придаточное предложение было вымарано вместе с замечательным словом Zeitheimat. Быть может, его и не было у Эренбурга вообще. Может быть, это подарок немецкой грамматики, которая позволяет склеивать слова, образуя дополнительные смыслы; возможно, это не переводимая обратно, на язык оригинала, находка переводчика Ханса Руоффа. Я благодарна ему за эту Zeitheimat, за общее «время-родину».
Эту «время-родину» (30-е годы) еще лихорадило индустриализацией – «тейлоризмом» и «фордизмом» (в СССР в модальности «догнать и перегнать»). Еще Великая депрессия отягощала Запад «гроздьями гнева», а Страна Советов гордилась своим энтузиазмом. Еще советских инженеров посылали учиться на Запад, зато их коллеги с Запада ехали трудиться в «страну будущего», не знавшую кризиса и краха биржи. Еще большевики сулили раскрепостить строителей социализма от оков быта – в то время как бесчисленные кафе-автоматы и прочие общепиты (прообразы фаст-фуда) уже реализовали эти посулы в США. Женский пол, стриженый и эмансипированный, пополнял ряды трудящихся в обоих полушариях: пролетариата «белых воротничков» – в Штатах, трактористок и метростроевок – в СССР. Если Америка все еще была Новым Светом, то Россия – сверхновой страной-«подростком». Если всемирный любимец Чарли Чаплин едко высмеивал конвейерную цивилизацию текущего времени, то наш местный драматург Н. Погодин воспевал цивилизацию ГУЛАГа. Еще вовсю шло «соревнование двух систем» – на разных континентах, но в пределах одного и того же «времени-родины»…
Подозреваю, что именно Zeitheimat, вопреки всем политическим полярностям, насыщало «важнейшее из искусств» суммой своих реалий, мифов, мотивов и структур.
Я даже думаю, что в самих механизмах создания «кинематографа всеобщей мечты» у них и у нас было заложено если не прямое сходство, то некий содержательный параллелизм.
An Empire of their own[181]
В конце 80-х годов прошлого века в США вышла примечательная книжка Нила Гэблера «Собственная империя. Как евреи изобрели Голливуд» (Neal Gebler. An Empire of Their Own. How the Jews Invented Hollywood, 1989). В хорошо изученную историю кино Америки она внесла новый фрейдообразный, или скорее юнгианский, аспект.
Заголовок ее был извлечен из романа Скотта Фитцджеральда «Последний магнат», а презумпция постулирована автором уже в эпиграфе: («„Американскую мечту“ изобрели евреи»).
Эта книга начинается с парадокса, – пишет автор, – как, впрочем, и сам Голливуд. Парадокс состоит в том, что американская киноиндустрия – которую Уилл Хейс, президент первой Ассоциации кинопродюсеров и кинопрокатчиков Америки… назвал «квинтэссенцией» того, что мы понимаем под словом «Америка», – была основана и более тридцати лет управлялась евреями, выходцами из стран Восточной Европы: вряд ли можно сказать, что этот тип подходит под определение «квинтэссенция Америки»… Меж тем более всего этим беглецам из Старого Света хотелось быть – и слыть – американцами, а не евреями: им хотелось заново создать себя на новом месте[182].
Неудивительно, что в наши дни общемировой вспышки этничностей на пороге глобализации, излагая биографии голливудских отцов-основателей, автор формулирует тему в ныне модных этнических терминах, оставляя за кадром немодные социальные. Это придает книге оттенок сенсации. Меж тем чем-то эти парадоксы нам неуловимо знакомы: создание «нового человека» («перековка»); видения народной революции, навеянные детьми из «хороших семей»; Пролеткульт, создатели которого были чем угодно, только не пролетариями…
Бедные иммигранты из Восточной Европы, которым было высокомерно отказано в способности воспринять «ценности» Нового Света, оказались, по Гэблеру, на его берегах, когда новорожденный аттракцион движущегося изображения был уже изобретен, но еще не востребован и остался вне поля зрения как финансов, так и культуры. Они усыновили малолетку-беспризорника, перевезли с неласкового восточного побережья в солнечную Калифорнию, построили киногород. И если в реальности они не могли осуществить свою преданность новой родине, войти в коридоры ее власти и денег («интегрироваться в общество»), то в мире виртуальном, в павильонах студий и на экране
евреи могли просто-напросто строить новую страну – империю, в которой они имели гарантии не только быть принятыми, но еще и править. Они стали строить свою собственную империю по образцу Америки… Они создали ценности и мифы, традиции и архетипы… Это была их Новая Земля, и открытие ее останется, пожалуй, главным взносом еврейских иммигрантов в историю Соединенных Штатов. Экранная Америка – их самое долговечное наследство… Поразительно, что продукт, ими созданный, идеальную «копию» Америки… голливудским евреям удалось внедрить в сознание и самих американцев… Об Америке уже невозможно думать, не думая о кино[183].
Говоря коротко: создавая образ страны на пленке, они тем самым преображали ее в жизни, и это наименее кровавый вид утопии.
Вынесем за скобки слово «еврей», вечно чреватое избытком эмоций, и извлечем квадратный корень из постулатов Гэблера, развернутых в биографиях первого и второго поколения киномагнатов. Группа изгоев, наделенная способностями, но лишенная соответствующей ментальности и статуса, заворожена подобно фицджеральдовскому Гэтсби зеленым огоньком мечты, светом «будущего неимоверного счастья». При этом (как его же Стару) им достался для исполнения желаний эрзац волшебной палочки – целлулоидная пленка. Это был своего рода компенсаторный механизм, но именно поэтому он апеллировал ко всем и в этом виде стал «американской мечтой».
Кадры из фильмов «Волшебник страны Оз» (реж. В. Флеминг, 1938 г.; слева) и «Золушка» (реж. Н. Кошеверова, 1947 г.).
Разумеется, всякая аналогия условна и неполна, она лишь местами соприкасается со своим двойником, но что-то важное она проявляет. В России так называемая «творческая интеллигенция» (в нашем случае кинематографисты) устремилась в революцию, завороженная обещанием будущего неимоверного – и притом всеобщего – счастья. На правах в лучшем случае «попутчиков», социальных отщепенцев, но с той же потребностью причаститься «великому чувству по имени класс», куда, напомним, их не принимали (происхождение, индивидуализм, моральный облик и проч.). Их первый компенсаторный порыв создал на экране возвышенный и грозный образ революции – и великое советское кино (без кавычек) покорило мир.
Гораздо меньше это относилось к населению и кассе: ведь они были революционерами, в том числе киномышления (недаром американская компания «Парамаунт» отвергнет эйзенштейновский проект фильма о Зуттере как некоммерческий).
«Великое советское кино» второго призыва приобщит к себе население, создав для него, подобно Голливуду, его собственный идеализированный образ, – и в этом соцреализм подобен «фабрике грез». Или, наоборот: голливудскую «фабрику грез» можно считать американской версией соцреализма. Второй призыв осознает, что маяк не революция, а партия; но это не освободит его участников от изгойства, чисток, покаяний (как у Ильфа и Петрова: «эклектик, но к эклектизму относится отрицательно»[184]), от арестов и расстрелов. Правда, в 1937 году их примут в «народ», назвав в Сталинской конституции «советской интеллигенцией», но даже условия «большой сделки» не узаконят интеллигенцию вполне. В памятный период ждановщины многие опять окажутся «безродными космополитами» (эвфемизм все того же «еврея»). Парадоксальным образом за океаном маккартизм приравняет еврея к коммунисту. Быть может, на «зерно» (по Станиславскому) намекнула Марина Цветаева, сформулировав, короче не бывает: «Поэты – жиды!»[185] Поскольку творчество есть отщепенство. Но и завидная компенсация…
Таковы вкратце параметры сравнения кинематографий двух систем…
Часть третья
Кинематография миллионов
Так назвал свою программную книгу Борис Шумяцкий, назначенный руководить кино на пороге 30-х и мечтавший о советском Голливуде.
Меньше всего прочего этот раздел посвящен искусству кино (или кино как искусству). Он посвящен, с одной стороны,проблемам производства и проката фильмов, которыми не озабочивалась история советского кино, поскольку госмонополистическая система казалась само собою разумеющейся. Меж тем она была уникальна. Я еще помню завистливое удивление иностранных режиссеров на первых Московских фестивалях, когда они узнавали, что финансирование фильмов – забота государства. Они плохо понимали наши претензии к цензуре – по старому анекдоту: «Кто тебя обедает, тот тебя и танцует». Однако монополия вовсе не сводилась к цензуре, она определяла политику в области кино в целом – от количества кинотеатров до количества копий на название.
Этот раздел не о киноискусстве еще и потому, что он о киномифологии. Иначе говоря, о том «кинематографе миллионов», который поощрялся государством и исправно собирал кассу, но был не уважаем критикой и продвинутой публикой («массовое» и «элитарное» кино). Еще иначе: речь о советском варианте масскультуры, которая существовала по умолчанию. Разумеется, как критик я ее не видела в упор, но как исследователь не могла об нее не споткнуться. При этом мне пришлось в архивах, как говорится, рыть землю носом на самых затоптанных участках истории советского кино.
Кинопроцесс: 1917–1985
Если фильмы освободить от безвкусицы, то лучше они не станут, а что-то важное потеряют, ибо дурной вкус публики коренится глубже в условиях существования масс, чем хороший вкус интеллектуалов.
Берт Брехт «Трехгрошовый процесс»
Проект
История этой статьи имеет привкус мелодрамы. Это, собственно, и не статья даже, а обломок исследовательского проекта, который я в середине 70-х предложила Институту истории кино[186], где тогда служила, но…
Все началось на совместном совещании с Госкино по жанрам, точнее – по упавшим сборам, они же бокс-офис. Шел 1974 год. Руководящий товарищ из министерства делал доклад, все более или менее спали, в какой-то момент до моего дремлющего сознания дошла цифра: фильм «Есения» за 11 месяцев собрал 911 миллионов (!) зрителей (!). Я попросила повторить ее – ведь это половина населения Советского Союза! В перерыве я спросила присутствующих киноведов, что это за «Есения» и не видел ли ее кто. Никто не знал и не видел – страшно далеки киноведы от народа. Я попросила захватить загадочную «Есению» среди прочих фильмов, которые нам привозили в институт для тематических просмотров, и посмотрела ее в нашем зале. Одна – никто не полюбопытствовал. И ничего не поняла.
Мексиканская мелодрама, режиссер Альфредо Кревенна. В таборную цыганку влюбляется офицер из асиенды, женится на ней. В него же влюблена богатая наследница, больная, увы, туберкулезом. После всяческих приключений выясняется, что цыганка – ее сестра, но незаконная, отданная грешной матерью на сторону. Следовательно, никакого мезальянса. Хеппи-энд для здоровых.
Заглянув в «Досуг», я обнаружила, что фильм еще идет в кинотеатрах, и отправилась на дневной сеанс. Зал был наполовину полон, моя соседка слева вытирала слезы. После сеанса я попросила разрешения задать ей «личный» вопрос: «Скажите, почему вы плакали?» – «Потому что это про меня». – «Что именно – грех матери, табор, асиенда, офицер, туберкулез?» – «Абсолютно все!» – сказала она убежденно, и я поняла, что мы смотрели два разных фильма.
Что-то в моей голове щелкнуло. Мне захотелось свернуть с привычной киноведческой колеи, какие бы увлекательные концепции она ни предлагала, и взглянуть на предпочтения массового вкуса «без гнева и пристрастия». Объективно. Помимо пренебрежения элитарного вкуса к массовому. И кассовому (мы еще не подозревали тогда, что тихий феномен «Есении» – лишь предвестник цунами латиноамериканских сериалов, «Рабынь Изаур» и «Просто Марий»).
Постепенно я сформулировала для себя гипотезу «коллоидной линзы»: каждый смотрит кино сквозь свою призму, и двух идентичных фильмов в зале не бывает. Линза коллоидная, потому что в ней в разных пропорциях соединяются текущее время, самосознание общества, предрассудки среды, фактор образования, компонент личного опыта, характер, наконец. Фильмы «интегрального успеха» захватывают самую широкую полосу этой смеси.
Тогда я и предложила проект исследования зрительских предпочтений, который позволил бы на основе контент-анализа фильмов – чемпионов кассы составить конкретное представление о динамике массового вкуса и о его долгоиграющей подоплеке – ментальности.
Правда, еще до начала проекта выяснилось, что статистики бокс-офиса до 1944 года в наличии не было, и первым этапом должна была стать разведка карты предпочтений. Но проект был с ходу отклонен, поскольку не сулил на выходе торжества ни «идейности», ни «партийности». Так что это присказка.
Сказка началась с «перестройкой», когда наша исследовательская группа приступила к изучению посещаемости картин.
И тогда оказалось, что это само по себе отдельное исследование. Мало того что приходилось ухищряться, чтобы восполнить недостающие данные. Оказалось, что основа кинодела, «производство – прокат», самая забытая часть истории советского кино, и нам предстояло разбираться в ней на новенького.
Для наглядности мы применили простую и даже грубую методику: ежегодные таблицы распределения предложения – спроса на фильмы в присутствии четырех контекстов: политического, социального, культурного и собственно кинематографического.
Спрос в отсутствие статистики бокс-офиса приходилось определять косвенно (например, по количеству зрителей). Предложение – по количеству копий в прокате (фильмы «государственного предложения» наращивали его драматически – от нескольких десятков до почти тысячи, а со временем и до двух тысяч копий). Мы ввели еще один хитрый показатель: оборот фильма на копию. Нежелательные картины получали минимум копий. Зато при небольшом количестве копий какой-нибудь фильм мог собрать гораздо больше зрителей на одну копию, чем официоз. Мы назвали это «приватным спросом» – то, что зрители выбирали по собственному желанию.
Контексты – тоже неотъемлемая составляющая кинопроцесса. Когда СССР внезапно рухнул, наступило головокружение, почти аномия, в том числе и в кино; представление о вчерашнем дне, а значит, и о завтрашнем стало кувыркаться.
Дальнейшая судьба составленного нашей группой формализованного описания способов функционирования советского кино и потребностей его аудитории оказалась печальна. Но на сей раз не по вине советской власти, а по моей собственной. На заре «лихих девяностых» рассчитывать на издание нашей «скучной», непривычной и, скажу смело, пионерской работы было трудно – еще не сложились подходящие структуры. Меж тем западные исследователи проявляли немалый интерес к описанной нами terra incognita. В те годы я имела слабость поддаться на предложение (в лице профессора Ричарда Тейлора) английского издательства Routledge, известного тем, что платит мизер, но издает книги по кино хорошо. Было понятно, что в переводе что-то потеряется (например, неповторимый советский канцелярит), зато материал упорядочится и, главное, сразу станет достоянием историков. Материал был подготовлен, договор взаимно подписан, текст отослан и вроде бы даже переведен. Как вдруг…
Согласно легенде, книжка погибла патетически, ставши жертвой знаменитого вируса I love you – как тут не вспомнить мелодраму…
Mea culpa, мир ее праху.
Осталось уцелевшее у меня введение в утраченную коллективную работу, которое кратко суммирует полученные нами результаты. Они, мне кажется, бросают свет на малоизвестные стороны советского кино в его динамике. Статья была написана в 1991 году.
«Другой вкус»
Этот исследовательский проект был детищем брежневского времени, когда ножницы между официозом (оплаченный госзаказ), зрительскими предпочтениями (фильмы массового успеха) и фаворитами критики (картины арт-хаус) стали всеобщим состоянием кино. С одной стороны, вкладывались деньги и тиражировались эпопеи, заведомо обреченные на неуспех (вроде «Красных колоколов»), с другой стороны, оставались в мизере лучшие фильмы, гордость советского кинематографа (как «Пастораль» Иоселиани или «Мой друг Иван Лапшин» Германа) – высокое авторское кино. Оно практически не имело статистически представительного зрителя. И наконец, с третьей стороны, под сенью приписок сборов от одних картин другим расцветал пышным цветом «дурной вкус» публики, предпочитавшей даже не американские фильмы, а индийские и арабские мелодрамы.
Именно в этих обстоятельствах необъявленной войны всех со всеми мне показалось необходимым взглянуть на проблему зрительских предпочтений не в привычном освещении критических баталий о «хорошем» и «плохом» кино, об элитарном и массовом, а с научной точки зрения, беспристрастно.
Надо сознаться, что в качестве действующего критика я прошла все положенные стадии войны с «дурным вкусом»: писала «просветительские» статьи, пытаясь спасти зрителей от безвкусицы, объясняла «сложные» фильмы, была, само собой, сторонницей авторского, элитарного кинематографа, написала даже первую книжку о картинах Тарковского (она вышла, правда, сначала в ФРГ в 1978 году). Но одновременно с этим, а может быть, именно поэтому, я пришла к мысли о необходимости другого, не только традиционно критического, но объективного исследования кинематографа как структуры, определяемой совокупностью контекстов, с одной стороны, и выражающей ментальность нации – с другой. Попытку подобного рода я нашла у Зигфрида Кракауэра («От Калигари до Гитлера»), хотя субъективную и под очень определенным углом зрения.
Будущему исследованию я предпослала концепцию замены общепринятого в критике термина «дурной вкус» термином «другой вкус». Он был свободен от оценки и открывал возможность описания фильмов отечественного массового спроса в другой системе координат, которую как раз и предстояло выявить на основании фильмов – чемпионов кассы в пространстве советской истории. Основным этапом этого исследования должен был стать «опрос» фильмов-боевиков. Сам процесс их выявления казался поначалу технической операцией.
Однако же сама попытка составить карту сборов оказалась куда более содержательной, чем это представлялось. Оказалось, она включает и такие параметры, как условия производства и проката, государственная политика, зрительские ожидания в их противоречиях. Она заставила нас сравнить полурыночную структуру предложения и спроса времен нэпа и госмонополистическую стратегию 30–50-х годов. А потом постепенное освобождение кино и как искусства, и как зрелища еще в рамках государственной, антирыночной структуры, но уже на пороге перехода к рынку, где государственная цензура уступила место цензуре денег.
Все это вместе оказалось настолько важным, что составило совершенно самостоятельное исследование, без учета которого – на мой взгляд – нельзя приступать к созданию новой истории кино советского времени.
Черный ящик
Первоначальная гипотеза, которая представлялась мне наиболее вероятной при начале работы (в отличие от взглядов на массовую культуру как на способ тотального манипулирования сознанием), состояла в том, что «другой вкус» есть величина инертная, мало зависящая от социальных и политических структур и опирающаяся на национальные традиции низовой культуры, всегда – в том или ином виде – продолжающей бытовать даже в экстремальных условиях политических (революция) и социальных (урбанизация) переворотов.
Сбор статистических данных, не зависимых от входящей установки, был тем черным ящиком, в котором гипотеза должна была получить проверку.
Автор проекта (то есть я) сознательно стремился выйти за рамки традиционной для искусствознания вкусовой, эстетической и всякой иной оценки в поле объективного научного исследования.
Полученные на выходе из черного ящика результаты внесли коррективы в первоначальную «чистую» гипотезу. Выводы западных социологических исследований 50–60-х (не забудем, что в их анамнезе был опыт фашизма) о массовой культуре как орудии манипулирования имели под собой почву. Уникальная практика советского кино, опирающаяся на госмонополистическую структуру производства и проката, на культурную автаркию, на отсутствие демократических традиций в общественном сознании в условиях технической отсталости, дала нам возможность не только констатировать манипулирование массовым сознанием, но и обнаружить его реальные механизмы. Это бытование бесплатной «классовой» культуры, корректирующей экономические формы культурного обслуживания. Это резкое увеличение тиражей, времени демонстрации фильма и посадочных мест за счет такого же резкого снижения выбора названий – иначе говоря, максимальный охват зрителя фильмами-идеологемами. Это «железный занавес», практически выключивший советского зрителя на два с половиной десятилетия из мирового кинопроцесса. Это господство дидактической, пропагандистской установки в производстве фильмов при постоянной их селекции в прокате (текущий политический и социальный контексты объясняли нам тиражи и многие зигзаги проката). Начиная с 30-х и почти до 60-х годов советский зритель мог выбирать лишь в рамках жесткого, волевого «государственного предложения» (исключение составила операция «Трофейный фильм»). Таким образом, уровень манипулирования в советских условиях далеко превосходил любую другую организационную модель, включая нацистское кино.
Опыт 30-х – даже в том неполном виде, в котором мы могли его документировать, – показал, на языке цифр, а не рассуждений, что манипулирование сознанием реально, а в некоторые исторические моменты возможно достижение (хотя бы номинальное) того, что принято было называть «морально-политическим единством советского народа».
И однако, при всех этих существенных коррективах, первоначальная гипотеза оказалась живучее, чем это можно было бы предположить. Даже в условиях несвободы выбора советский зритель умудрялся не только сохранить, но и – на статистическом уровне – проявить свой «другой вкус» (речь, разумеется, о массовом, «низовом» вкусе, а не о флуктуациях индивидуального «высокого» вкуса, который в наших таблицах не отразился: для этого нужны другие методики). Уловить эту форму эскапизма от официального предложения нам позволил показатель «оборота на копию», который иногда – даже в самые «идеологические» периоды – разительно не совпал с высокими показателями сборов, определяемых количеством копий. Дальше я вернусь к динамике «госпредложения – приватного спроса» от десятилетия к десятилетию. Сейчас отмечу только феномен сверхярких звездных вспышек, которые давали оборот на копию, сбивающий все триумфы фильмов-идеологем. Это «Большой вальс» в 1940 году, давший 56,7 млн на копию при относительно большом тираже (453 копии) при средней цифре оборота 20,9 млн (отечественная «Музыкальная история»). А также абсолютный чемпион 40-х годов – «Девушка моей мечты» (1947) с Марикой Рёкк: 103,9 млн на копию – цифра, к которой не приблизился ни один фильм (для сравнения: оборот чемпиона кассы «Подвига разведчика» – 20,4), а Марика Рёкк так и осталась метой в памяти военного поколения. Такая же, не прогнозированная, звездная вспышка (211 млн на копию) единственного в нашем прокате фильма с Мерилин Монро Some like it hot (русское название «В джазе только девушки», 1966), а в 1961 году – 252 млн арабского фильма «Неизвестная женщина» при среднем обороте 25–30 млн. Это говорит об острейшем дефиците нормальной жизни и эротического женского образа в советской кинематографии, как и о точном выборе звезд разного уровня в коммерческом кино (ведь у нас их никто не рекламировал!).
Эти и подобные «оговорки» статистики позволили нам предположить, что в основе своей «другой вкус» все же сохраняет стабильные доминанты, сколько бы ни манипулировали им идеологи. Так что, внеся необходимые поправки, на следующем витке я все же вернулась к своей первоначальной гипотезе о постоянных потребностях массового вкуса. Можно сказать иначе: общественные процессы никогда не идут в одну сторону, и, чем больше давление, тем сильнее необъявленное сопротивление.
Три контекста
Прежде чем перейти к краткому обзору статистических данных, я остановлюсь еще на одном аспекте нашего исследования – соотношении статистических таблиц и контекста. Возьму для примера роковой 1937 год. Именно конец 30-х дает максимальную идеологизацию государственного предложения (кино становится средством пропаганды), равно как и максимальное сближение государственного предложения и личного спроса.
1937 год – «Ленин в Октябре» Ромма. 1938-й – «Александр Невский» Эйзенштейна. 1939-й – «Ленин в 1918 году» Ромма. Все три фильма, вне зависимости от намерений их авторов, можно считать фильмами-идеологемами, отвечающими политическим потребностям момента (ленинская дилогия и Большой террор; «Невский» и приближающаяся война с Германией). Разумеется, государственное предложение нашло свое выражение в резко повысившихся за истекшие десять лет тиражах копий (для сравнения: первоначальный тираж эйзенштейновского шедевра «Броненосец „Потемкин“» – 42 копии; «Александра Невского» – 921 копия). Но не менее существенной можно считать дестабилизацию общественного сознания, достигшую максимума к концу 30-х.
Если в советское время фильмы-лидеры истории кино принято было рассматривать на фоне непрерывных достижений, то на постсоветском рубеже наметилась обратная тенденция – рассматривать их в контексте злодеяний сталинской диктатуры. Ни то, ни другое по отдельности не дает представления о реальном бытовании кино в пространстве-времени реальной же жизни.
Хотя система контекстов – лишь очень приблизительная схема этого хронотопа, все же она предлагает суммарное представление о его неоднозначности в массовом сознании. Вот вкратце некоторые выдержки из исторического контекста 1937 года (фразеология документов сохраняется):
Внешнеполитический контекстЯнварь, 2. Итало-германская интервенция в Испании. Бои на Мадридском фронте.
Январь, 9. Нота посла Великобритании М. Литвинову по вопросу о заключении соглашения о запрете выезда добровольцев в Испанию.
Январь. Советско-литовское хозяйственное соглашение на 1937 год.
Февраль, 21. Введено в действие соглашение о запрещении отправки добровольцев в Испанию.
Май. Уничтожение Герники.
Август. Советско-американское торговое соглашение.
Сентябрь, 6. Нота протеста советского правительства правительству Италии по поводу затопления теплохода «Тимирязев» итальянскими фашистами.
Октябрь, 1. Решение Лиги Наций по испанскому вопросу.
Октябрь, 3. Приезд в Москву испанских детей.
Внутриполитический и социальный контекстФевраль, 2. Начало Всесоюзной переписи населения.
Январь, 9. Решение Совнаркома о строительстве 3-й очереди метро в Москве.
Январь, 11. Открытие III сессии ЦИК: финансовая программа на 1937 год.
Январь, 21. Утверждение Конституции РСФСР.
Январь, 23. Начало процесса «антисоветского троцкистского центра».
Январь, 24. Передовая в «Правде»: «Изменники Родины, лакеи фашизма, подлые реставраторы капитализма (о троцкистской банде)».
Январь, 27. Постановление ЦИК о присвоении звания генерального комиссара Госбезопасности Ежову.
Январь, 30. Приговор по делу «троцкистского центра» («Приговор миллионов»).
Февраль, 2. Постановление ЦИК и СНК о повышении пенсий инвалидам.
Февраль, 3. Постановление СНК о госплане весеннего сева и о летних посадках картофеля по методу академика Лысенко.
Февраль, 4. Передовая в «Правде»: «Крепнуть советской государственности».
Февраль, 18. Смерть С. Орджоникидзе.
Март, 6. Исключение Бухарина и Рыкова из партии.
Март, 21. Открытие второй очереди Арбатского радиуса метро в Москве. Постановление об освобождении сельсоветов от взымания денежных налогов госстрахования.
Март, 26. Постановление Президиума ВЦСПС «Об отмене ограничения пособий по беременности и родам для женщин-служащих».
Март, 29. Публикация доклада Сталина «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников».
Апрель, 3. Постановление о передаче дела о Ягоде (предшественник Ежова. – М. Т.) в следственные органы.
Апрель, 22. Поездка Сталина на канал «Москва – Волга».
Апрель, 28. Постановление СНК о снижении розничных цен на товары широкого потребления.
Май, 15. Постановление СНК и ЦК ВКП(б) об освобождении от уплаты денежных налогов и сборов колхозников и единоличников, нетрудоспособных ввиду преклонного возраста.
Май, 21. Высадка экспедиции Папанина на Северном полюсе.
Июнь, 11. Суд по делу о восьми шпионах в Красной Армии (Тухачевский, Якир, Уборевич и др.).
Июнь, 12. Приказ Ворошилова о приведении приговора в исполнение (смертная казнь).
Июнь, 14. Постановление об открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
Июнь, 18. Старт беспосадочного перелета Чкалова, Байдукова, Белякова через Северный полюс в Америку.
Июнь, 25. Возвращение в Москву экспедиции Папанина.
Июнь, 27. Постановление о присвоении звания Героя Советского Союза командирам РКК.
Июль, 12. Перелет экипажа Громова в Америку. Физкультурный парад в Москве.
Июль, 15. Открытие канала «Москва – Волга».
Июль, 26. Возвращение экипажа Чкалова в Москву. Отъезд Художественного театра в Париж на Всемирную выставку.
Октябрь, 17. Постановление ЦИК «Об улучшении жилищного хозяйства в городах».
Декабрь, 12. Выборы в Верховный Совет.
Декабрь, 20. Празднование 20-летия ВЧК-ОГПУ-НКВД.
Культурный контекстЯнварь, 8. Встреча Сталина с Лионом Фейхтвангером.
Январь, 11. Постановление ЦИК о повышении зарплаты педагогам.
Февраль, 10. Торжественное заседание в Большом театре, посвященное 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина.
Февраль, 14. Открытие Дома актера.
Март, 20. Постановление СНК об ученых степенях и званиях.
Апрель, 27. Награждение МХАТа орденом В. И. Ленина.
Март, 13. Приезд Поля Робсона.
Май, 26. Открытие павильона СССР на Всемирной выставке в Париже.
Май, 31. Возвращение из эмиграции А. Куприна.
Июль, 5–20. Второй конгресс Международной ассоциации писателей в защиту культуры.
Июль, 23. Снижение цен на многотиражные издания ОГИЗа на 15 %.
Сентябрь, 9. Начало реставрации храма Василия Блаженного.
Сентябрь, 20. Постановление СНК «О мерах по улучшению обучения иностранным языкам».
Ноябрь, 8. Открытие музея И. В. Сталина в Гори.
Ноябрь, 21. Первое исполнение Пятой симфонии Д. Шостаковича.
Ноябрь, 29. Решение о созыве съезда генетиков.
В этом же, 1937 году Сергей Эйзенштейн получил звание профессора. Был закрыт и уничтожен его фильм «Бежин луг». В 1938-м он сделает практически по личному заказу Сталина свой единственный фильм массового успеха – «Александр Невский».
В ноябре 1937 года, к 20-летию революции, вышел фильм М. Ромма «Ленин в Октябре».
Из этого контекста одного только года, даже столь бегло очерченного, можно понять, так сказать, на уровне тротуара, сколь неоднозначна была повседневность для современников. Велики были соблазны «сверхценной идеи» сильной государственности или диалектики добра и зла и для воображения художников, особенно ввиду угрозы фашизма (их не избегнул даже такой последовательный противник большевиков, как Булгаков. Впрочем, отношения «художник и власть» – другая тема, требующая других методик). Что же в таком случае говорить о зрителях, для которых «Ленин в 1918 году» (1939) станет посильным объяснением «красного террора».
От кинорынка к кинопроцессу
Озаботившись непопулярной в советском киноведении проблемой сборов, мы констатировали для себя очевидное несовпадение между властными декретами и практикой. Хотя официально национализация кинодела была объявлена ленинским декретом от 27 августа 1919 года, реализация его растянулась на целых десять лет по причинам грубо материальным (нехватка ателье, аппаратуры, пленки и так далее). Впрочем, примерно то же время понадобилось Германии при гораздо лучшей технической оснащенности.
На самом деле 20-е годы характеризовались «очаговым» или «точечным» производством и прокатом картин. К делу привлекался частный капитал, в том числе иностранный. Было создано даже акционерное общество «Межрабпом-Русь» со смешанным русско-немецким капиталом. Номинально студия «Межрабпом» просуществовала аж до 1936 года.
Репертуар кинотеатров был тоже смешанный и зависел от сметки и удачливости прокатчика, наличных коммуникаций и других случайных причин. Несмотря на приблизительность, все же с высокой долей вероятности удалось выделить и лидеров проката. В годы революции это был, по-видимому, итальянский фильм «Камо грядеши?» по роману Сенкевича. В 1922-м самый высокий индекс популярности принадлежал фильмам «Проклятый род», «Красное кольцо», «Сатана ликующий». На 1923 год это «Бубновый туз», немецкие «Богиня джунглей» и «Индийская гробница». Популярность «Индийской гробницы» удостоверена как первым социологическим мини-опросом зрителей, проведенным газетой «Кино», так и бытованием термина «вейдтистки» (поклонницы немецкого актера Конрада Вейдта). Лидеры 1924 года – советский фильм «Дворец и крепость» и немецкий сериал «Женщина с миллиардами».
Господство немецкого кино на советском экране в начале 20-х определялось причинами политическими. После окончания Первой мировой войны обе страны – Германия, потерпевшая поражение, и Россия, выпавшая из мировой системы, – оказались в изоляции. Их отношения (в том числе и в сфере кино) в эти годы стали особенно тесными. Россия закупала не только немецкие фильмы, но и кинотехнику; специалистов отправляли на учебу в Германию. Понадобились общемировые изменения, чтобы кинополитика и кинопрактика приняли другое географическое направление.
С 1925 года в российском прокате началась эра американского кино: лидеры проката – «Похождения американки», а также «Знак Зорро» и «Багдадский вор» с Дугласом Фербенксом. Лишь к концу 1925 года баланс отечественных и заграничных лент на экране достиг относительного паритета (48 % советских фильмов). Провинциальный город, даже крупный, мог быть назван к 1927 году весьма кинематографическим, если насчитывал три коммерческие «точки». Впрочем, на 1500 кинотеатров в том же 1927 году в стране действовали 1800 клубных установок – без учета прочих видов государственного предложения с классовым уклоном как то: так называемая «рабочая полоса» в билетах, культпоходы, целевые сеансы и проч. Революционный фильм, который для всего мира стал фирменным знаком советского кино, в лучших своих образцах («Броненосец „Потемкин“», «Мать», «Потомок Чингисхана») не был обойден вниманием публики на коммерческом экране, хотя порядочно отставал от отечественных же боевиков вроде «Мисс Менд» или «Медвежьей свадьбы». Все же лидером проката при объявленной диктатуре пролетариата оставался обобщенный заграничный, преимущественно американский, боевик, и вкус публики в полурыночную эпоху нэпа, таким образом, мало чем отличался от вкуса прочего крещеного мира. Кинотеатры возникали и исчезали – число их было неустойчивым, колеблющимся, – репертуар менялся часто. Зрители были более или менее в курсе мирового кинопроцесса (в том числе по экономическим причинам) и триумфально встречали заокеанских звезд Дугласа Фербенкса и Мери Пикфорд («Межрабпом» не преминул воспользоваться этим для съемок собственной комедии «Поцелуй Мери Пикфорд»). Зато и экспорт отечественных фильмов был весом: он охватывал 32 страны на всех континентах (при этом мелодрамы «Медвежья свадьба» по Мериме или «Станционный смотритель» по Пушкину покупали не меньше, если не больше стран, чем прославленного «Потемкина»). Тем самым на практике кино еще оставалось средством развлечения, отдыха, компенсации, социальной адаптации и просто времяпрепровождения, а не только пропаганды (идеальная цель тоталитарной системы, которая, впрочем, никогда не может быть достигнута).
Предварительные разработки модели будущей госмонополистической киноиндустрии, начатые на исходе нэпа (анонимная докладная записка 1927 года), еще учитывали такие факторы, как стихийность зрительского успеха, рентабельность; они предполагали элемент свободного выбора:
Надо, чтобы советская фильма была весьма прибыльной. Она только тогда может быть орудием коммунистического просвещения, если она с удовольствием будет восприниматься зрителем. Поэтому мы заявляем: «коммерчески выгодная фильма» и «идеологически выдержанная» не исключают друг друга, а дополняют.
Предложенная модель предполагала порядка 200 игровых картин в год, из них 15–20 дорогих и идеологически ударных. Цель этих картин – «мобилизовать сознание масс». Далее следовали картины «по проблемам быта переходной эпохи». И наконец, дешевые развлекательные ленты, цель которых «бороться с более губительными развлечениями населения (пьянство, хулиганство и т. д.)».
Стратегия акционерного общества «Межрабпом» (кстати, как и практика нацистского кино после 1933 года) показала, что модель сочетания идеологической выдержанности с коммерческой рентабельностью тоже является функцией какого-никакого, но рынка, частного сектора и конкуренции заграничных лент. Наступающая с начала 30-х монополизация кинодела в соединении с режимом автаркии неизбежно влекла за собой все более жесткую идеологизацию и постепенное иссякание развлекательной доли репертуара. Пестрый кинорынок перестраивался в линейный кинопроцесс, а зрительский спрос подвергся давлению государственного предложения.
Если отвлечься от общемировой смены парадигмы на рубеже 30-х годов, в том числе от перехода к звуку, то перестройка конкурентного кинорынка в советском кино в линейный кинопроцесс и составляет содержание 30-х.
Несколько цифр, иллюстрирующих совершающуюся перемену. Рынок, естественно, стремится к количественному расширению. Хотя искомое количество (200) так и не было достигнуто, все же 20-е годы отмечены постепенным ростом производства игровых лент:
1927 г. – 119
1928 г. – 124
1930 г. – 128.
Эта цифра так и осталась рекордной. Уже в 1932 году было выпущено 74, а в 1933-м – лишь 29 лент. Столь резкий перепад, конечно, не мог быть естественным: он был следствием «партийной нахлобучки». Существенная часть портфеля (в том числе картины, находящиеся еще в производстве) была запрещена. Старый декрет о национализации кино стал фактом на волне второй сталинской революции.
Больше никогда в сталинские времена (до 1953 года включительно) кинопродукция не достигала сотни названий, колеблясь в среднем в пределах четырех-пяти десятков; классическую цифру дает в этом смысле 1937 год: 40 фильмов.
Прокат за десятилетие изменился не менее радикально. Вот маленькая усредненная схема функционирования московских кинотеатров:
Даже зрительно сводная киноафиша уподобилась параду – военному или физкультурному: колонны одинаковых названий выстроились в затылок. Господство заграничного боевика было изжито (кстати, при активной поддержке самих кинематографистов и кинообщественности) простым вычитанием. Из «точечного» прокат зримо становился «линейным».
На Всесоюзном киносовещании по «темпланированию» в 1933 году тогдашний начальник ГУКФ Б. Шумяцкий, заклеймив «количественный разгон» выпуска фильмов как «левацкие ошибки» и даже «вредительство», назвал ряд фильмов, где «занимательность… была оторвана от идейного содержания и превратилась в самоцель». Фильмы «Жить», «Слава мира», «Роте Фане», «Горизонт», «Гайль Москау», «Просперити» были сняты с производства и с экрана. В результате даже такая относительно коммерческая студия, как «Межрабпомфильм», не успела окупить затраты и понесла убытки на «занимательности». Отношения между идеологией и рентабельностью, таким образом, были практически и надолго решены в пользу идеологии.
«Избранный жанр» советского кино
Между тем слово «занимательность» стало одним из ключевых слов новой парадигмы 30-х, и не кто иной, как Шумяцкий ратовал за «советский Голливуд». Однако в дискуссии на эту животрепещущую тему «ведущим образцом занимательной фильмы» была официально признана лента «Встречный» (на рабочую тему, хотя и с уклоном в быт «переходного периода»), снятая «по специальному заданию ЦК партии к пятнадцатой годовщине Октябрьской революции».
Задание с этих пор будет часто преобладать над результатом. Примечательно определение, данное Шумяцким в упомянутом выше докладе:
Под занимательностью надо понимать большую степень эмоционального воздействия картины, большую простоту высокого мастерства, скорее и легче доводящие идейное содержание и их сюжет до массового зрителя (курсив мой. – М. Т.).
Ничего удивительного, что проект «советского Голливуда» при такой установке захирел и погиб вместе с самим Шумяцким.
Задержусь с точки зрения занимательности на казусе «Путевки в жизнь», абсолютного чемпиона кассы самой коммерческой из студий – «Межрабпомфильм».
«Межрабпом» и прежде числил за собой такие коммерческие рекорды, как «Мисс Менд», «Хромой барин», «Дина Дзадзу», «Медвежья свадьба» и другие. Это было отрицательное сальдо так называемых «мещанских фильмов». Но был у студии и задел качественных революционных лент – таких как «Мать», «Потомок Чингисхана», «Сорок первый». Студия имела наилучшее в стране техническое оснащение, в том числе и звуковое. И в 30-е, первой осуществив новую парадигму «идеология плюс занимательность плюс звук», «Путевка в жизнь» (снятая, кстати, по заказу ЧК) дала рекордную кассу – 15 миллионов.
В анализе этого исключительного успеха студия, однако, должна была показательно отделить зерна от плевел:
Невиданный успех «Путевки в жизнь» зависел не от нескольких блатных песен или неудачной сцены пьянки, как это некоторые пытались объяснить, а от темы, от огромной силы воздействия простых, но полных драматизма, идейно насыщенных ситуаций.
Как малолетний зритель (моя тетка взяла меня на фильм в кино «Колосс» – ныне Большой зал Консерватории) могу засвидетельствовать: блатные песни и жалобный мотив беспризорников охватили Москву как пожар, реплики беспризорника Мустафы вошли в язык, а Жаров в роли Жигана навсегда стал любимцем публики.
На самом деле социальная драма беспризорничества заключала в себе для кино множество потенциальных возможностей: сюжетов, зрелищных элементов, использования саундтрека – для создания косяка фильмов, пусть и дидактических (правда, к 1934 году по стране из 15 тысяч киноустановок лишь 300, то есть менее одного процента, были звуковыми). Но потенции занимательности, вопреки объявленной парадигме, так и остались достоянием единичного случая. Это типично для некоммерческой модели кино. Вместе с недополученным доходом ушел в песок и социально-критический заряд темы.
Это особенно очевидно в сравнении с практикой продуцентской, коммерческой модели кино США. В аналогичной ситуации оно тяготеет к серийности. В период сухого закона бутлегерство стало такой же социальной язвой Америки, как беспризорничество в России. На этом взросла целая ветвь социального «гангстерского» фильма. И «Уорнер Бразерс» на «Маленьком Цезаре» (1930) и фильмах-наследниках не только заработали капитал, но и отработали принципы жанра. Ведь массовое кино не может сложиться вне преемственности, канонов, системы звезд и проч. Таким образом, оно создает своего зрителя, усвоившего систему условностей и, как минимум, не путающего кино с жизнью, что всегда было камнем преткновения для восприятия жанрового кино советским зрителем – в том числе и соцреалистической критикой.
Кто знает, какую классику потеряло советское кино вместе с уроками «Путевки в жизнь»?
Единственным исключением в практике некоммерческого, идеологического по преимуществу советского кино, как ни странно это может показаться, стали фильмы о революции («Главное место в репертуаре должны занимать героические картины»). Они, во-первых, имели право на социально-критический заряд, хотя и обращенный в прошлое; во-вторых, заменяли реальную историю нужной легендой – мифологизировали ее. Именно в жанре легенды советское кино более всего преуспело, создав и канон, и преемственность, отработав стереотипы и приемы. В фильмах этого жанра проявилась и свойственная массовому кино серийность («Трилогия о Максиме», например).
Именно поэтому мы сочли, что историко-революционный фильм – не просто раздел темплана, но жанр, притом «избранный жанр», советского кино, пользуясь термином Базена для американского вестерна. Здесь идеология и коммерция наконец-то встретились, и «Чапаев» (1934) открыл формулу зрительского успеха.
История советского кино обычно рассматривает «Чапаева» в терминах историко-революционного фильма, не уделяя внимания его жанровой природе.
Меж тем Юткевич в 1935 году, говоря о «драматургическом построении» фильма, еще мог упомянуть «чрезвычайно разумное использование очень хороших классических образцов американского фильма»[187]. Разумеется, «Чапаев» – по структуре сюжета и по приемам повествования – был близок к беспроигрышному вестерну. В этом смысле он мог бы быть назван «истерном». Обе структуры опирались на вековой канон авантюрного жанра. Соединение документальной основы (книга Д. Фурманова) и жанра и создало феномен «Чапаева», который был счастливым открытием.
Вовсе не задуманный как боевик (в темплане 1934 года он значился как рядовая «оборонная картина»), «Чапаев» стал и первым опытом тотального государственного предложения, сформулированного в передовой газеты «Правда» от 21 ноября 1934 года: «„Чапаева“ посмотрит вся страна».
Маркетинг фильмов-идеологем с этого времени станет делом госмонополистических СМИ и будет массированным. Стихийный зрительский отклик на удачно найденную формулу был использован газетой для широкой пропагандистской кампании:
Картина «Чапаев» перерастает в явление политическое… Партия получила новое и могучее средство классового воспитания молодежи… Ненависть к врагу, соединенная с восторженным преклонением перед героической памятью бойцов… приобретает такую же силу, как страстная любовь к социалистической родине.
Была определена и прокатная политика, которая станет парадигмой, далеко выходящей за рамки 30-х: преобладание предложения над спросом.