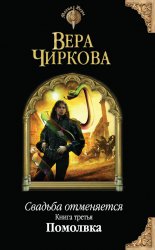Три кита: БГ, Майк, Цой Рыбин Алексей

Им важно рок-н-ролл не допустить. Потому что это пьянство (казаки-то – все сплошь трезвенники), разврат (казаки-то…) и драки (казаки и не дерутся). В общем, очередная порция бреда, которого у нас в избытке – и не убудет никогда.
Ну, рок-н-ролл не допускали в СССР – это мы проходили. В результате мы имеем всю ту ублюдочную эстраду, которую имеем. И имеем то, что она будет еще долго, потому что народу она, эта поносная эстрадная песня, нравится, и народ ее с удовольствием слушает, не подозревая, что с каждым куплетом все глубже погружается в говно.
Пара поколений искорежено этой музыкой безнадежно и непоправимо, пытаться что-то изменить на нашей сцене – зря тратить время и нервы. Не получится. Стена.
Та же самая стена, что стояла в 80-е прошлого века, – в общем, в этом смысле ничего не изменилось.
Те же ублюдочные песни и соответствующие певцы, только вместо комсомольских знаков у них кресты в полгруди, а вместо пионерского салюта – крестное знамение.
А все попытки снизу заменить русскую попсу на русский рок заведомо провальны, поскольку русский рок – музыка очень некачественная, и здесь попсовики выигрывают.
Россия опоздала с роком (с современной музыкой) лет на пятьдесят. Винить ее в этом бессмысленно – советский террор выкосил все, что так или иначе связывало страну со всем остальным миром, с движением этого мира, с музыкой, литературой, философией, живописью, театром, кино, – теперь нужно потихонечку, аккуратненько растить все практически с нуля. Это процесс небыстрый, и на наш век его точно хватит, хватит и еще на пару поколений.
Кто-нибудь может ответить на простейший вопрос: почему Beatles так мгновенно свернули головы значительной части советской молодежи? У меня на этот вопрос ответа нет. Ну, кроме общих фраз – потому что это талантливо, свежо там, современно и все такое. Но есть что-то еще – талантливо написанной и сыгранной музыки мало для того, чтобы изменить жизнь молодого человека и (с общепринятой точки зрения) свести его с ума.
Галина Флорентьевна Науменко, мама Майка, сказала, буквально: «„Битлз“ отняли у меня сына».
Не только у вас, Галина Флорентьевна. У сотен матерей. Но – не у десятков и сотен тысяч, как в Европе и Америке. Там, правда, не то чтобы отняли – там просто доставили радость. А у нас – отняли. Потому что тоже доставили радость.
Радость другого уровня. Не всеобщее ликование от полета Гагарина или первомайской демонстрации. Не личную радость-гордость от поступления в институт, скажем. А радость глубокую, интимную, радость неожиданных и огромных личных переживаний – никакая другая музыка в СССР такой радости дать не могла.
Я отчетливо помню этот день – мой приятель-одноклассник Вольдемар (Вовка) взял папин магнитофон, такой маленький, на него влезали только катушки по 270 метров ленты (если кто помнит, как они выглядели и какого размера были). Магнитофон назывался «Лира».
Это был один из первых в СССР переносных магнитофонов. То есть в него можно было вставить батарейки и слушать на улице. Настоящее чудо.
И в какой-то летний день мы с Вольдемаром (кажется, то ли в четвертом, то ли в пятом классе учились тогда) с этим магнитофоном сели на лавочке в купчинских кустах, Вольдемар нажал на белую клавишу – и зазвучала «Girl».
Я могу сказать, что это было лучше, чем потеря невинности. В смысле – чем первый половой акт с женщиной, поймите меня правильно. Потому что при первом трахе так или иначе испытываешь массу физических и моральных неудобств. При общем физическом наслаждении – просто в силу неопытности – очень много сопутствующих малоприятных ощущений. В зависимости от воспитания и уровня развития это списывается либо на «дуру-бабу», либо на то, что вчера не выспался, а теперь, наверное, нужно будет жениться.
В любом случае, первый акт всегда не такой, как в кино. Он суетный, жаркий, потный, неловкий и чуточку стыдный – с обеих сторон причем. Приятный, да, этого не отнимешь. Но – не то чтобы ах, и небеса перевернулись, а агнец залег рядом со львом. Надеюсь, что меня не привлекут здесь за оскорбление чувств верующих. Ведь вроде бы Бог есть любовь и все такое.
Нет, небеса не переворачиваются при первом физическом контакте с женщиной.
А Beatles, «Girl» – это был такой чистый восторг, такой мощный толчок без тени неудобства, без какого бы то ни было сопротивления, морального или физического, – без сучка, без задоринки. Мир просто сразу стал другим. Причем – навсегда. Этого я объяснить никак не могу.
Думаю, что примерно те же ощущения испытывали Майк, Гребенщиков, Цой – все те, кого я знал и с кем болтал о музыке, играл музыку, слушал музыку и вообще жил в этой музыке.
Понятно стало и то, что ловить на советской эстраде в принципе нечего – там просто нет ничего такого, что стоило бы ловить.
Это было настоящее чудо, которое мы пережили. Очень все бытово. Вот ты был одним, потом нажал на клавишу магнитофона, закрутилась пленка – и через двадцать секунд ты уже совершенно другой человек. Чудо.
Преображение.
«Нового» себя легко утратить, если неправильно обращаться с тем даром, который ты получил.
Играть так, как это делали всякие «Веселые Ребята» и другие «Голубые Гитары», молотить чушь советских композиторов, а потом на гастролях в далеких Сочи или Владивостоке зарубить «Об-ла-ди-об-ла-да» – это и значит утратить ту свежесть, непосредственность и открытость восприятия мира, которую дала нам тогда музыка «Beatles». Стирается настоящее, внутренее, главное – остается одна форма. И во что превратились все эти музыканты «Веселых Ребят» и других ВИА? Чем они занимаются? Что они играют и поют? Ведь это главное для человека, одаренного свыше, человека, почувствовавшего рок-музыку. Это его визитная карточка, это его настоящее «я».
Если ты играешь рок-н-ролл, ты должен забыть обо всей этой беде, не забивать мозг попсовой хренотенью и не вступать в дискуссии с попсовыми композиторами.
Это страшные люди.
Я имел множество бесед с этими людьми, многие из них весьма успешны – это еще хуже.
Все они прекрасно знают, как играть рок-н-ролл, легко объясняют все недостатки гитарной игры Кита Ричардса, недотягивание нот у Мика Джаггера, проблемы с интонированием у практически всех певцов, легко разносят в пух технику Брайана Мэя и, в общем, очень убедительно рассказывают о том, что западная рок-музыка (то есть вообще вся рок-музыка) – штука очень простая, и хороший ученик музыкального училища легко может все это сыграть-спеть, ничего в этом такого особенно сложного нет. «Нет, ну конечно есть очень красивые вещи», – говорят они и тут же наигрывают на фортепиано какую-нибудь забубенную попсу из репертуара Шер или там Линды Рондстарт.
Потом ставят записи каких-нибудь певцов или певиц, для которых в данный момент пишут аранжировки, и говорят: «А вот, послушай это. Вот голос! Вот мелодия… Ля-ля-ля… А гитарист как здесь сыграл у нас? Жу-жу-жу…»
И ты слышишь полную херню, которую забудут через час после того, как она выйдет в эфир, слышишь одинаковые стандартные гармонии, набившие оскомину еще сорок лет назад, и совершенно бессмысленное пение, игру музыкантов, которым плевать на то, что они играют, поскольку они записали свои треки для певицы Ивановой, получили по триста долларов и пошли в другую студию – писать точно такие же треки для певца Петрова, а вечером в клубе будут играть с певицей Сидоровой – те же самые песни, только в другой тональности и с другими словами.
Вам нравятся песни Игоря Матвиенко? Если нравятся – дальше не читайте.
Рок-музыка – вещь не техническая. К музыке как таковой, к классической музыке то есть, она имеет очень условное отношение. Сказать проще – вообще никакого отношения она к академической музыке не имеет. Это другой вид искусства.
Здесь тоже у каждого свой путь, музыка – всегда разная, тем и хороша.
Если бы Майк захотел заниматься музыкой в смысле «музыкой» – вряд ли у него что-то получилось бы. Петь он не мог совсем, бывает такое – ну не идет. На гитаре он играл тоже довольно слабенько, у него не было ни техники, ни ритма, ни, в общем, кажется, и желания серьезно заниматься инструментом.
Но для рок-музыки у него было главное – понимание того, что он делает. Понимание того, что он такой же, как Лу Рид, как Чак Берри, как Джон Леннон, что он, когда выходит на сцену с гитарой, – ничем от них не отличается и встает с ними на одну, что называется, планку.
Это дано не каждому – во всяком случае, в России.
Большинство музыкантов как-то все-таки комплексуют. Смотрят в рот «авторитетам» – случись какая-нибудь встреча с этими «авторитетами» от музыки – и внимают. А внимать тут нечего. Нужно играть то, что придумал, – вот и все.
Майк, не умеющий толком ни петь, ни играть, стал в нашей стране рок-н-ролльщиком номер один – и с того места, которое он занял, его уже никто и никогда не спихнет. Он один из первых (а возможно, и первый) начал играть то и так, как играют и играли в Америке и Англии, с той же подачей, с теми же смыслами – не текстовыми, но музыкальными, с тем же звуковым давлением (которое не зависит от качества инструментов и аппаратуры), с той же злостью и с той же радостью.
Майку в определенном смысле повезло. В первую очередь с тем, что у него ни разу в жизни не было настоящей большой, хорошей студии.
Кит Ричардс писал в воспоминаниях, что во второй половине семидесятых для звукозаписи наступило страшное время. В ней, точнее, в аппаратуре для нее случилась революция – каждую неделю появлялись новые примочки, обработки и пульты, новые приспособления, строились новые студии – и многие хорошие звукорежиссеры просто потерялись среди всего этого. Ричардс писал, что если раньше он ставил перед барабанной установкой один микрофон и на записи барабаны гремели как гром, то теперь он ставит пятнадцать микрофонов, а на ленте было какое-то жалкое пуканье.
Последний на сегодняшний день альбом The Rolling Stones – «A Bigger Bang» – группа записывала в домашней студии в доме Мика Джаггера. Когда сессии закончились и музыканты прослушали то, что получилось, Джаггер сказал: «Ну, теперь пойдем в настоящую студию и там все сделаем точно так же». Группа посмотрела на Джаггера хмуро и ни в какую «настоящую студию» не пошла, оставив все как есть.
Просто нужно понимать смысл и суть той музыки, которую группа собирается записывать.
Ритм-энд-блюз не пишется в огромных помещениях, разделенных на секции, в которых каждый музыкант сидит в наушниках и не видит бэнда. Еще хуже, когда музыка пишется потреково: пришел барабанщик, записал свою партию, потом пришел басист – и так далее. Это мертвечина. Ну, или другая музыка – не ритм-энд-блюз, не рок-музыка, во всяком случае.
В музыке, которую играл Майк (и все его любимые музыканты), группа должна играть вместе, глядя друг на друга и подпитываясь друг другом. Запись должна быть живой.
Другое дело, что потом можно дописать четырнадцать гитар и восемь партий баса, выбрать куски понравившихся дублей, но основа должна быть живой, все должно быть сделано вместе и сразу. Чистить – потом.
Самая значимая студия в рок-музыке – Chess Records. В любом случае, она должна быть самой значимой для тех, кто играет музыку, близкую к «Зоопарку» Майка.
Маршалл Чесс, наследник отцовского предприятия, говорил: «В „Чесс“ мы могли в понедельник сочинить песню, написать текст и музыку, во вторник записать, в среду сделать обложку, в четверг напечатать сингл, а в пятницу она уже была в эфире местной радиостанции».
Блюз – это жизнь, это живое дыхание, его нельзя раскладывать на составляющие и, в идеале, – даже оцифровывать. Хотите слушать блюз (ритм-энд-блюз) – покупайте проигрыватель и виниловые пластинки.
Майк записывал свою музыку в идеальных для себя условиях. Хорошая, дорогая студия убила бы его музыку – что и начало происходить, когда он пришел в Студию документальных фильмов, – разница в звучании малоуловима, но она напрочь убивает драйв, группа звучит как хороший эстрадный бэнд. Музыканты купились на студию, на то, что там называли «качеством», – и едва не убили музыку.
Маленькая студия – это не синоним определения «плохая студия». В студии должна быть комната, где играют музыканты, магнитофон (не компьютер) и пульт с контрольными колонками – чтобы прослушать записанное. Все остальное для рок-н-ролла не нужно вообще. Лучшие, классические альбомы рок-н-ролла, которые переиздаются и продаются до сих пор, – все были записаны именно в таких условиях. Chess Records и Sun Records – вот учебники по звукозаписи и сочинению песен.
Примерно в таких же условиях пишет музыку и Гребенщиков – единственная разница в том, что он использует компьютер, – но у него и музыка другая. Он любит вводить в свои песни индастриал и петли, он идет в ногу со временем.
Майк же играл другую музыку, музыку вневременную – по крайней мере, на протяжении последних ста лет она вообще не изменилась.
Поэтому и не нужна была ему на хрен никакая современная студия.
В этом смысле недостаток денег сыграл ему в плюс: были бы деньги – конечно, «Зоопарк» побежал бы на «Мелодию» или еще куда-нибудь – и ничего хорошего бы из этого не вышло.
В девяностые мы с Сашей Храбуновым выпустили трибьют: песни Майка спели наши живые герои рок-н-ролла – от Гребенщикова и Чижа до Шевчука и Женьки Ай-ай-ая Федорова (ныне – группа «Зорге»). Аранжировал песни Храбунов, то есть аранжировщик был тот же самый, что и в «Зоопарке» (именно Шура руководил там всей музыкальной частью – как Кит Ричардс в The Rolling Stones). На бас-гитаре играл Наиль – член группы «Зоопарк» последнего созыва, барабанщик был достойный, Шура поназаписывал множество гитарных партий – все должно было получиться хорошо. В общем, и получилось – альбом вышел, всем понравился и вполне неплохо продавался.
Но это был такой мертвяк, что я, услышав мастеринг, пришел в ужас и постарался поскорее забыть об этой записи. Больше всего меня раздражало то, что всем эта мертвечина понравилась. С рок-н-роллом это рядом не лежало. Все было чистенько, вылизано, нотка в нотку – отвратительно, одним словом. Тошнотворно и бессмысленно.
Лучшая пластинка Майка, для меня во всяком случае, – его первая сольная запись, сделанная в студии Большого театра кукол в 1989 году, – «Сладкая N и другие».
Майк работал в этом театре звукорежиссером – что он делал в этом качестве, неведомо никому, видимо – включал-выключал трансляцию или что-нибудь в этом роде. Майк никогда и нигде не учился на звукорежиссера, эта работа требует серьезной подготовки, – видимо, Майк был на подхвате, но считалось, что он звукорежиссер.
К моменту записи «Сладкой N» он уже, кажется, оттуда уволился и ушел в сторожа (о чем будет отдельная эпопея), но хорошие отношения с работниками театра сохранил.
Он вообще со всеми приличными людьми сохранял хорошие отношения.
Он сел вместе с двоюродным братом своей невесты, Вячеславом Зориным, – вполне приличным по тем временам гитаристом, двумя гитарами и кучей песен перед микрофоном в студии детского кукольного театра и с лету записал совершенно классический альбом.
То есть сделал ровно то же, что и Led Zeppelin, The Beatles и все герои студий Chess и Sun, – практически вживую, сразу, кое-где с парой или тройкой дублей, но за очень короткое время создал шедевр рок-музыки.
К сожалению, этот альбом может стать классическим (и стал – с момента своего появления) только в нашей стране. Выйди он в любой другой – Майк бы был тут же разорен судебными исками о взыскании значительных сумм за использование чужой музыки и целых кусков песен – Лу Рид, Боб Дилан, Джаггер с Ричардсом (ну, или их адвокаты) немедленно предъявили бы свои права на музыку, заимствованную Майком. Чего стоит одна только «Дрянь», полностью содранная с песни Лу Рида «Baby Face», вышедшей на альбоме «Sally Can’t Dance» (1974). «Дрянь» стала при этом всесоюзным хитом и не было концерта, на котором бы Майк не исполнял ее.
Лу Рида советские слушатели тогда еще не слышали (да и сейчас – в массе своей – тоже), поэтому нареканий не было, а песня великолепна – и у Лу Рида, и у Майка.
Но не в этом, собственно, дело. Заимствования в музыке Майка можно вынести за скобки, поскольку все его лучшие песни, все главные хиты – это переработанные песни его любимых артистов – Чака Берри, Лу Рида, Джаггера-Ричардса, Боуи, Игги Попа, Боба Дилана, Марка Болана. Это просто нужно принять как данность.
Майк был транслятором рок-н-ролла (в отличие от БГ, который был его послом, и я это отчетливо понимаю), он просто транслировал то, что ему было по сердцу, то, от чего он загорался и что любил больше всего на свете, то, чего, кроме него и нескольких близких его друзей, никто в СССР не слышал. Если бы не Майк, эти люди, наверное, так никогда и не узнали бы о существовании песен, которые уже пару десятилетий распевал весь мир.
Хорошо это или плохо – однозначно ответить трудно. Напиши он эти песни сейчас – было бы плохо. Это было бы прямым воровством, а Майк к любому виду преступности относился крайне негативно. Сейчас это было бы плохо еще и просто потому, что в стране совершенно другая ситуация. Мы открыты, мы всюду ездим, все слышим и все знаем (ну, во всяком случае, те, кто хочет знать, – знают, те, кто хотят слышать, – соответственно, слышат – а другим и не нужно ни того ни другого, другие и на концерты Майка в 80-х не ходили).
Что до воровства, то в СССР к интеллектуальной собственности и государство относилось весьма своеобразно – ни Гребенщиков, ни Цой, ни Майк за свои пластинки, вышедшие несколько позже описываемых событий на студии «Мелодия», не получили ни копейки. Так что Майк действовал вполне в рамках законов страны, в которой жил. В стране, где воровство вообще было нормой жизни, крали все и всюду – от простых граждан на заводах до конструкторских бюро, разрабатывающих самолеты и автомобили, видеомагнитофоны и прочую технику. Крали и советские композиторы – от начала времен советской власти. Интересующиеся могут найти в Интернете массу фактов заимствований западных песен и преображения их в лучшие творения советской эстрады без указания источника. Железный занавес надежно защищал от авторских претензий. Что же винить Майка? Не стоит.
Майк жил с родителями на Бассейной улице, в хрущовской пятиэтажке – совсем недалеко от «дома со шпилем», в котором жил Цой. В трех автобусных остановках по Московскому проспекту, на Алтайской улице, была и родительская квартира Гребенщикова. В двух шагах от Бориса жил Саша Старцев, известный как Саша-с-Кримами (из-за коллекции пластинок Эрика Клэптона и группы Cream, которых он обожал больше, чем всю остальную рок-музыку, вместе взятую). Чуть дальше на восток, в двух троллейбусных остановках, проживал Андрей Панов (Свин), умнейший и красивый парень, в ту пору – студент Театрального института, первый панк СССР. Рядом с ним, через улицу Типанова, жил я, а еще восточнее, за железной дорогой витебского направления, – Панкер, он же Монозуб, он же Игорь Гудков, ныне – преуспевающий кинопродюсер.
Юг Ленинграда, таким образом, оказался самой прогрессивной частью города в смысле рок-музыки. Даже пластиночный «толчок», на который съезжались по субботам все ленинградские меломаны, комсомольские дружинники и менты, тоже находился на юге – западнее Майка, на улице Червонного Казачества.
Написал и подумал: может быть, протесты казаков против рок-фестиваля «Кубана» – это подсознательная месть за то, что на улице, названной их именем, и находилась та дыра, через которую меломаны получали информацию с «гнилого Запада»? Все может быть…
Саша Старцев дружил с Борисом Гребенщиковым, они вместе издавали подпольный машинописный журнал «Рокси». Борису это дело быстро надоело, и он стал заниматься больше музыкой, нежели литературой. Сашу же пару раз вызвали в специальный отдел КГБ, пригрозили страшными карами, выгнали с работы… Это не испугало поклонника песни «Presence of the Lord», напротив, как-то подняло градус куража – впоследствии Саша стал одним из самых известных ленинградских рок-журналистов.
Панкер работал продавцом в радиомагазине, спекулировал колонками 35-АС (вершиной аудиотехники тех времен) и кое-какие деньги на этом имел. По работе он и познакомился со Свином, который тоже некоторое время спекулировал колонками и собрал дома отличный набор аудиоаппаратуры высшего качества, какое только можно было иметь в СССР тех лет. Все вместе бывали на пластиночном «толчке» и менялись пластинками, в результате чего быстро превратились в одну большую компанию, связанную тайными узами запрещенной в стране рок-музыки.
Впрочем, Майк с БГ были знакомы и раньше – они даже записали совместный альбом, о котором тогда никто из членов компании не знал и речь о котором пойдет ниже.
БГ, в общем, не был членом компании, о которой здесь пойдет речь, он был занят своими делами – начинался «Аквариум», а Борис, как человек педантичный и увлекающийся, не разбрасывался. Мы с Цоем и знакомы с ним не были – знали только, что он живет где-то рядом. Из «наших» с БГ в ту пору общались только Майк и Панкер.
Спустя несколько десятилетий Панкер стал директором телесериала «Брежнев». Когда сериал пошел в эфире, он позвонил мне и сказал: «Вот, Леха. Это расплата за нашу панковскую юность. Все в мире сбалансировано. Мы так стебались над Брежневым, а теперь я про него кино снял…»
Ну, это что. Я тоже теперь кинопродюсер, сделал порядка сорока телевизионных картин, которые с большим или меньшим успехом прошли в эфире целого ряда наших телеканалов, сейчас по моему заказу хороший американский сценарист пишет сценарий под названием «Ленин»… Вот так все сбалансировано.
С Майком меня и Цоя познакомил Монозуб.
Он принес мне пленку с наклеенной на обложке фотографией, сделанной Вилли (Андреем Усовым), – это та самая обложка, которая украшает сегодня компакт-диск «Сладкой N»: Майк в полосатом пиджаке на фоне кирпичной стены брандмауэра. Я даже знаю, где эта стена, я живу сейчас в ста метрах от нее. Стена та же самая, кирпичная, и стоит точно так же – для нее ничего не изменилось.Я сидел дома один, Цой был чем-то занят – редкий вечер, когда мы не были вместе, обычно мы все время болтались вдвоем или втроем с Панкером – как-то мы сдружились с ним, в одну из таких прогулок у Витьки и родилась песня «Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти». Все документально: мы купили три бутылки сухого вина и ходили с ними под дождем, думая, куда бы пойти в гости. Обзвонили всех знакомых, что было очень непросто, – нужно напомнить, что мобильных телефонов тогда еще не было, звонить нужно было из автомата за две копейки, а двухкопеечные монеты, так же как и все остальные монеты, у нас кончались очень быстро. Так мы и разошлись по домам, взяв каждый по бутылке – и выпили вино только на следующий день, уже не помню у кого в гостях.
Но в тот вечер я сидел один, почему-то и мамы дома не было. Пришел Панкер (без звонка, что тогда между нами было, в общем, принято) и тут же заставил меня что-то слушать – я тогда еще не знал, что именно. Какого-то парня. Майка какого-то. Панкер кричал, махал руками, убеждал меня в том, что это – настоящий рок-н-ролл.
В ту пору мы с Цоем уже сами внутри себя были «настоящим рок-н-роллом» и ко всем остальным «настоящим» относились заведомо скептически. Просто потому, что считали, что мы – единственные, кто знает, как и что нужно делать «по-настоящему».
Однако мы ошибались. Я это понял с первых нот, с первых звуков, которые были записаны на этой пленке.
При этом я тогда еще очень мало слышал настоящего, корневого рок-н-ролла, хотя кое-что из Пресли и Нила Седаки, из ранних The Rolling Stones и The Who мы с Цоем уже внимательно изучили. Но это были капли в море. Позже, спустя полгода, Гребенщиков начнет нас знакомить и с Лу Ридом, и с Grateful Dead, и с Диланом, с подачи Майка я начну слушать (сначала – искать на «толчке», что было очень непросто) Чака Берри и Мадди Уотерса.
Но тогда Майк обрушил на нас свой (чужой – не важно) рок-н-ролл, и ощущение, которое я испытал, было сродни тому, что оглушило меня при первом в жизни прослушивании Beatles на лавочке с одноклассником Вольдемаром.
Панкер сказал, что Майк живет на Бассейной – совсем недалеко.
Для меня это прозвучало так, словно Панкер предложил мне поехать в гости к Джону Леннону.
Однако мы ничего не боялись и никого не стеснялись. Авторитетов – в особенности. Даже кураж был – прийти к авторитету и показать, что ты тоже не дурак музыку поиграть.
Поехали – пять остановок на автобусе номер 13 – в пятиэтажку, я жил точно в такой же.
Майк тоже был дома один. Какой-то чудесный вечер. Обычно мы бежали из дома – дома всегда были родители. А тут – и он один, и я один…
Он открыл дверь – маленького роста, с огромным носом, который придавал всему Майку в целом какую-то небывалую значительность и солидность, очень по-взрослому гнусавый и провинциально-деликатный.
Минут пятнадцать ушло на протокол.
Мы как-то долго рассаживались в его маленькой комнатке, как-то странно расшаркиваясь друг перед другом и едва ли не говоря: «Позволите?» – «Да, конечно!» – «Спасибо». – «Пожалуйста». – «Не дует?» – «Нет, все хорошо». Мы вели такой странный разговор до тех пор, пока хозяин, казавшийся взрослее нас с Панкером, вместе взятых, при этом выглядевший очень молодо, неожиданно не предложил: «Может быть, сходить купить немного вина?» Это было предложено тоже очень манерно и «по-взрослому», солидно, но все трое тут же оживились, лед растаял, и все стало хорошо.
Три бутылки сухого разрушили стену, стоявшую между нами – поклонниками и артистом, – и мы встали на один уровень.
Уровень определялся группами, которые нравились нам всем.
Это было как пароль.
«Любишь T. Rex»? – «Да». – «Свой. Наливай». Вот так и происходили тогда все знакомства.
С Майком было интересно. Причем интересно всегда. Все те годы, пока мы общались (собственно, практически до самой его смерти) с ним было интересно.
Он сильно расширил наш кругозор в плане музыки – именно от него пришел к нам Лу Рид (Гребенщиков потом только подтвердил необходимость знакомства с музыкой Velvet Underground в целом и ее участниками в отдельности). Нико и Лу звучали в доме Майка постоянно – и Майк постоянно рассказывал всяческие истории из их жизни, а также говорил о Болане, Игги Попе, Боуи, Ленноне – говорил то, чего мы не могли услышать нигде, кроме его квартиры.
Кроме того, в те годы не было ничего странного в том, что хозяин дома вдруг взял гитару и начал петь свои песни.
И гости с удовольствием его слушали. Сейчас как-то мне сложно представить, чтобы я пришел к кому-нибудь и сказал бы – так, походя: «Слышь, а спой чего-нибудь». Диковато как-то. Не тот протокол.
А тогда – пожалуйста. Майк пел сколько угодно, когда кончались свои песни, начинал петь того же Лу Рида или Леонарда Коэна.
С ним всегда было интересно.
Майк занимался не только музыкой. Он очень много читал – опять-таки фамилию Керуак я впервые в жизни услышал в доме Майка. Мне Керуак не нравится, но я никогда не узнал бы о том, нравится он мне или нет, если бы не прочитал несколько его книг – с подачи автора «Сладкой N».
Альбом «Все братья – сестры» мы услышали чуть позднее. Пишу «чуть», потому что события тогда неслись с умопомрачительной скоростью. Мы все время что-то делали. На фоне того, что вокруг нас вообще ничего не происходило, мы двигались по жизни со сверхсветовой скоростью. В СССР, действительно, все, что могло произойти, – уже произошло. Чтобы советская власть могла существовать и дальше в том виде, к какому она пришла в 80-е годы прошлого века, нужна была очередная большая война – а сил на такую войну у власти уже не было.
Впрочем, граждане об этом и не подозревали – думаю, что большинство властных чиновников тоже. Хотя кое-кто соображал, что государство закрытого типа рано или поздно сжирает само себя, истощается (просто потому, что закрыто) и либо разрушается естественным путем, либо объявляет кому-нибудь войну, которая значительно омолаживает население, сплачивает его, приносит новую свежую идеологию вместо старой и сгнившей, а под конец разрубает большинство экономических узлов, которые затянулись на дряхлой шее СССР к 80-м.
«Маленькая победоносная война» в Афганистане дала только обратный эффект. Это была не та война, что могла вытащить государство из пропасти, в которую оно летело. Это было чистое безумие – тысячи парней, после школьной скамьи попавших в мясорубку, перемоловшую их совершенно равнодушно и без какого-то видимого результата. Эта война дала только смерть, горе и ожесточение, лучше от нее никому не стало. Никто никого не победил, все было просто по приказу свыше. Иди и умирай. Почему? Кто может дать ответ? Что забыли парни из Ленинграда и Москвы в Афганистане? Чем Афганистан не угодил Ленинграду? За что умирали там девятнадцатилетние ребята?
Фильм «Девятая рота» я пересматривал несколько раз. И мне глубоко наплевать на оценки, даваемые этой картине «интеллигентными и продвинутыми критиками». Я просто смотрел этот фильм потому, что он – о нашем поколении. И потому, что мы все легко могли там оказаться. Как не фиг делать. Но не оказались. В этом смысле нам просто повезло.
Вокруг не происходило ничего. Общество медленно ползло куда-то, само не понимая куда, – даже милиционеры на улицах были какие-то вялые и если забирали нас в отделение как «порочащих облик советского человека» (было такое определение), то довольно быстро выпускали – не зная, что с нами дальше делать. Хотя, если начнешь рыпаться, могли легко покалечить. Зная эти штучки, мы обычно не рыпались. Ну, нас и выпускали.
Забирали нас обычно за то, что мы пили на улицах вино. Ну и выглядели, с точки зрения ментов, совершенно при этом неприлично.
Я уверен, что если бы мы выглядели как работяги с Невского завода, нас бы не тащили в отделение. Разобрались бы на месте, как со своими, классово близкими, и пинком под зад погнали бы со скамейки, заставив вылить содержимое недопитых бутылок на газон.
Но мы не были классово близкими, мы были совсем «не отсюда».
Мы уже слушали Madness, пошили себе baggy trousers, которые лет через пять наденут люберы и другие бандиты, не связанные общей географией. Мы носили дикие – сравнительно со стандартами тех времен – стрижки или вовсе обходились без таковых. Цой, во всяком случае, был жутко волосат, но на хиппи не похож – благодаря кожаной жилетке, утыканной булавками и зауженным брюкам (baggy он себе тоже сварганил, чуть позже, они у него были клетчатыми – ну чистый любер, если бы все это происходило лет на восемь позже).
Нам было очень скучно в этом социалистическом, гниющем мире. Мы, правда, как и все граждане СССР, были уверены, что то, что мы видим вокруг себя, – это на века. Сковырнуть эту смурь не представлялось возможным. Слишком отлажено все было, все по местам, все по норкам.
Нам было скучно, и мы неслись вперед. Мы не могли усидеть дома. Просто физически. Нам нужно было двигаться.
Двигаться же можно было только из одних квартир в другие.
«Из дома в дом по квартирам чужих друзей», – пел Гребенщиков.
Не было никакого Интернета, в который можно было нырнуть и не скучать, в общем, не было вообще ничего.
Современному молодому человеку, родившемуся даже пусть и в 85-м году, представить в реальности такую жизнь невозможно.
Это была пустыня, в которой не было ничего вообще – ничего из того, чем живет современный молодой человек. Ни-че-го. Прямо Жан-Луи Барро какой-то, выдавший фразу «Голый человек на голой сцене».
Вот мы и были этим голым человеком.
Ладно бы еще пустыня, а то пустыня, сплошь уставленная охранниками-милиционерами, которые хватали и волокли в кутузку каждого, кто внешне не походил на советского бедуина. Мало того что все должны были одинаково медленно и бессмысленно жить, так и выглядеть все должны одинаково.
Да хрен вам.
Майк в ту пору уже выглядел практически «как все». Однако к своей достаточно заурядной одежде, в которой он и проходил всю жизнь (в отличие от меня, Цоя, Гребенщикова, который уделяет определенное внимание внешнему виду), Майк пришел не сразу. Период хиппизма его не миновал.
Как и Гребенщиков, Майк никогда не был «системным» хиппи, но околохипповская компания в какой-то момент времени его притягивала.
Впрочем, как и большинство тех, кто в начале-середине семидесятых «подсел» на рок-музыку.
Тогда, в семидесятых, он даже ушел из дома – сорвался и уехал, неведомо куда, неведомо к кому.
Мама через дальних знакомых обнаружила его в Киеве, Майк вернулся, но о своей поездке не рассказывал. Я точно знаю, что у него был опыт «стопщика» – любимый хипповский способ передвижения по стране, – но эта глава жизни Майка всегда оставалась закрытой, по непонятным причинам он об этом никогда не рассказывал.
Я подозреваю, что у него был какой-то неудачный роман. Майк вообще был парнем влюбчивым и в своих отношениях с женщинами достаточно трепетным, даже чуточку старомодным.
Его любимым писателем был Тургенев – это кое о чем, да говорит.
В 1974 году Майк уже познакомился с Гребенщиковым, играл на бас-гитаре в уже упоминавшейся в этой книге группе Владимира Козлова «Союз Любителей Музыки Рок» – можно только воображать, что это была за бас-гитарная игра. Майк и в зрелые годы с трудом представлял себе эту часть работы в группе – скорее всего, он просто играл, что называется, «по точкам», вставляя иногда стандартные рок-н-ролльные ходы – по сути, куски мажорных гамм. Но по тем временам все, что было сыграно со сцены на электрических гитарах, – все это уже было здорово.
В компании Гребенщикова, на основе общих музыкальных интересов и вкусов, была создана кратковременная коллаборация «Вокально-инструментальная группировка имени Чака Берри».
Что играла «группировка» – ясно из названия, играла, как и любая другая группа Ленинграда того времени, редко и мало.
Сейчас, ознакомившись с массой воспоминаний, молодой читатель может сделать вывод, что в начале семидесятых в Ленинграде были группы, которые «играли» так же, как The Rolling Stones в «Марки» или The Beatles в «Каверне» – то есть в нормальных клубах, куда люди ходили и каждый вечер слушали любимых артистов.
Ничего похожего в Ленинграде и вообще в СССР даже близко не было.
«Группы» были больше названиями, чем, собственно, группами, о музыкальных клубах слышали только особо продвинутые, а рядовой житель СССР даже не знал, что где-то в мире что-то такое существует. Концерты же отечественных групп были очень редкими и наполовину тайными, в школах (на выпускных вечерах), в институтах (на очень редких студенческих праздниках) или и вовсе проходили в залах мелких ДК и были приурочены к самым разным советским праздникам и памятным датам, вплоть до Дня Победы.
На День Победы «группировка», правда, не играла (были группы, которые умудрялись прицепиться к этим памятным дням), в остальном же все было так, как у всех.
Не было приличных инструментов, хоть сколько-нибудь вменяемой аппаратуры, помещения для репетиций и ощущения безопасности. За то, что ты играешь рок-н-ролл, легко могли забрать в отделение с непредсказуемыми последствиями.
Вот так и жили.
Однако в конце 70-х наступил какой-то период затишья во власти – предвестник паралича, потом, когда паралич подойдет уже вплотную, власть встрепенется. Придет Андропов и начнет судорожно закручивать гайки, сажать музыкантов в тюрьмы (Андрей Романов из группы «Воскресение»), высылать их на сто первый километр (Жанна Агузарова), публиковать списки запрещенных для ПРОСЛУШИВАНИЯ (!!!) групп (Pink Floyd, а также «Аквариум», «Кино» и, само собой, «Зоопарк»)… Но тогда, во второй половине 70-х, – об этом вспоминает и Борис Гребенщиков – была какая-то стагнация, временная передышка.
Наша компания молодых панков тоже ощутила это – когда мы начали наряжаться в брюки дикого покроя и украшать себя булавками, поначалу нас никто из милиции не трогал: указаний на «борьбу с панками» не было, а на хиппи, которых хватали по привычке, мы похожи не были.
Именно в тот период, на исходе 70-х, Майк и Борис записали «Все братья – сестры» – на берегу Невы, на один магнитофон, через один же микрофон и с одного дубля.
«Все братья – сестры» – это первое, последнее и единственное эхо Вудстока в нашей стране.
Не хипповской идеологии, отнюдь. Далеко не все зрители концерта в Вудстоке и уж совсем не все группы, выступавшие там, были хиппи. Это был просто дух, идея – бесплатного искусства, свободной музыки, – ведь и на Вудстоке организаторы в какой-то момент махнули рукой и разрешили пускать зрителей на огороженную поляну бесплатно (хотя предварительно продавались билеты).
Это было на самом деле очень здорово (я о записи альбома Майком и Борисом), что слышно и в музыке – даже сейчас.
Она звучит очень естественно. И дело не в том, что это концертная, «прямая» запись.
Если сравнить эту запись с многочисленными концертными записями Майка, «Зоопарка» и «Аквариума», то разница эта слышна, она ощутима.
Любой концерт все-таки готовится – и чем дальше, тем больше и сложнее его подготовка. Директоры, администраторы, охрана, аппаратура, зал, бюджеты, зарплатные ведомости, свет, уборщицы – вокруг любого концерта столько суеты и головняков, что нужны очень большие вложения, чтобы все это не отразилось на конечном результате, на музыке, которую слышит человек, сидящий в зале.
На попсовых концертах русских эстрадных артистов на это никто вообще не обращает внимания, и вся бухгалтерия – как белая, так и черная – слышна и видна с первых нот, взятых под фонограмму разряженным певцом.
На рок-концертах тоже достаточно технической и административной грязи – прямая, по задумке, передача энергии и смыслов от артиста публике превращается в «мероприятие». А где «мероприятие», там нет и не может быть рок-музыки.
«Все братья – сестры» – идеальная «прямая передача». Кроме музыкантов и слушателей, здесь нет никого, никаких посредников. И никакой головной боли для музыкантов. Все это слышно – Майк здесь играет и поет свободно, не зажато, как у него (да и у любого артиста) бывало на «больших официальных концертах».
Выйди этот альбом на Западе – при всех его чисто исполнительских шероховатостях, он стал бы бестселлером. В СССР он разошелся в количестве нескольких десятков экземпляров.
Вилли Усов сделал обложку, на которой Майк и Борис выглядят, как натуральные парни с Вудстока, да и весь альбом пропитан этим духом – духом праздника свободной, никому ничем не обязанной музыки, кроме которой не существует ничего – ни зверского СССР, ни милиции, ни унылого и душного комсомола, ничего, кроме радости, лета и отличных песен. Это одна из лучших пластинок (будем так называть) из всего, что записано в рок-н-ролле на русском языке.
Альбом записан в июне 1978 года, и у меня он напрямую ассоциируется с ленинградской белой ночью, с чудесным временем с мая по июль – лучше этих месяцев нет ничего, ради них стоит терпеть все мерзости петербургской осени, мокрой северной зимы и унылой, в общем, слякотной весны.
«Сладкая N» – это уже совершенно другое звучание, настроение и подача. Это настоящий (несмотря на лаконичность и минимум средств, с которыми он записан) студийный городской ритм-энд-блюз.
Если «Братья-сестры» – это музыка улицы, полей, реки, солнца, то «N» – это уже городские лабиринты, залитые асфальтом площади, проходные дворы и брандмауэры, окружающие полупьяного блюзмена.
Майк отчетливо понимал, что блюз, начинавшийся, как музыка хлопковых плантаций, деревенских завалинок и салунов, очень быстро стал музыкой сугубо городской. По крайней мере, тот электрический блюз, который слушал и любил Майк.
Это музыка Чикаго, индустриального мегаполиса со всеми его городскими прелестями: вонью заводских труб, уличной преступностью, пробками на дорогах, толпами на тротуарах, с полицией, ночными клубами с проститутками, сутенерами и наркоторговцами, с диким общим темпом жизни.
Темп жизни Ленинграда уступал в скорости темпу Чикаго, а музыка Майка неслась вперед, опережая время и застывших в нем музыкантов советских ВИА – с улыбками, приклеенными к розовым лицам, поющих свои странные советские песни непонятно о чем. Апофеозом общего безумия и наплевательства на хоть какие-то смыслы у них было произведение про почему-то «Увезу тебя я в тундру»… С какой стати, в какую тундру? Ну, это их дела.
Майк женился и переехал в самый что ни на есть «достоевский» центр города.
Сейчас мне это кажется вполне логичным – в продолжение темы о маленьких дешевых студиях, жилье Майка тоже соответствовало образу классического чикагского блюзмена. Сами обстоятельства жизни направляли его по тому пути, о котором он мечтал, который прошли его любимые артисты, герои чикагской блюзовой сцены.
Если кто помнит знаменитый (и любимый Майком) фильм «Братья Блюз», то комната, в которой жили Майк и его жена Наташа (а потом и их сын Женя), очень даже напоминала каморку Джэйка и Элвуд, только что поезда под окнами не грохотали.
Комнатка была частью довольно густонаселенной коммуналки с планировкой «купе» – длиннющий коридор соединял входную дверь с общей кухней, по одной стороне коридора – окна, в которые открывался довольно-таки унылый вид на крыши трущобной части Центрального района Ленинграда (тогда он был Куйбышевским районом, что придавало этим кварталам дополнительную трущобность), по другую сторону коридора всяк туда входящий видел одинаковые двери, ведущие в одинаково узкие и неуютные комнаты.
Майк был человеком не то чтобы коммуникабельным, но вежливым и с соседями поддерживал отношения ровные.
Район этот – улица Марата, Волоколамский переулок, Боровая, Коломенская, Звенигородская, Социалистическая – выглядит так, будто на стол высыпали штук двадцать спичек и они упали горкой, – в плане получилось что-то похожее на расположение всех этих улиц.
Здесь Ленинград (Санкт-Петербург) словно забывал о своей параллельно-перпендикулярной планировке – на пересечениях улиц и переулков здесь нет прямых углов, все криво-косо, здесь, если хочешь «срезать угол», сократить путь и пойти напрямую, по гипотенузе, – окажешься еще дальше от цели. Коротких путей здесь нет в принципе, здесь своя геометрия. Единственное спасение – широкая и внятная улица Марата, упирающаяся в Невский. Но когда пешеход, оказавшийся в этом районе, впервые ищет улицу Марата и идет к ней, достаточно одного неправильного поворота, и он в мгновение ока оказывается на Лиговке – что от Невского уже совершенно непропорционально далеко. Непропорционально пройденному пути. Вот такой район.
После своей пятиэтажки на Бассейной, стоящей, считай, что в чистом поле, Майк странно быстро адаптировался к жизни в трущобном районе. Вообще-то, это как бы исторический центр Санкт-Петербурга, но этот участок центра на девяносто процентов состоит из огромных старых доходных домов, прилепившихся друг к другу стенами и выстроившихся в монолитные утесы, ущелья которых называются улицами. В ту пору это был район коммуналок и, соответственно, красивые, богатые, хорошо питающиеся и одевающиеся люди здесь не жили.
Майк не был аристократом, он был представителем той самой русской интеллигенции. Хотя бы потому, что я ни разу в жизни не слышал от него слова «быдло». Ну, просто как факт. Он мог материться, но про «быдло» как-то не было. Он умел уважать людей, и неважно, что он думал на самом деле, важно, как он себя вел.
Он очень легко вписался в коммунальный быт и прекрасно находил общий язык с людьми, значительно, иногда даже радикально ниже его по уровню образования и общего развития. Он мог найти общий язык с последним дебилом-алкашом и тут же – с профессором консерватории или каким-нибудь академиком «из бывших».
Майк освоил дежурства по коммуналке (если кто не в курсе, что это такое, – так это очередность уборки всей огромной квартиры – от туалета до прихожей).
Очень быстро изучил Майк расположение винных магазинов и пивных ларьков – и через месяц уже был здесь совершенным старожилом.
Благодаря его вежливости и умению общаться соседи не были против бесконечного потока гостей в его крохотной комнате (если точнее – в комнатке Наташи, жены), и посиделки у Майка затягивались до утра – ну, или пока последний пьющий не засыпал, потеряв остатки сил за стаканом сухого.
Тогда Майк пил исключительно сухое, изредка – портвейн.
С пивом была отдельная история, пиво было культом и, мне кажется, для Майка пиво было некой игрой – игрой, как стало понятно в дальнейшем, очень опасной, смертельно опасной, – я имею в виду алкоголь вообще и пиво как его составную и наиболее коварную часть.
Пиво – напиток дешевый и пролетарский. Ну и крестьянский, конечно.
Герои Майка пива не пили.
Герои Майка – это хмурые хемингуэевские и ремарковские мужчины в плащах с поднятыми воротниками, с сигаретой в углу рта, сидящие в кафе за стаканом абсента или рюмкой коньяка.
Его герои – это тургеневские – нет, не женщины, а мужчины, велеречивые, во фраках и манишках, готовые и в вист сыграть, и жену чужую увести, и на дуэль вызвать. Они пили шампанское и, у себя в поместьях, парное молоко, принесенное румяной крепостной, в самом соку девкой, которую нужно было по-барски хлопнуть по налитой попе, – в деревне можно слегка опроститься.
Пиво этим героям не шло, трудно представить себе Рудина с бутылкой «Жигулевского» и беломориной во рту. Равно как и старика Хэма в лодке, с акулами. Какое тут пиво? Разбавленное и дурно пахнущее. Тут только ром в окружении полуголых красавиц.
Майк играл в пиво. Мог бы ведь и вина купить и пить его мелкими глотками – но нет. Это было увлекательно – а главное, это был ритуал. Один из немногих серьезных, настоящих ритуалов, заполняющих и украшающих жизнь.
Гребенщиков хоть и пел про «Холодное пиво, ты можешь меня спасти», но пивным фанатом не был никогда.
Майк же про пиво не пел, он его пил.
И тщательно, скрупулезно выполнял все части пивных ритуалов.
Подготовка трехлитровых банок (современный молодой человек удивленно поднимает брови – на кой какие-то банки, и что это за банки вообще?), поход в пивной ларек (что за ларек?), выстаивание получасовой очереди и – наполнение этих банок, кроме этого – получение в руки двух кружек с пенными горками на мутном бледно-желтом напитке. И питье его с покрякиванием, через «беломор», с шутками-прибаутками, с идиотскими «ну, давай». А вокруг толпа мужиков, часть – трясущихся с похмелья, держащих свои кружки двумя руками, иначе все расплещется, часть – вышедших на прогулку «правильных», сказавших женам: «Я пройдусь, пивка махну». В общем, отвратительное зрелище на самом деле.
Потом – возвращение домой. Банки, закрытые полиэтиленовыми крышечками, пропускали расплескавшееся пиво, и оно пачкало брюки – ничего, это по-мужски, это гордые, мужественные пивные пятна.
Дома же – банки на стол, с другом-приятелем на табуретках, наполняются украденные из ларька год назад кружки и – самое отвратительное – разрывается руками вобла, сушеная соленая рыба, один вид ошметков от которой, лежащих на столе, мгновенно превращал любую, даже очень хорошо убранную и стильно обставленную квартиру в какой-то грязный и дымный шалман.
Вот такие примерно были ритуалы – с множеством вариаций, конечно, – и они нравились Майку. Впрочем, как и всем нам. Сейчас я вспоминаю об этом с содроганием.
Еще до переезда в центр Майк несколько раз съездил в Москву вместе с музыкантами «Аквариума» и дал там несколько совместных с ними концертов. Все это дело было замаскировано под творческие вечера кинорежиссера, писателя и сценариста Олега Осетинского – личности в московских арт-кругах весьма известной, да и не только в московских: он был соавтором сценария фильма «Звезда пленительного счастья» – картина шла в кинотеатрах страны с большим успехом, она действительно очень хорошая.
Многие «взрослые» деятели советской культуры того времени вдруг почуяли моду на рок – и стали так или иначе этим делом заниматься.
Вот Осетинский и устроил несколько (не знаю, не помню уже точно, сколько – один, два или три) творческих вечеров с привлечением ленинградских подпольных музыкантов. По сути, это были концерты «Аквариума» и Майка – а Осетинский сидел на сцене за столиком, в сторонке, и пил чай. Это была чистая маскировка.
Об этих мероприятиях существуют самые разные отзывы, некоторые из музыкантов, бывших на этих «вечерах», отзываются об устроителе довольно негативно, но если объективно смотреть на эти вещи – нужно сказать Олегу Евгеньевичу «спасибо» – он на самом деле сильно рисковал. Все это было преступно (по тогдашним советским законам): мало того, что являлось в чистом виде идеологической диверсией (можно было сколь угодно и как угодно уверять милицейское начальство, что музыканты «просто поют свои песни, и никакой идеологии», но это был «рок», а «рок» был идеологически чужд, тут и к бабке не ходи – нарушение и криминал), так еще и валилась статья за «нетрудовые доходы». Вход на эти вечера был платным, и музыканты получали деньги – причем значительно больше москонцертовских ставок. А это уже чистая уголовщина.
В том, что часть деятелей советской культуры потянулась к «Аквариуму» и Майку, нет ничего удивительного. Люди ведь тоже мучились. Люди хотели снимать кино, ставить спектакли, самовыражаться и вообще заниматься искусством. А цензура на них давила стотонным прессом, и многие просто с ума сходили, спивались и натурально умирали. А тут появляются ребята – ребята, которые играют настоящее, подлинное (чутье художников не подводило, уж подлинное от халтуры они отличать умели), и ребята эти плевали на любую цензуру, на все идеологические преграды – и живут они не где-то в Лондоне, а вот тут, под боком, в Ленинграде. Есть от чего ошалеть.
Поддержка деятелей советской культуры была вовсе не иллюзорной и не означала «продажности» – поэт Вознесенский не виноват в том, что родился в СССР, обладая при этом поэтическим даром. Он очень помог Гребенщикову – вместе с Аллой Пугачевой, кстати, творчество которой лично мне глубоко неприятно, но из песни слова не выкинешь.
Но до всего этого было еще далеко, а пока Осетинский устраивал эти небольшие концерты, и музыканты получали деньги. Майк вернулся в Ленинград со ста рублями в кармане (в то время это была месячная зарплата инженера), и сомнений в том, что он на правильном пути, уже не было никаких.
Майк мечтал играть большие электрические концерты – а кто из наших артистов (и не наших тоже) об этом не мечтал? Все мечты всегда осуществляются – если это настоящие мечты, если человек по-настоящему сильно чего-то хочет.
У Майка всегда была проблема с подачей. Он был внутри себя одновременно и Бобом Диланом и Марком Боланом – с примесью Чака Берри и Джаггера.
Но беда в том, что петь ни как Дилан, ни как Болан он не мог физически.
Если кто-то скажет, что Дилан тоже петь не умеет, я посоветую ему заняться развитием слуха. Для начала поставить альбом 1969 года «Nashville Skyline», где он поет классическое кантри таким убедительным баритоном, какой имеет не всякий крунер с именем.
Дилан выбрал себе манеру и работал в ней, при этом четко интонируя и легко внося драматургию в свои песни. То есть техническая сторона его не сильно заботила, технически он пел свои песни очень легко – иначе если возникают трудности чисто исполнительские, то тут уже не до драматургии, тут лишь бы в ноты попасть. Дилан делал и до сих пор делает все это с легкостью.
Про Болана и говорить нечего – его вечно молодой голос и длинные, точные ноты, наработанная годами и сотнями концертов манера пения, развитое дыхание, чистое, не изгаженное «Беломором» горло, позволяющее выдавать его знаменитое вибрато – все это было не для Майка.
В конце концов оставался Леонард Коэн, песни которого звучали в квартире Майка так же часто, как музыка The Rolling Stones, T. Rex и Нико.