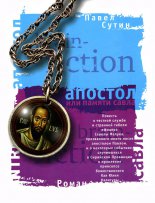Новые работы 2003—2006 Чудакова Мариэтта

Один из главных вопросов в «Тимуре и его команде» – пути восстановления правды. Как соотносится с этой задачей государство? Перед нами – незримая вертикаль, на которой зиждется монархическое устройство. Средний пласт власти не в силах самостоятельно следовать справедливости – правильно рассудит дело только тот, кто находится в соответствующем чине, причем военном. В повести нет и следов партийной власти (как нет и упоминаний Сталина – от этих упоминаний не один Гайдар, видимо, спасался в эти именно годы в детскую литературу). Все «верхнее» ассоциируется с военным, все государственное – с назревающей войной, с непреложностью участия в ней, защиты отечества (подобно тому, как все действие «Капитанской дочки» связано с военными действиями). Это – военная империя в ее расцвете; провозвещается возможность идиллии в ее рамках (подобно тому, как идиллией завершаются злоключения Гринева и капитанской дочки), возможность обретения покоя. Поиски покоя стали одним из слагаемых поэтики подставных проблем.[342]
Вспоминал ли сам Гайдар о «Капитанской дочке», работая над повестью? Вряд ли вспоминал, но несомненно помнил.[343] Это – та «таинственная сила генетической литературной памяти», о которой пишет С. Бочаров,[344] кстати напоминая статьи А. Л. Бема, трактующие феномен «припоминания»,[345] но двигаясь с осторожностью далее и говоря о
«процессе сохранения, возделывания и передачи творческой памяти и ее преобразования в путь большой литературы».[346]
Заключая наши рассуждения о повести 1940 года в ее отношении к «Капитанской дочке», не посчитаем неуместным напомнить слова Гоголя:
«Сравнительно с “Капитанской дочкой” все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною».[347]
Что-то близкое можно было бы сказать о повести Гайдара на фоне современной ему отечественной литературы.
ТРИ «СОВЕТСКИХ» НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТА
1
Из пяти русских писателей, получивших Нобелевские премии по литературе, двое были эмигрантами – Бунин и Бродский, трое – Пастернак (премия 1958 г.), Шолохов (1965 г.), Солженицын (1970 г.) – стали лауреатами, живя и работая в Советском Союзе.
Из этих трех награждений только одно было принято властью – так сказать, узаконено в советском обиходе как «правильное».
Биографически лауреаты принадлежат к трем разным поколениям – 1890-х годов (к нему мы относим родившихся в 1889–1899 годах – первое поколение писателей советского времени, принявшее на себя историческое бремя 1920-1930-х годов; к нему примыкают и многие из тех, кто родились в 1860-1880-м), 1900-х (второе поколение: родившиеся в 1900-1910-м годах) и 1910-х (третье поколение: родившиеся в 1911–1926 годах).
Отнесенные нами к первому поколению в начале века принадлежали к разным литературным, да и социальным группам. События 1914–1917 годов произвели перераспределение. Выдвинулся вперед и стал главным один биографический, даже антропологический признак – все они встретили роковые события ХХ века (начиная с 1914 года) во взрослом сознательном возрасте и, следовательно, не просто жили в России, ставшей советской, а остались в ней, то есть сделали выбор. Это знал про себя каждый из них, и знала про них власть. Никогда не вынесенное в поле свободного обсуждения обстоятельство (в послеоктябрьскую литературу оно вошло только в двух стихотворениях Ахматовой) невидимой, но важной нитью вплелось во взаимоотношения этого литературного поколения с властью.
Большинство этих литераторов получило известность до обеих революций 1917 года; им пришлось резко менять, чаще – ломать свою работу в советское время. (Некоторые, однако, могли бы с полным правом называть себя «рожденными Октябрем»: официальная метафора советских лет здесь адекватна независимо от отношения официоза к каждому из этих писателей и их к нему, – Булгаков, Зощенко, Ф. Гладков, Житков, Маршак.) Пастернак не только был писателем этого именно поколения, но не раз зафиксировал свою принадлежность к некоей среде («Я говорю про всю среду, С которой я имел в виду Сойти со сцены, и сойду…»).[348] Четверо покончили с собой; не менее двадцати из наиболее известных писателей этого поколения имеют одни и те же годы смерти – их творческий (а вслед за тем и жизненный) путь был насильственно оборван в 1937–1942 годах.
Писатели второго поколения по возрасту уже не принадлежали к тем, кто мог осознано сделать в 1918–1922 годах свой выбор. Они в этой новой послеоктябрьской России не остались, а жили с детства или отрочества, для них она была данность. Это литературное поколение не приходило к признанию основ нового мира (чем занимались два десятилетия литераторы первого поколения), а исходило из него.
Второе поколение застало стереотипы литературы сложившимися. И если предыдущее сделало своей главной темой рефлексию над тем, «что случилось», и над выбором своего места в резко изменившемся мире, то «ровесникам века» была предъявлена задача укрепления и возвышения нового мира. Структурирующей чертой поколения было – печатный дебют в начале 1930-х и литературная известность – в середине десятилетия; почти сразу вслед за нею часть этого поколения (как и первого) погибла в расстрельных подвалах и лагерях;[349] малая часть – вышла на свободу, безвинно отсидев по 10–15 и более лет.
Шолохов, календарно входивший во второе поколение, романом «Тихий Дон» литературно из него полностью выпал (среди прочего тем, что получил известность уже в конце 1920-х, а его роман перекликался с будущими «Доктором Живаго» и «Красным колесом»), а «Поднятой целиной» – заново втянулся (пролагая дорогу «Стране Муравии» Твардовского).
Структурирующая черта третьего поколения – Вторая мировая война, пришедшаяся на призывной возраст тех, кто вошел в это поколение, и ставшая главным фактом их биографии, прорезавшим или перерезавшим ее. Одни литераторы погибли на фронте (как ровесники и почти ровесники Солженицына Павел Коган и Кульчицкий), другие прошли войну от начала до конца и изменили за эти годы взгляд на свою страну.
Общей чертой поколения было задержанное вхождение в литературный процесс. Временем литературной известности для многих становятся только годы «оттепели» (вторая половина 1950-х – начало 1960-х) – А. Володин, Дудинцев, Окуджава, Д. Самойлов, Слуцкий, Солженицын, формировавшийся внутри этого поколения, но вырвавшийся за его пределы.
И творчество, и биографии трех столь разных «советских» нобелевских лауреатов в контексте их места и времени (Бунин – вне этого контекста, а Бродский связан с ним больше биографически, чем творчески) оказались причудливо переплетены – и почти принуждают рассмотреть «бесконтактное» столкновение всех троих в передней Нобелевского комитета.
2
К моменту присуждения премии Пастернаку отношение к Нобелевским премиям в советском официозе стало двойственным, скользящим. Единственный в течение более чем полувека русский писатель-лауреат Бунин для советской власти оставался прежде всего эмигрантом, а значит, его премия не засчитывалась в прибыток русской литературе, тем более что и само представление о русской литературе было разрушено – и официальной пропагандой, и реальным положением дел.
Сам Бунин, заметим, ощущал остроту ситуации, глубоко переживая коллизию «русский писатель вне России и ее читателя». Суть переживания он сформулировал в Нобелевской речи: «Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику».[350] Именно Бунин и своей речью, и самим поведением на церемонии[351] первым придал присуждаемой русскому писателю Нобелевской премии то самое сверхлитературное значение, которое впоследствии имел в виду Солженицын, мечтая о ней в годы, предшествовавшие его литературной и иной известности.
Первое сообщение в советской печати было помещено в «Литературной газете» мелким шрифтом под рубрикой «За рубежом» (без подписи):
«По последнему сообщению, Нобелевская премия по литературе за 1933 год присуждена белогвардейцу-эмигранту И. Бунину. Факт этот ни в какой степени не является неожиданностью для тех, кто пристально присматривается в течение последнего времени к подозрительной возне в болоте эмиграции. Возня эта особенно заметно усилилась с тех пор, как в 1932 году был пущен слух, что очередная премия по литературе будет отдана… Максиму Горькому. Наивные Митрофанушки всерьез поверили, что буржуазная академия, для которой даже Л. Толстой оказался в свое время слишком страшным радикалом, увенчает нобелевскими “лаврами” пролетарского писателя, беспощадно разоблачающего ложь и гниль капиталистического строя и призывающего массы под знамена ленинизма.
В противовес кандидатуре Горького, которую никто никогда и не выдвигал, да и не мог в буржуазных условиях выдвинуть, белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру матерого волка контрреволюции Бунина, чье творчество, особенно последнего времени, насыщенное мотивами смерти, распада, обреченности в обстановке катастрофического мирового кризиса пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев».[352]
Второе сообщение начиналось воспроизведением портрета Бунина, «верного приверженца царской монархии и самой отвратительной буржуазной коммерции», будто бы рекламирующего своим изображением и именем продукцию какой-то фирмы. После статьи под названием «Бунин, Горький и шведская академия» шло пояснение «От редакции»:
«Награждение эмигранта Бунина Нобелевской премией вызвало в буржуазном мире, как и следовало ожидать, восторженные отклики со стороны всех реакционных и белогвардейских элементов и резко отрицательные со стороны радикально настроенной, критически мыслящей интеллигенции. Мы помещаем статью Виктора Сванберга, известного шведского критика, доцента по истории литературы, напечатанную в стокгольмском журнале “Тиден”».[353]
Подчеркнем – до этого речь шла не о советском, а о пролетарском писателе Горьком, которому «буржуазия» заведомо не может дать премию, а он не мог бы, видимо, принять ее из буржуазных рук.
Но внутри Советского Союза в это же самое время – в 1932–1934 годах – по воле власти происходило перераспределение, перестраивание оппозиций (еще не зафиксированное – по особенностям ситуации, в которые мы здесь не входим, – в «Литературной газете»). В применении к литературе исчезало слово «пролетарский», а с ним и противопоставление буржуазный – пролетарский (как и – пролетарская литература / попутническая литература). Функцию слова «пролетарский» брало на себя слово «советский», ставшее краеугольным камнем публичной (устной и письменной) речи. Именование «советская власть», утвердившееся сразу после Октября, оказалось удобной ширмой для реальной власти.
Идея создания Союза советских писателей, на наш взгляд, во многом основывалась на понимании Сталиным удобства этой тотальной двусмысленности слова «советский». Можно сказать, одна двусмысленность – всевластие правящей компартии при подчиненных ей Советах – порождала другую. В словосочетаниях «советский писатель», «советская литература», «советская культура» определение могло обозначать географическое понятие – нечто находящееся в Советском Союзе, к нему, так сказать, приписанное; могло иметь идеологический смысл (в Толковом словаре русского языка в 1940 году выделено это значение: «Соответствующий мировоззрению и практическим задачам рабочего класса, преданный советской власти»; примеры – «вполне советский человек, советски настроенный человек»), а могло истолковываться – и вскоре только так и истолковывалось – в обоих смыслах одновременно. Возник неписаный запрет на пейоративные высказывания со словом «советский». Не могло, например, существовать в публичной речи словосочетание «плохой советский роман». В этом случае первое, географическое значение (роман, написанный в Советском Союзе) тут же затоплялось вторым, идеологическим, и словосочетание саморазрушалось, поскольку в сознании говорящего (точнее, задумавшего так сказать) моментально вытягивалась причинно-следственная цепочка: если написан в СССР – значит напечатан, если напечатан – значит советским издательством; советское издательство… здесь и включалось табу. Когда публично подвергали критике романы, то их уже не называли советскими. А словосочетаний «не советский» или «не вполне советский», которые открыто основывались бы на втором из указанных значений краеугольного слова, в публичной речи, к этому времени введенной в узкие рамки сформировавшегося идеологического словаря, уже практически не существовало.
Объявив в 1932 году всех пишущих советскими писателями и узаконив это в 1934 году образованием Союза советских писателей, Сталин тем самым объявил о равенстве в контексте неравенства – ведь в стране было огромное количество лишенцев, то есть людей не– или не вполне советских, хоть и стопроцентно советских в географическом смысле (вплоть до новой сталинской же конституции). В ажиотаже полуистерической (см. Стенограммы 1-го съезда ССП) радости от оказанного писателям «высокого доверия» тогда осталось, похоже, не замеченным главное – то, что лежало в области Языка и сохранило свою действенность на протяжении всего советского времени: само слово означало, что теперь обратного хода ни для кого нет.[354]
После войны (когда курсировал слух о помышлении Бунина вернуться в Россию[355]), особенно же в годы «оттепели», писателя в значительной степени «вернули» («возвращение» стало любимой советской метафорой тех лет – ведь вернуться это всегда хорошо – и то же повторилось тридцать лет спустя!): к моменту присуждения премии Пастернаку уже вышло пятитомное собрание сочинений Бунина. Прежняя безапелляционно-отрицательная оценка решения Нобелевского комитета 1933 года была поколеблена: в первой советской статье о Бунине 1957 года о премии сообщалось только как о факте – без брани, вообще без эпитетов и эмоций.[356] Эта сдержанность была красноречива.
Нобелевские премии оставались для официоза (да во многом и для писателей) атрибутом Запада, не имеющим отношения к советской жизни, – и в то же самое время уже оказались пространством надежды на то, что премия будет присуждена истинно советскому (в обоих значениях слова) писателю и станет свидетельством признания Западом советской культуры. Эта надежда была обманута. Решение Нобелевского комитета 1958 года вместо акта успешной советской экспансии стало десантом внешнего мира на советский остров, вызвавшим смятение официоза и затем – срочную реставрацию прежнего отторгающего отношения. Это решение обнажило давно закрепившуюся двусмысленность словосочетания «советский писатель» и насильственным образом погрузило в зону рефлексии то, что по неписаным законам тоталитарного общества рефлексии не подлежало.
Выстроилась схема: Нобелевская премия по литературе может быть признана в СССР лишь в том случае, если ею награждено произведение, прошедшее советскую цензуру, и если автор признан властью в качестве советского. Схема нигде и никогда не была эксплицирована – и подвергалась поэтому не просто разным, но многослойным интерпретациям.
3
Отношение к присуждению премии трем лауреатам складывалось следующим, в определенных частях симметричным или зеркально-симметричным образом.
Пастернак. Резко отрицательное отношение официоза (включая, конечно, официозных писателей; неофициозные свою точку зрения публично выразить не могли) и части манипулируемого властью малограмотного населения (вошедшее в поговорку высказывание в «письмах трудящихся» в газеты: «Я Пастернака не читал, но осуждаю…»); исключение его из Союза писателей СССР через несколько дней после присуждения премии.
Положительное – просыпающегося общественного сознания, сравнительно узкого (относительно огромного населения страны) круга читателей и ценителей поэзии и поэта.
Шолохов. Полностью положительное отношение официоза и большинства читателей, любивших автора «Тихого Дона» и рассказа «Судьба человека» (немаловажное обстоятельство: по этим произведениям в 1957–1958 и 1959 годах вышли в прокат фильмы с очень хорошей игрой актеров; фильмы имели большой успех – их посмотрели соответственно 47 и 39 с лишним миллионов зрителей). Они мало обращали внимания на его выступления общественного характера и чаще всего не способны были их верно оценить.
Для официоза Пастернак оказался в паре с Шолоховым, которого советская власть ему противопоставила, безуспешно стараясь воздействовать на Нобелевский комитет еще в 1958 году[357] (с другой стороны, Шолохов оказался вместе с Пастернаком и в списке претендентов, составленном ПЕН-клубом[358]). 30 июля 1965 года, когда стало известно намерение Нобелевского комитета обсуждать кандидатуру Шолохова, писатель обратился к Брежневу, ссылаясь на отказ Ж. – П. Сартра в 1964 году от премии и прося сообщить (имея в виду, по-видимому, свое членство в коммунистической партии и ее Центральном комитете),
«как президиум ЦК КПСС отнесется к тому, если эта премия будет (вопреки классовым убеждениям шведского комитета) присуждена мне, и что мой ЦК мне посоветует?»[359]
Здесь очевидна – в зеркальном отражении – проекция на ситуацию Пастернака, которого этот самый ЦК принудил отказаться от премии. Письмо Шолохова передали на рассмотрение в Отдел культуры ЦК. Там дали заключение, что присуждение
«было бы справедливым признанием со стороны Нобелевского комитета мирового значения творчества выдающегося советского писателя. В связи с этим Отдел не видит оснований отказываться от премии, если она будет присуждена».
Л. Брежнев, К. Черненко и другие члены Президиума ЦК письменно подтвердили свое согласие.[360]
Но и для Сартра Пастернак, умерший четыре года назад, оказался в паре с Шолоховым. Один из аргументов отказа Сартра звучал так:
«Печально, что Пастернаку дали премию раньше, чем Шолохову, и что единственное советское произведение, удостоенное Нобелевской премии, было опубликовано за границей и запрещено в своей стране».[361]
Обратим опять-таки внимание на слово «советское». Пожалуй, оно подразумевает – написанное в пределах Советского Союза гражданином этой страны. Других коннотаций здесь вроде бы нет – поскольку если бы речь шла о советском содержании, не было бы факта запрещения.
Отрицательное отношение к награждению Шолохова – у либеральной «советской» общественности, поскольку, во-первых, в ее глазах Шолохов был к этому времени безнадежно скомпрометирован своими выступлениями – печатными (он был инициатором газетной дискуссии о писательских псевдонимах в эпоху «борьбы с космополитизмом») и устными (на писательских и партийных съездах), а во-вторых, смерть очевидным образом затравленного предшествующего нобелевского лауреата и вести о всемирном успехе его остававшегося не опубликованным в отечестве романа оказывали свое воздействие. Шолохов и здесь оказался в паре с Пастернаком.
Солженицын. Резко отрицательное отношение официоза и части распропагандированного населения (так же не читавшего его не принятых к публикации в отечестве двух романов, как не читали в свое время «Доктора Живаго»). Исключение из Союза писателей за год до присуждения премии (а не из-за нее, как в случае с Пастернаком).
Резко, если можно так выразиться, положительное отношение достаточно широкой (по сравнению с 1958 годом) оппозиционно настроенной (уже оформилось диссидентское движение) общественности; напечатанные вещи Солженицына получили широкую известность; у него было к этому моменту очевидное, гораздо более внятное, чем даже у Пастернака, гражданское лицо и общественная позиция, полярно противоположная шолоховской.
Шолохов высказался о Пастернаке, его романе и о позиции Союза писателей – во Франции, отвечая на вопросы журналистов (и вызвал этими ответами недовольство своей власти):
«Коллективное руководство Союза советских писателей потеряло хладнокровие. Надо было опубликовать книгу Пастернака “Доктор Живаго” в Советском Союзе вместо того, чтобы запрещать ее. Надо было, чтобы Пастернаку нанесли поражение его читатели ‹…› наши читатели, которые являются очень требовательными, уже забыли бы о нем».
Рукопись романа он читал:
«это бесформенное произведение, аморфная масса, не заслуживающая названия романа» («Франс суар», 22 апреля 1959 г.).[362]
Шолохов мог чувствовать что-то родственное в сценах Живаго в плену у партизан; вообще узнал, скорее всего, и некоторые свои проблемы, и главное – свой материал.
Говоря о читателе, он, можно предполагать, внес в ответ и свою собственную уверенность в том, что роман Пастернака, в отличие от «Тихого Дона», не будет иметь массовой читательской аудитории. В этом он, как показало отечественное издание «Доктора Живаго» спустя тридцать лет, по-видимому, не ошибался (впрочем, если бы вовремя…).
Пастернак и Солженицын – писатели разных (через одно) поколений – сомкнулись в важной точке, но уже после смерти поэта: после короткого момента публичной, всесоюзной славы Солженицын попал во внезаконный (антисоветский, с точки зрения власти, не знавшей, повторим, слова несоветский) ряд отечественной литературы.
Последний виток судьбы Пастернака стал для Солженицына предметом настойчивых размышлений, примериваний к себе.
Ему в еще ссыльные, а потом рязанские годы, до печатания, Нобелевская премия представлялась важнейшим актом в выполнении личной жизненной задачи. Уверенный в то время, что в Союзе невозможно опубликовать то, что он писал, он готов был – в отличие от Пастернака – передать свои сочинения на Запад до попыток напечататься на родине. Поведение Пастернака в связи с премией он не мог, как сам об этом пишет, ни понять, ни принять. В тот год он был уверен:
«… Вот с кем удался задуманный мною жребий! Вот он-то и выполнит это! – сейчас поедет, да как скажет речь, да как напечатает свое остальное, тайное, что невозможно было рискнуть, живя здесь! ‹…› Ясно, что назад его не пустят, да ведь он тем временем весь мир изменит, и нас изменит, – и воротится, но триумфатором!»[363]
И был глубоко разочарован письмами Пастернака в советской печати, его боязнью высылки. К моменту объявления Солженицыну о его премии у него задолго был готов замысел: «все не как Пастернак, все наоборот». Он ожидал такого же яростного преследования, на которое готовился ответить иначе, чем Пастернак.
«Вот уж, поступлю тогда во всем обратно Пастернаку: твердо приму, твердо поеду, произнесу твердейшую речь. Значит, обратную дорогу закроют. Зато: все напечатаю! все выговорю! ‹…›Дотянуть до нобелевской трибуны – и грянуть! За все то доля изгнанника – не слишком дорогая цена». Мнение близкого человека было, «что надо на родине жить и умереть при любом обороте событий, а я, по-лагерному: нехай умирает, кто дурней, а я хочу при жизни напечататься. (Чтобы в России жить и все напечатать – тогда еще представлялось чересчур рискованно, невозможно.)».[364]
Несомненно, бывший зэк не мог не учитывать в своей стратегии тот факт, что в это самое время Синявский и Даниэль уже отбывали свой лагерный срок за печатание за границей.
«Естественно было ждать разворота и свиста. Но – не наступило. ‹…› Как и все у них, закисла и травля против меня ‹…› – в той же их немощной невсходной опаре. Движение – никуда. Брежневское цепенение».[365]
Вообще вопрос о Нобелевской премии был вопросом о видении людьми советской России, так называемой советской общественностью, – своей, то есть созданной после Октября и публикуемой в подцензурной печати, литературы не столько в контексте мировой литературы, сколько в контексте жизни мира. Нужно ли писателям, пишущим внутри Советского Союза (и, соответственно, их внутрисоюзным читателям), мировое признание?
Идея «социализма в одной стране» (а потом «социалистического лагеря») и неизбежно «враждебного окружения» приобретала в связи с премией особую выпуклость – но таинственным образом проваливалась в случае присуждения ее официально признанному Шолохову. В этом случае «классово» (по выражению Шолохова в цитированном письме Брежневу) враждебный Комитет становился правильным, справедливым, признающим «мировое значение творчества выдающегося советского писателя» – в этих словах из цитированной ранее «справки» Отдела культуры ЦК слово «советский» уже несомненно мерцало вторым своим значением – не географическим, а идеологическим. По-видимому, такая премия советской властью рассматривалась как успех в идеологической «борьбе», шаг в завоевании мира.
4
Растроение русской литературы в середине 1920-х годов на три потока – зарубежная, отечественная печатная, отечественная рукописная – привело к тому, что государственная граница стала фактором литературного процесса, а пересечение этой границы сочинениями «советских» писателей – фактом особого значения, актуализованным в 1929 году известным «делом» Замятина и Пильняка.
Спустя почти тридцать лет – благодаря публикации «Доктора Живаго» на Западе помимо воли власти – для писателей стала вырисовываться новая, хоть и чреватая большими опасностями, возможность. Ею воспользовались Синявский и Даниэль – но под псевдонимами. Синявский начал тайно передавать свои сочинения за границу в середине 50-х, но в печати они появились только в 1959-м – уже после Нобелевской премии Пастернаку, прогнувшей государственную границу.
Шолохов получает свою премию – за произведения, напечатанные легально, по сю сторону государственной границы, подцензурно – в те самые месяцы, когда двое литераторов, напечатавшие свои сочинения нелегально, за границей, уже арестованы за это и находятся под следствием.
Граница станет главной темой обсуждения во всей ситуации Нобелевских премий, присужденных «советским» писателям. О ней же через пять лет поведет речь узнавший о том, что он стал лауреатом, Солженицын, рефлектируя – пересекать ли ее. И в конце концов пошлет в Нобелевский комитет письмо с отказом приехать за премией, предполагая, «что моя поездка в Стокгольм будет использована для того, чтобы отсечь меня от родной земли, попросту преградить мне возврат домой».[366] Мотив был, собственно, такой же, что у Пастернака, только тот под угрозой высылки, высказанной публично главою КГБ, отказался от самой премии. Глубоко интимное чувство связи человека с «родной землей» советская власть сделала – именно в связи с Нобелевской премией – предметом публичного шантажа и торга.
Как именно в условиях растроения русской литературы самоотождествляли себя сами лауреаты?
Пастернак в течение всего творческого пути – до работы над «Доктором Живаго» – был ориентирован на внутренний печатный процесс,[367] участвовал в нем и воздействовал на него каждым своим произведением.
Само стремление войти в отечественную печать становилось – особенно с начала 1930-х годов – стремлением стать советским писателем. Выход за границу даже с переводами напечатанных произведений являлся делом весьма щекотливым и не находился в руках автора: инициатива должна была исходить от официоза, который определял идеологическую транспортабельность произведения, степень лояльности к советской власти издательства и т. д.
У Пастернака почти не было ненапечатанного – так что Солженицын ошибался (примеривая его к себе), когда надеялся, что после Нобелевской премии тот напечатает за границей «тайное». Подчеркнем еще раз – Пастернак ориентировался на отечественный печатный литературный процесс. Когда в 1943 году Фадеев объяснил ему, что поэма «Зарево», судя по готовым фрагментам, не сможет увидеть свет, – он отказался от замысла вовсе, и это характерно.
Роман, который Пастернак писал в течение десяти лет, был завершен в конце 1955 года. В начале 1956-го автор предпринял попытку напечатать сочинение, написанное без специальной заботы о соблюдении условий советской печати, – и соединить тем самым рукописный литературный поток с печатным. Так должен был реально начаться в его стране новый литературный период, который он готовил своим романом с первых послевоенных лет.
Его рукой водила литературная эволюция. В начале 1940-х годов обозначился конец того цикла, в котором русская литература расплелась на три потока и существовала в этом неестественном состоянии. Внутренний кризис такого существования созрел и обострился. Литература должна была либо разделиться на разные русскоязычные, подобно английской, американской и австралийской, либо воссоединиться, снова стать единой. Именно в эту сторону указывал вектор литературной эволюции. Следуя его направлению, работал Пастернак над своим романом. Он писал его не «в стол» (как Ахматова во второй половине 1930-х свой «Реквием»), а собирался публиковать в отечественных журналах и издательствах, но так как в то же время он писал совершенно свободно, то уже сомневался в возможности этого. И вышел в мировую печать, сказав, по преданию, близкому человеку, что романы пишутся для того, чтобы их читали.
Шкаф, в который складывал свои рукописи двадцать лет назад, в последние годы предыдущего цикла литературного процесса советского времени, М. Булгаков,[368] готовый принять разделение на печатное, непечатное и инопечатное, хоть и стремился вырваться из него, Пастернаку в послевоенные годы уже не подходит.
Об этом новом взгляде он говорит в письме Паустовскому от 12 июля 1956 года с историко-литературной определенностью:
«Вас всех остановит неприемлемость романа, так я думаю. Между тем только неприемлемое и надо печатать. Все приемлемое давно написано и напечатано».[369]
Неприемлемое – это и есть то, что пишут не для печати, а затем рискуют, передавая в печать. Год спустя (23 августа 1957 г.) о том же он пишет С. Чиковани:
«… Я не понимаю, как можно воображать себя художником и отделываться дозволенным, а не рисковать крупно, радостно и бессмертно».[370]
Речь идет, повторим, о соединении рукописного и печатного потоков. Но Пастернак с подцензурной осторожностью фиксирует в одном из писем и важность сближения с третьим руслом – зарубежным, в форме выхода внутрисоветского произведения на европейскую арену:
«… Преувеличивают вредное значение появления романа в Европе. Наоборот, наши друзья считают, что напечатание первого нетенденциозного русского патриотического (то есть – не эмигрантского, не “антисоветского” в прямолинейном смысле. – М. Ч.) произведения автора, живущего здесь, способствовало бы большему сближению и углубило бы взаимопонимание…».[371]
В позиции Пастернака были нюансы – отпечатки времени.
Он предложил роман «Новому миру» – журналу, готовившему тогда к печати роман Дудинцева «Не хлебом единым», также начатый автором до смерти Сталина – заведомо как рукопись, без надежд на печатание. Об этой специфической ситуации Пастернак напомнит официальным писательским инстанциям осенью 1958 года, когда уже развернулась его травля. В письме в президиум Союза писателей он указал, что в предложенной официозом «истории передачи рукописи [за границу] нарушена последовательность событий», и пояснил:
«Роман был отдан в наши редакции в период печатания произведения Дудинцева и общего смягчения литературных условий. Можно было надеяться, что он будет напечатан. Только полгода спустя рукопись попала в руки итальянского коммунистического издателя».
Была договоренность о публикации романа и с Гослитиздатом. Пастернак сетовал, что его сегодняшние гонители умалчивают об отсрочках, которые автор
«испрашивал у итальянского издателя и которые он давал, чтобы Гослитиздат ими воспользовался для выпуска цензурованного издания, как основы итальянского перевода. Ничем этим не воспользовались».[372]
Так Пастернак уходил в Тамиздат (практически его сконструировав и нравоучительно поясняя власти, что она сама все это устроила) – чтобы оттуда вернуться в виде книжки в уже вовсю разворачивавшийся Самиздат, где одинаково ходило, одинаково подвергая опасности читателей, и напечатанное «там», и здешнее рукописное.[373]
Пастернак принимает как данность наличие цензуры в его стране и необходимость пройти через нее прежде, чем выйти в свет в зарубежных издательствах.
Но он, во-первых, открыто указывает смену одних литературных обстоятельств другими – смену «оттепельного» смягчения (в том числе цензурного) – ужесточением. То есть – оглашает то, что не подлежало, по советским неписаным правилам, оглашению (слово «оттепель», напомним, никогда не употреблялась в официозном языке). Во-вторых, он, опять-таки вопреки узусу публично, то есть в официальном письме, обсуждает принятые, но также негласные (или, точнее, давно не оглашающиеся) условия печатания – и дерзает попрекать власть задержкой с публикацией своего романа. Он, по сути дела, заявляет: «Раз по вашим-нашим правилам нельзя выпускать за границей ненапечатанное, то есть не цензурованное, так цензуровали бы поживей да и печатали!» Это должно было остервенить официоз, как в последующие годы его остервеняло поведение правозащитников, которые стали настырно требовать от власти соблюдения ею же изданных законов и конституции (не раз отмеченная политическими арестантами раздраженная фраза представителей «органов» – «Законы знаете!..»)
И в-третьих, Пастернак обращает внимание на новую ситуацию, созданную действиями самой власти и ею вряд ли осознанную:
«Теперь огромным газетным тиражом напечатаны исключительно одни неприемлемые его места, препятствовавшие его изданию и которые я соглашался выпустить, и ничего, кроме грозящих мне лично бедствий, не произошло. Отчего же нельзя было его напечатать три года тому назад, с соответствующими изъятиями».[374]
Автор фиксирует, что создан первый прецедент – печатание «огромным газетным тиражом» заведомо нецензурных фрагментов литературного произведения! И – «ничего не произошло». Таким образом, Пастернак с зоркостью, обостренной его страданиями этих дней, подметил и указал, что самый смысл советской цензуры поставлен под вопрос.
За два года до этого, поздней осенью 1956 года, Дудинцев, сумевший напечатать свой роман, на устных его обсуждениях говорил уже гораздо менее свободно, чем раскованные романом и фактом его напечатания читатели. Пастернак же использовал в полемике с собратьями по цеху (пока можно было ее вести) печатный опыт Дудинцева – и не отступил от своего. Он хотел закрепить прецеденты – зафиксировать первый абрис нового времени; он пытался войти в волну, подымавшуюся в начале 1956 года и вынесшую на отмель печати роман Дудинцева и два выпуска «Литературной Москвы».[375]
К началу 1959 года Пастернак был изъят из литературного процесса. В том же году вышел и остался незамеченным роман зэка с немалым стажем Юрия Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом», над которым автор работал с 1943 года. Почему он остался незамеченным (благодаря слишком плотному антифашистскому камуфляжу? не были готовы?) – над этим еще стоит поразмышлять.
Через два с половиной года после смерти Пастернака, осенью 1962 года, в «Новом мире», где не удалось напечатать «Доктора Живаго», появился «Один день Ивана Денисовича» (написанный в 1959-м): так плотно шел напор изнутри русской литературы. Через два года там же напечатан «Хранитель древностей» Ю. Домбровского, недостаточно замеченный в лучах заслуженной славы Солженицына. Начинался новый, второй цикл литературного процесса, увы, того же советского времени – «оттепель» не подмыла основных опор.
Именно Пастернак, в прямой связи с премией, символизировавшей мировое признание, взялся рассуждать о нерефлектируемом с 1930-х годов, застывшем в своей двусмысленности понятии «советский писатель».
«Я еще и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные “Доктору Живаго”, – пытался объяснить он недавним сотоварищам (в цит. письме руководству СП от 27 октября 1958 года). – Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звания».
И еще раз в том же тексте, говоря о Нобелевской премии, он стремится нейтрализовать словосочетание «советский писатель», сведя его к первому, географическому значению, изолируя его от второго, идеологического (издавна, как известно, слипшегося с географическим) – и тем самым зачеркивая оппозицию «антисоветский»:
«… В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался».[376]
Можно было бы сказать, проецируя на политическую жизнь постсоветского времени, что Пастернак сопоставим с Горбачевым, стремившимся вложить новое содержание в старые понятия. Через три года Солженицын смахнет со стола представление о «советском писателе» вообще, как впоследствии Ельцин поступит со всей советской системой.
5
Шолохов очень рано задумал роман,[377] в некоторой степени подобный тому, который Пастернак писал уже в последней трети своего литературного пути, – роман о революции и Гражданской войне, с героем, не вписывавшимся своей незаурядностью и тяготением к свободе и к совести в строящееся большевиками общество (нельзя не обратить внимания и на сходный рисунок прошедших через весь роман отношений героя с его обеими женщинами). Написать и напечатать его Шолохову помогли биографические обстоятельства. Во-первых, возраст, то есть принадлежность ко второму поколению, во-вторых, определенная узость творческого диапазона.
Люди первого поколения (в нашем сюжете – Пастернак) были обременены своей юностью в предреволюционной России. У Шолохова, в отличие от них, не было материала для мучительной рефлексии о степени личной замешанности в подготовке революции: он участвовал уже в ее последствиях – в виде продотрядов.
Нам приходилось обращать внимание на важное суждение мемуариста – оно проливает свет на глубокие внутренние причины, по которым «Доктор Живаго» не был написан в течение первого цикла (как «Тихий Дон», добавим мы):
«До войны он еще отчасти верил и в идеологические требования и пытался писать свой роман (главы о Патрике, о 1905 годе) на основе сильно износившегося и пощипанного, дореволюционного интеллигентского, восходящего еще к народничеству мировоззрения, и у него ничего не получилось. Он чувствовал себя в безнадежном положении человека, взявшегося за квадратуру круга. Но после войны он обрел опору в очень свободно понятом христианском мировоззрении».[378]
«Очень свободно понятом» – удачные слова, говорящие о смене того круга вопросов, на которые на протяжении всего первого цикла старались давать ответы люди его поколения. Автор «Тихого Дона» не крутился в кольце этих вопросов, близких к квадратуре круга. Он вообще скорее не размышляет о революции, а изображает судьбы людей, втянутых в ее вихрь.
Что касается второго благоприятствующего обстоятельства – по свойствам Шолохов, видимо, не мог, встретив непреодолимые препятствия в одном жанре, временно переключаться на другие (как, скажем, Булгаков на драму, после неудачи с «Собачьим сердцем», или на роман – после полного краха на советской сцене). Он должен был бить в одну точку – «пробивать» свой роман любой ценой. Сосредоточенность усилий дала свой эффект.
Шолохов столкнулся с большими трудностями печатания в советских журналах. Он практически пошел наперерез потоку – почти не имея литературного имени, сразу вызвав недоумение самим обращением к большому жанру (рассказ – это было естественно для молодого), а также зрелостью и смелостью. (Все это стало одной из причин сомнений в авторстве романа.) Проследив перипетии борьбы Шолохова с цензурой, мы пришли к выводу, что в контексте конца 1920-х – 1930-х годов она была беспримерной.[379]
6-ю часть романа журнал «Октябрь» печатать отказался.[380] 2 декабря 1931 года автор пишет Е. Г. Левицкой о том, что уже исправленная им 6-я часть
«не удовлетворила некоторых членов редколлегии “Октября”, те решительно запротестовали против печатания и 6-я часть пошла в культпроп ЦК. Час от часу не легче и таким образом три года».[381]
Печатая в конце концов текст, «Октябрь» тем не менее сделал не согласованные автором купюры в № 3 (что было уже достаточно обычной практикой). Шолохов остановил печатание и заставил редакцию в следующем № 5/6 напечатать изъятые места![382] После журнальных мытарств Шолохов принял решение 4-й том не печатать в журналах – сразу отдельной книгой.[383]
Последующая работа над романом тормозилась уже другими обстоятельствами – страшными последствиями коллективизации, а позже – арестами друзей и добрых знакомых. Он стремился воздействовать на обстоятельства – главным образом посредством писем к Сталину (начиная с января 1931 года). Нельзя недооценивать связанный с этим риск. В письме Сталину от 4 апреля 1933 он описывал, как идут в его Вешенском районе хлебозаготовки:
«В Грачевском колхозе уполномоченный РК [районного комитета ВКП(б)] при допросе [стремясь любой ценой отнять у людей зерно, не добранное до “спущенной” району нереальной цифры] подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрашивать. ‹…› Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе ‹…› ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов [те, кто “недосдал” хлеб до нужной цифры] жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Да разве же можно так издеваться над людьми?»
Рассказывая, как один грудной ребенок замерз на руках у матери (никто не мог пустить людей в дом под угрозой выселения), Шолохов заключал:
«Бесспорно одно: огромное количество взрослых и “цветов жизни” после двухмесячной зимовки на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом». Конец письма почти угрожающий: «Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу “Поднятой целины”».
Сталин отреагировал телеграммой-молнией (16 апреля 1933), в тот же день Шолохов пишет ответное письмо с множеством новых подробностей, присовокупляя:
«Письмо к Вам – единственное, что написал с ноября прошлого года. Для творческой работы последние полгода были вычеркнуты. Зато сейчас буду работать с удесятеренной энергией».[384]
30 апреля 1933 года Шолохов пишет Е. Г. Левицкой:
«Я бы хотел видеть такого человека, который сохранил бы оптимизм и внимательность к себе и ближним при условии, когда вокруг него сотнями мрут от голода люди, а тысячи и десятки тысяч ползают опухшие и потерявшие облик человеческий. ‹…› Сейчас я несколько распрямился: послал хозяину два письма (единственный продукт “творчества” за полгода)‹…›».[385]
16 сентября 1937 генеральный секретарь Союза писателей В. Ставский информирует Сталина:
«В связи с тревожными сообщениями о поведении Михаила Шолохова, я побывал у него в станице Вешенской. ‹…› М. Шолохов до сих пор не сдал ни IV-й книги “Тихого Дона”, ни 2-й книги “Поднятой целины”. Он говорит, что обстановка и условия его жизни в Вешенском районе лишили его возможности писать».
Шолохов дает Ставскому прочитать 300 страниц IV-го тома «Тихого Дона».
«Удручающее впечатление производит картина разрушения хутора Татарского, смерть Дарьи и Натальи Мелеховых, общий тон разрушения и какой-то безнадежности, лежащей на всех трехстах страницах»
(заметим, что все это останется в тексте, который автор начнет печатать в «Новом мире» с ноября того же года).
«Какова же Вешенская обстановка у Шолохова? Три месяца тому назад арестован б. секретарь Вешенского райкома ВКП(б) Луговой – самый большой политический и личный друг Шолохова».
Арестована целая группа близких ему людей.
«Шолохов решительно, категорически заявляет, что никаких разногласий с политикой партии и правительства у него нет, но дело Лугового вызывает у него большие сомнения в действиях местных властей».
Ставский пишет о возможности его самоубийства.[386] Это не входит в расчеты Сталина. Он вызывает Шолохова в Москву, беседует с ним. Часть арестованных освобождают. Шолохов продолжает бомбардировать Сталина резкими письмами, подробно приводя описания пыток (со слов освобожденных благодаря его хлопотам),[387] – тема, на публичное обсуждение которой был наложен неписаный, но абсолютный запрет.
Он пишет в 1931–1940 годах свой «Архипелаг Гулаг», с яркими образами садистов-следователей, с жуткими судьбами арестованных (и мучимых безо всякого ареста во время хлебозаготовок) – на материале одной Ростовской области и адресуя текст одному читателю: до начала 1990-х годов никто – ни в отечестве, ни на Западе – не узнал о его содержании.
Автор этого повествования касается большого количества судеб еще живых (часть уже расстреляна) людей, добиваясь их освобождения, – вплоть до ноября 1940 года, и Шкирятов, Берия и Меркулов вынуждены писать длинные и лживые ответы Сталину.[388]
6
Формирование особого социального субъекта – советского писателя – шло так: под покровом традиционных представлений о русском писателе и его месте в обществе (властитель дум, кумир молодежи, моральный образец, защитник сирых и убогих, пророк) предъявлялись совсем новые, неписаные требования к писателю. Шолохов их понял и полностью принял.
Он стремился стать советским писателем, значительная часть благородных действий которого, в отличие от времени, когда жили и писали Толстой и Чехов, была подспудной – хлопоты за десятки тысяч земляков, обращаемых в рабов, за арестованных и подвергающихся пыткам, за сына Андрея Платонова и др. не подлежали, в отличие от прежней России, обнародованию и оставались по большей части неизвестными. Тотальная подспудность очень важна – это означало, что не только письма, но все самоотверженные, связанные с риском его действия были адресованы только одному человеку, исключая саму постановку проблемы «писатель и общество». Действия же малоприглядные, напротив, широко афишировались, служа пропагандистским целям советской власти и формированию контекста «советское общество», и были совершенно необходимой частью «отработки» за право печататься. Шолохов не уставал подтверждать публично, что «никаких разногласий с политикой партии и правительства у него нет» (см. ранее письмо Ставского Сталину).
По нашей гипотезе, он поставил себе главную задачу – сделать достоянием печати и многомиллионного читателя свой роман, не делать уступок только в отношении его текста. Решение принесло двоякий результат: ввело в литературу советских лет роман, резко от нее отличавшийся, возвышавшийся над ней, – и разрушило постепенно личность автора. На это разрушение, несомненно, влияла сама социальная ситуация, с которой он соприкасался гораздо теснее, чем его сотоварищи по писательскому цеху – жители Москвы и Ленинграда. Расстрел в 1927 году прототипа Григория Мелехова (с очень большим портретным сходством с ним) Харлампия Ермакова (без суда – как за шесть лет до этого другого прототипа, знаменитого Филиппа Миронова) не мог не стать для него глубокой травмой. Шолохов весь 1926 год регулярно беседовал с Ермаковым, и эти беседы, по всей видимости, легли в основу описания событий 1919 года в романе. Уничтожение крестьянства и остатков казачества в 1929–1933 годах, аресты и расстрелы 1936–1938 годов, прямая угроза его собственной жизни от его же земляков (двойников повзрослевшего и деградировавшего Михаила Кошевого) – все это не могло не действовать разрушительно на того, кто не только продолжал жить в этой атмосфере, но должен был стремиться удержаться на поверхности печатной литературной жизни. А значит, делать вид, что ничего чудовищного не происходило и не происходит.
Принятое Шолоховым в определенный момент резкое отделение творчества от личности и биографии для него самого всегда оставалось в силе и даже год от году укреплялось, принимая форму цинического вызова: я – автор непревзойденного «Тихого Дона», остальное вас не должно касаться!
Такое жизнеповедение интенсивно формировало новую для российского общества модель, русский писатель сменялся советским писателем, тогда как общественность (относительно малочисленная в советском обществе) стремилась применять к нему прежние мерки, настаивая (по понятным причинам) на их незыблемости. Доказательства она увидела в Пастернаке, а затем в Солженицыне, осознанно проделывавшем работу, противоположную Шолохову, – формируя модель «русский писатель в советском обществе».
К моменту присуждения Нобелевской премии Шолохову уже нечего предложить ни Тамиздату, ни Сямиздату (родной язык сам толкает к такому обозначению для советской печати), ни тем более Самиздату. К этому времени его творческий потенциал, как и возможность сопротивления, равен нулю, личность деградировала (достаточно сравнить, скажем, его письма Хрущеву и Брежневу 1960-х годов с письмами Сталину 1930-х).
Западные журналисты обращались к Шолохову, возможно, не отдавая себе отчета в масштабах этой деградации (усугублявшейся алкоголизмом), а возможно, стремясь их уяснить. Они говорят с ним как с человеком, прошедшим инициацию на европейского писателя. Его прежние «желчные замечания» по адресу Бунина и Пастернака они склонны объяснять, «быть может, тем, что Шведская Академия никогда не наградила подлинно советского писателя, и что Шолохов с горечью относился к этой “несправедливости”. Теперь, когда его заслуги признаны, Шолохов, вероятно, знает, что полученные им почести накладывают обязательства. Надписывая свое имя на нобелевских табличках», он «занимает наконец свое место в международном сообществе великих писателей». Автор цитируемой статьи напоминает о судьбе Синявского (и о связи его с именем предшествующего русского лауреата Пастернака) и стремится надоумить нового лауреата:
«Во всяком случае Шолохов находится в лучшем положении, чем кто-либо другой, чтобы вмешаться в пользу заключенного в тюрьму писателя. Совершив поступок, которого от него ожидают, он поступит в традициях Нобелевской премии…».[389]
Но Шолохов давно не знает и не хочет знать каких бы то ни было «традиций» и признает только то, «что мой ЦК мне посоветует» (как сказано в его цитированном ранее письме Брежневу от 30 июля 1965 года). Западные журналисты не могут и вообразить себе, какой твердости аггломерат «советский писатель» получен в результате многолетней прессовки и прокаливания и как велик может быть разрыв между бывшим творчеством и нынешней личностью.
Разрушена сама его речь, устная и письменная. В Нобелевском выступлении Шолохова (декабрь 1965 года) – сравнительно коротком и, по-видимому, прошедшем многоступенчатую редактуру в разных отделах ЦК (что нисколько не отменяет личной ответственности автора), – дважды употреблено слово «борьба», дважды – «борец», дважды – «бороться», трижды – «прогресс». Текст пронизан подобными советизмами:
«Я представляю здесь большой отряд писателей моей Родины ‹…›. Этот жанр по природе своей представляет самый широкий плацдарм для художника-реалиста».
Своеобразие социалистического реализма
«в том, что он выражает мировоззрение, не приемлющее ни созерцательности, ни ухода от действительности, зовущее к борьбе за прогресс человечества ‹…›
Быть борцом за мир во всем мире и воспитывать своим словом таких борцов повсюду, куда это слово доходит ‹…› Я принадлежу к тем писателям, которые видят для себя высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой (! – М. Ч.) возможности служить своим пером трудовому народу».[390]
Через несколько месяцев, в апреле 1966 года, вскоре после приговора Синявскому и Даниэлю, вызвавшего в свободном мире всеобщее потрясение своей жестокостью и открывшего, наконец, глаза на советский тоталитаризм тем, кому недостаточно было прежней информации, Шолохов в речи на ХХIII съезде КПСС дал ответ на взывания к нему мировой общественности:
«Мне стыдно за тех, кто пытался и пытается брать их под защиту, чем бы эта защита ни мотивировалась. (Продолжительные аплодисменты.) ‹…› Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а “руководствуясь революционным правосознанием” (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (аплодисменты)».[391]
На речь Шолохова открытым письмом, разосланным во все центральные газеты, но, естественно, ставшим достоянием только Самиздата и Тамиздата, отвечает Л. К. Чуковская. Она пишет:
«За все многовековое существование русской культуры я не могу вспомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы свое сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок».[392]
Лучшие представители общественности не хотят признать существования феномена «советский писатель».[393]
Шолохов, как и Пастернак в 1958 году, имел свою теперешнюю идею советского писателя и выразил ее в речи 1966 года, попутно глумясь над приговоренными к длительным срокам каторги литераторами-соотечественниками. Можно различить даже некую подспудную интенцию. Он подчеркивает, например, что в его Нобелевской речи, произнесенной в аудитории, которая «значительно отличалась от сегодняшней (Оживление в зале)», форма изложения его мыслей («о роли художника в общественной жизни») «была соответственно иной. Форма! Не содержание. (Бурные продолжительные аплодисменты)». И далее он заявляет свое, так сказать, кредо:
«Где бы ни выступал советский человек, он должен выступать как советский патриот. Место писателя в общественной жизни мы, советские литераторы, определяем как коммунисты, как сыновья нашей великой Родины… ‹…› Совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется он одним и тем же русским языком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом – осквернить этот язык бешеной злобой, ненавистью ко всему советскому…».[394]
Что же подспудное можно увидеть в этой насквозь советской риторике?…
Если бы Шолохов был способен облечь невыраженное в слова, а потом решиться их где-либо произнести, то получилось бы что-то вроде такого монолога:
«Да… Это легкое дело – писать роман десять лет, вложить в него все, что думаешь о роковом времени России, а при первых трудностях печатания взять да и отдать итальянцу!.. А наши, российские, пусть, как положено быдлу, жуют пропагандистскую жвачку… Еще того легче – писать сразу не для своих, а для западного читателя… А здесь писать и говорить совсем другое… Это дешево стоит! Жили надвое – вот и сидите теперь! А вы попробовали бы как я!.. Тащить четыре тома двенадцать лет через цензуру – критику – редактуру!.. И победить!.. И отдать своему многомиллионному читателю – чтобы он знал о лютом нашем времени…»
Ничего этого Шолохов сказать уже не может – ни съезду, ни близким, ни, вероятно, себе самому. И это никогда не высказанное душит его, давит, выливается в слепящий глаза гнев, не очень понятный слушателям (хоть и встречаемый аплодисментами, выражающими более всего исконно-русское «Во дает!» или сегодняшнее «Прикольно!»), и черную злобу (ту самую «бешеную злобу», которую он и приписывает понятным, наверное, для психоаналитиков образом осужденным литераторам), вызывая оторопь даже у видавшей советские виды Л. К. Чуковской.
7
Шолохов выжал все из возможностей советской печати и достиг пика в финальной точке первого цикла литературного процесса советского времени: последний, 4-й том «Тихого Дона» вышел в 1938–1940 годах, увидев свет главным образом потому, что продолжал печатавшийся, знакомый всей стране роман, финала которого напряженно ожидали миллионы читателей. Заметим, что официальная оценка романа – например, при обсуждении его членами только что учрежденного Комитета по Сталинским премиям, – исходила из того, что роман будет продолжен, поскольку финал его совершенно противоречил прочно сложившемуся канону «советского» романа. Этот взгляд выразил А. Н. Толстой, объявив при том, что будет голосовать за присуждение Шолохову Сталинской премии:
«Конец 4-й книги ‹…› компрометирует у читателя и мятущийся образ Григория Мелехова, и весь созданный Шолоховым мир образов ‹…›. Такой конец “Тихого Дона” – замысел или ошибка? Я думаю, что ошибка. Причем ошибка только в том случае, если на этой 4-й книге “Тихий Дон” кончается… Но нам кажется, что эта ошибка будет исправлена волею читательских масс, требующих от автора продолжения жизни Григория Мелехова. ‹…› Григорий не должен уйти из литературы как бандит. Это неверно по отношению к народу и к революции».
А. Фадеев, с первой книги романа оказывавший на автора, как один из руководителей РАППа, огромное давление, которому тот не поддался, высказался по поводу финала еще резче:
«… Это – произведение, равное которому трудно найти. Но с другой стороны, все мы обижены концом произведения в самых лучших советских чувствах. ‹…› 14 лет писал, как люди рубили друг другу головы, – и ничего не получилось в результате рубки.[395] ‹…› В завершении роман должен был прояснить идею. А Шолохов поставил читателя в тупик. И вот это ставит нас в затруднительное положение при оценке. Мое личное мнение, что там не показана победа Сталинского дела, и это меня заставляет колебаться в выборе…».[396]
Характер обсуждения убеждает, что будь подобный роман лишь задуман в эти годы – он на десятилетия остался бы в рукописи, как «Мастер и Маргарита».
«Тихий Дон» трассирующей пулей прошил весь цикл, оставляя после печатания каждой из четырех книг свой след в литературном процессе. Шолохов – герой первого цикла с его проблемами. Роман опередил повесть Солженицына изображением народного героя (сменившего наконец лишнего человека) в центре повествования, а «Красное колесо» и «Доктора Живаго» – эпическим изображением России времени мировой войны и революции. Обреченность самого яркого из героев, находящегося во центре романа, на последних его страницах сделала финал «Тихого Дона» близким финалу и эпилогу «Мастера и Маргариты» и «Доктора Живаго». Конец «Доктора Живаго» обозначил конец поколения, конец целой среды, бывшей долгие годы, по слову поэта, «музыкой во льду».[397] Но и за Григорием Мелеховым стоит целый слой – только не выразивший себя вербально, – частью погубленный событиями 1917–1922 годов, частью обреченный на верную гибель в годы последующие.
Во втором цикле – начатом в 1962 году повестью Солженицына – Шолохову делать было нечего. Он вошел в него, выполнив свою жизненную задачу (сумев подчинить себе подцензурную печать) на излете цикла предыдущего, вошел уже целиком советским человеком и писателем – исказив самого себя в процессе мучительной борьбы за предание «Тихого Дона» печати в неискаженном виде, и, как в некоем фантастическом романе, не имея возможности вернуться в свой прежний облик.
Здесь снова стоит напомнить о разнице поколений. Слова Пастернака в письме к О. Фрейденберг от 4 февраля 1941 года —
«Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. И все это остается невыраженным»,[398] -
это не след случайной эмоции, а отчетливое самоощущение, глубоко препятствующее работе. Если смотреть на эти строки, не совмещая свой взгляд со временем их писания, а ретроспективно, сквозь призму «Доктора Живаго», то мы увидим, что роман и стал выражением того, что в 1941 году томило «невыраженностью».
Пастернаку – не по его вине – не удалось открыть своим романом новый период, но история его публикации и Нобелевской премии стала стимулом и точкой отсчета для Тамиздата (Самиздат заработал раньше). Премия была воспринята как оценка творчества и последних перипетий биографии целокупно – и все это повторилось потом с Солженицыным. Советская власть тупо повторила историю с Пастернаком: исключила Солженицына из Союза писателей, ославила решение Нобелевского комитета, и если Пастернаку пригрозила высылкой, заставив отказаться от премии, то Солженицына выслала.
Нобелевская премия Шолохову оказалась единственной из трех, резко отделившей творчество (причем только одно произведение) от личности и биографии.
Солженицын, взлетевший со своей первой повестью на невидимом токе горечи, курившемся в обществе после пастернаковской истории и смерти замученного «члена Литфонда» (как гласило официальное сообщение о смерти),[399] не эксплицирует (не позиционирует, как сказали бы сегодня) себя как советского писателя – но и никак себя не противопоставляет в это первое время советской печати. Он стремится размыть советское, дать некое новое измерение литературному процессу – движению русской литературы.
Рукопись его повести (по рассказам очевидцев, сотрудников редакции «Нового мира», нечитаемая – на плохой бумаге, с двух сторон листа, через один интервал на плохой машинке – типичный самотек, с подозрением на изделие графомана[400]) возникает откуда-то, из лагерной тьмы, из закрываемого уже к тому времени (годы «оттепели» бежали – и пробежали! – быстро) от глаз читателя в оглашаемой словесности пространства. Именно в повести об Иване Денисовиче это пространство впервые предстало как бескрайнее, охватившее полстраны.[401]
Рукопись романа Пастернака возникала из более или менее известного литературного континуума «Переделкино». В литературной среде «все» знали, что Пастернак пишет роман, многие его читали. Дальнейшая история романа и премия – это было некое продолжение прерванного прошлого, хотя и поразившее всех.
Солженицын явился весь новый, с уложившейся в две строки биографией. Его допечатные мысли о загранице (см. ранее) клонились к тому, что надо уехать и там все напечатать и все огласить. Однако после публикации «Одного дня Ивана Денисовича» (сегодня следует уже напоминать, какой неожиданностью была поддержка Хрущева для редактора журнала и для автора, а ставшая результатом этой поддержки публикация – для нас, тогдашних читателей) он настроен уже на здешний, подцензурный литературный процесс: войти в него, чтоб его разрушить. Доведя повесть до печати, он открывает ею новый период – в повести слились все три потока русской литературы: она пришла из рукописного, попала в отечественный печатный и легко соединилась с неподцензурным зарубежным.
И все же именно Нобелевская премия, присужденная Пастернаку и практически стоившая ему жизни, прорубила окно в новые литературные условия. Они не стали новым временем – только новым циклом литературного процесса все того же советского времени. Но жесткие условия прежнего, первого цикла были необратимо разрушены. Внутри литературного процесса теперь шла подготовка к концу самого советского времени.
ЯЗЫК РАСПАВШЕЙСЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
материалы к теме
1
После романа Оруэлла (1949) и работ Ханны Арендт стало более или менее общеизвестно, что тоталитарная власть создает свой язык, который навязывает обществу. Этот специально созданный язык способствует ее самосохранению и укреплению. Вслед за Оруэллом, введшим термин newspeak, его стали называть новоречью, или новоязом. О нем писали применительно к гитлеровской Германии, к «социалистической» Польше и к советскому обществу.
Применительно к Советскому Союзу все далее сказанное будет относиться к публичной речи советского времени, то есть к периоду с конца 1917 года до конца 80-х. Это речь письменная (в первую очередь – газетные статьи, репортажи, очерки и т. д., а также соответствующие жанры в журналах) и устная – в официальных ситуациях (выступления на собраниях, так называемых советских «митингах» и проч.). В гуманитарной сфере эту речь (во всяком случае ее фрагменты) можно было слышать и на научных конференциях по истории, истории литературы и другим дисциплинам гуманитарного цикла, считавшимся «идеологическими», отчего их язык был пронизан советскими элементами.
Таким образом, мы говорим не о разговорной речи в приватной обстановке, а об устной форме той же самой речи, которая предстает перед нами в форме письменной. Это те хорошо знакомые людям советского времени тексты, которые с определенного момента жизни советского общества (далеко не сразу) читаются только по бумажке официальным, номенклатурным лицом или оратором рангом пониже (как «Клим Петрович Коломийцев – мастер цеха, кавалер многих орденов, член бюро парткома и депутат Горсовета» из песен Галича). Разница будет лишь в том, что при устном произнесении появляется материал для орфоэпических наблюдений. Различий же в лексике и синтаксисе нет – по крайней мере, с определенного времени, с момента стабилизации официозной публичной речи, их не должно было быть.
Тексты на этом языке[402] буквально в течение трех дней Августа 1991 года потеряли свою коммуникативную функцию и превратились в памятники завершившейся цивилизации – как только была потеряна их властная функция. Всего пятнадцатью годами ранее эта лексика описывалась как нечто общепризнанное, респектабельное и незыблемое:
«Международное распространение получили не только отдельные слова, но и такие словосочетания, как Советское государство, Советская власть, социалистическое строительство и т. п. Общественно-политическая фразеология обогатилась рядом других словосочетаний, которые стали общим достоянием языков народов, строящих новое общество: социалистический труд; бригада коммунистического труда, ударник коммунистического труда; социалистическое соревнование, социалистическое обязательство; юные ленинцы (о пионерах); блок коммунистов и беспартийных (на выборах) и т. п. Ср. также названия праздников ‹…›, названия других (крупных, ставших традиционными) мероприятий (Декада искусства и литературы республики, Неделя кино, Месячник дружбы, слет передовиков производства и т. п.)».[403]
Этот огромный языковой пласт рухнул в одночасье, обнажив отсутствие реальных денотатов в большинстве слов и словосочетаний. Взглянув на обширную цитату, можно понять радикальность изменений лучше, чем из любых рассуждений.
Начиная с тех трех дней так уже больше не писали.[404] Мало того. Еще до Августа, с первых лет «перестройки» (во всяком случае с 1987 года) на многих созданных до этого времени текстах, которые не были сугубо официозными, а даже скорее с либеральной интенцией, стало проступать советское тавро – в виде характерных и компрометирующих авторов слов и словосочетаний.[405] Но после Августа это происходило уже стремительно. Само слово «социализм» потеряло свой привычный – совершенно неопределенный, но будто бы общепонятный – денотат.[406] На фоне новых социальных явлений печатные тексты прежнего официозного типа, лишившись силы, на глазах теряли свое значение, становясь текстами одной газеты «Правда» и действенными лишь в глазах члена компартии.
Падение советского языка, как и само падение советской власти, произошло неожиданно – так же неожиданно, как началось и пошло с нараставшей силой за пять с лишним лет до этого раскачивание того и другого.
2
Еще в 1985-м этот язык изучали (разумеется, за пределами отечественной подцензурной печати) как функционирующий в качестве языка власти, вне какого-либо предположения о конце данной ситуации. Будучи давно семантически опустошенным, он оставался действенным на всем пространстве страны. Действенность в узком смысле была высокой – несколько строк написанного на этом языке текста могли изменить судьбу человека; это был аналог приговора:
«Советский политический язык не столько называет и определяет явление, сколько разоблачает и осуждает. “Отщепенец”, “оппортунист”, “аполитичность”, “отребье” – это уже приговор, приводимый в исполнение в соответствии со статьями уголовного кодекса».[407]
Но как раз непосредственно вслед за вышеназванной констатацией, с конца 80-х, началась «перестройка», повлекшая за собой и перестройку публичного языка – начиная в первую очередь с устной его формы. Прежняя устная официозная речь самых высоких уровней – т. е. с первых партийных трибун – в первый же год «перестройки» оказалась под сомнением. Наиболее явным выражением этого служила речь генерального секретаря (а за ним и его окружения), ставшая действительно устной – она не зачитывалась по бумажке, как это было в течение последних десятилетий,[408] а произносилась по видимости спонтанно.[409]
В вышеупомянутые августовские дни исчезли (позже возобновились – но уже в ином формате) все площадки для публичного высказывания тех, кто хотел продолжать говорить на советском языке, – подобно тому, как в начале 20-х исчезли площадки для тех, кто хотел продолжать говорить публично на несоветском языке (подробней об этом – далее).
С начала 90-х возрос интерес лингвистов к «языку конца ХХ века».[410] Однако в самом выдвижении в качестве объекта изучения периода с такими неопределенными границами закладывалось размывание и даже стирание важнейшей исторической вехи – Август 1991 года. Между тем он отделил советский период от постсоветского с не меньшей определенностью, чем Октябрь 1917 года отделил правовое российское государство от пришедшего ему на смену советского, управляемого в соответствии с «революционным правосознанием».
Лингвисты точно фиксируют сами конкретные языковые процессы конца века, но недостаточно, возможно, принимается во внимание резкая перестройка всего языкового поля – в связи с концом особого положения в нем официальной публичной речи, устной и письменной.
Задавая вопрос – «Продолжает ли существовать новояз, или он уступил место иным формам языкового общения?», социолингвист отвечает на него так:
«Наблюдения показывают, что новояз не сразу сходит со сцены. Многие люди еще не смогли порвать его путы и начать говорить и писать свежим языком. Рефлексы новояза, особенно из сферы фразеологии, расхожих формул, лозунгов, призывов, цитат не сходят со страниц газет, с экранов телевизоров»[411] (книга, напомним, вышла в 1996 году).
Но все же путы «новояза» порваны в дни Августа и даже раньше. «Рефлексы» – это совсем иное, чем «путы».
Для нашего локуса более естественно называть элементы того языка, о котором мы будем говорить, советизмами.[412]
I. Речевая жизнь первых советских лет