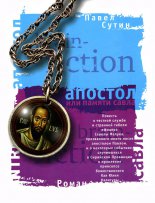Новые работы 2003—2006 Чудакова Мариэтта

ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге – работы последних трех лет, главным образом историко-литературные (конечно, не все из написанных), поэтому не включена, скажем, большая статья «В защиту двойных стандартов» (НЛО. № 74. 2005), как и многочисленные, к сожалению, статьи, относящиеся к публицистике, на которую трачу время исключительно из чувства долга.
Но последний раздел состоит из двух статей скорей уж исторического – или историко-мемуарного – характера. Они – о том фоне, на котором происходят литературные события, как работа «Язык распавшейся цивилизации» – о речевом контексте литературы советского прошлого.
Основной материал сборника – литература закончившейся цивилизации – советской. Статьи так или иначе связаны с работой автора над историей литературы этого времени: описанием литературного процесса, протекавшего до конца 1980-х годов в условиях, радикально отличных как от отечественной ситуации 1900-1910-х годов, так и от условий жизни зарубежной русской литературы 20-80-х. Статьи писались для разных сборников, разных читателей, и порою необходимо оказывалось повторить кое-что уже сказанное в другом месте. Не все такие повторения удалось убрать; надеюсь на снисхождение читателя.
Мы выделяем в истории русской отечественной литературы советского времени два цикла – 1-й начался после Октября 1917 года и декрета о печати, резко изменившего условия жизни и бытования словесности, и завершился в начале 40-х, когда внутри самой литературы возникло сильное тяготение к восстановлению нормальных условий развития – объединению трех разделившихся начиная с середины 20-х и совершенно обособившихся к середине 30-х ее ветвей: отечественная печатная, отечественная рукописная и зарубежная русская литература.
По нашему счету (об этом в предшествующих работах) было три попытки слияния. Первая – в начале 40-х годов – не удалась: роман «Мастер и Маргарита» остался в рукописи, как и половина повести Зощенко «Перед восходом солнца». Вторая попытка была сделана в 1945-46 годах усилиями нескольких литераторов на инерции победы в войне – и пресечена докладом Жданова. Литература застыла на семилетие – единственное за советские годы время остановки литературной эволюции в печатном литературном процессе. Работа же над рукописями шла бурно – в том числе над двумя значительными романами (Б. Пастернака и В. Гроссмана), так и не выбившимися в эти годы на поверхность отечественной печати. Третья, удачная попытка совпала с «оттепелью» и привела к расцвету Самиздата и к печатанию в 1962 году «Одного дня Ивана Денисовича». Оно обозначило соединение трех разъединенных ветвей. Но открывшаяся возможность осталась нереализованной в силу фундаментальных факторов, действовавших с 1917–1918 годов. Самиздат дополнился Тамиздатом, и начался новый, 2-й цикл, продлившийся до конца советского времени. Роман «Доктор Живаго» встанет на рубеже двух циклов, роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» будет полностью принадлежать циклу новому – его автор, человек другого поколения, чем Пастернак, уже не решает главный вопрос 1-го цикла и людей «первого» (рождения 1890–1899 гг.) поколения – «что произошло?» Он силится постигнуть – «что есть», в какой стране он живет.
Это наше представление о литературном процессе советского времени положено в основу статей, представленных в сборнике.
Александр Павлович Чудаков, однокурсник на филфаке МГУ, ставший в студенческие же годы моим мужем, всю жизнь оставался для меня научным руководителем. Широта его научного кругозора значительно превосходила мой, его советы и поощрения были для меня бесценны.
Когда-то «Новый мир» напечатал стихотворение Б. Ахмадулиной «Ремесло»; я прочитала ему первую строфу и сказала, что это – про меня. Он был тронут. Этими строками я и предваряю сборник, посвященный его памяти.
I
РАЗВЕДЕННЫЙ ПОЖИЖЕ
Бабель в русской литературе советского времени
Юз Алешковский, «Личное свидание» (1963)
- Дежурные в глазок бросают шуточки,
- кричат зэка тоскливо за окном:
- «Отдай, Степан, супругу на минуточку,
- на всех ее пожиже разведем».
1
Некий парадокс видится в том, что в первые советские годы литература сделала крупный шаг от тенденциозности – к словесности как таковой, от второй половины ХIХ века с ее грандиозными идеологическими романами, во-первых, и от символистской прозы (от которой требовал уйти Мандельштам), во-вторых, – к допсихологической пушкинской прозе, с ее ненагруженностью идеологией, с острой фабулой, динамичностью повествования, краткостью фразы, исчислимостью и минимализмом деталей.
На самом деле парадокса нет. Мощная инерция литературной эволюции еще не была погашена социальным давлением. А вектор литературной эволюции с 1900-1910-х годов указывал в сторону от психологизма, философичности, идеологизации – атрибутов большой формы ХIХ века. Что именно делать с этим багажом, который хотели отпихнуть в ушедший век, было уже в какой-то степени известно: его избитость понял и даже показал своим опытом Чехов.
Стремление оттолкнуться от ближайшей традиции – символистского романа – повело ко второй (после чеховской революции) победе малой формы (рассказ Зощенко, затем Бабеля). Но литераторы 1920-х годов не стояли лицом к лицу с символистским романом как непосредственным предшественником. Между ними был Бунин, проделавший особенно большую работу за последнее досоветское десятилетие. Он-то, собственно, и повернул первым в сторону Пушкина, попав в мейнстрим литературной эволюции и многократно усилив ее инерцию.
«Эстетическая ценность художественного произведения и смысловая не одно и то же, – напишет в 1931 году П. Бицилли. – ‹…› И Толстой, и Достоевский больше и ценнее Пушкина. Но после Пушкина и Гоголя не было в русской литературе писателя совершеннее Бунина. ‹…› Так цикл развития русской литературы, начинающийся для нас с Пушкина ‹…›, замыкается Буниным».[1]
Впоследствии участие Бабеля в литературном процессе советского времени так сложно переплелось с бунинским влиянием, что вынуждает остановиться на феномене Бунина.
В начале века перед русской прозой встали несколько задач.
Во-первых, остро актуальной стала смена героя– застрявшего в литературе на семьдесят с лишним лет лишнего человека. С внутренним литературным давлением соединилось давление новых социальных явлений: «народ», активно и выразительно проявивший себя в событиях 1905–1906 годов, особенно в деревне (разгромы усадеб и зверские убийства их обитателей), безмолвно, но настоятельно требовал от писателя разгадки своей тайны, просясь в литературные герои.
Второй, столь же актуальной стала сугубо речевая задача. Литературная письменная речь требовала обновления. За границей книжного листа бурлила живая, полная энергии устная простонародная речь, выдвинувшаяся как проблема вслед за актуализацией загадки народа.
В-третьих, наконец, необходимы были новые средства изобразительности взамен или в дополнение к отработанным.
Когда много лет спустя, в 1928 году, Г. Адамович предлагал русской прозе искать новые пути, обратившись к опыту французов, которые «в среднем» пишут «лучше нас», и, в частности, понять вслед за ними, «что нельзя без конца ставить ставку на внешнюю изобразительность и что здесь уже в конце прошлого столетия был достигнут некоторый „максимум“»[2] – он, по-видимому, просто забыл, что до этого «максимума» русские дошли много позже французов.
В 1910-е годы его быстро достиг один Бунин, поразивший русского читателя необычным для отечественной литературы вниманием к цвету[3] – сначала в поэзии, потом в прозе.
К. Чуковский в статье 1915 года восклицал: «Знали ли мы до него, что белые лошади под луной – зеленые, а глаза у них – фиолетовые, ‹…› а чернозем – синий ‹…›?» Глаголы у Бунина «выражают не действия вещей, а их колеры» – алеть, синеть, розоветь.[4] (Запомним эти наблюдения – они пригодятся нам в связи с Бабелем.) Любую вещь, какая «попалась ему под перо», Бунин вспоминает «так живо ‹…› со всеми ее мельчайшими свойствами, красками, запахами, что кажется, будто она сию минуту у него перед глазами и он пишет ее прямо с натуры».
Но помимо «изощреннейшего зрения» у Бунина обнаружился, по наблюдениям критика, особенно в последнее время, «изумительно чуткий слух»: краски отступают – «художническое внимание ‹…› сосредоточивается на речи изображаемых им крестьян и мещан».
Дело, конечно, не в слухе самом по себе и не в памятливости на устную речь, а в попытках преобразования нарратива, – в него вводятся устные реплики («причуды этой речи, ее оттенки, изгибы и вывихи») таким именно способом, который приковывает к ним внимание, заставляет запоминать. Чуковский совершенно точно назвал здесь всего двух «старших мастеров народной речи»[5] – Николая Успенского и В. Слепцова – в первую очередь с его «Питомкой». Заметим – названы не Тургенев и не Толстой! Не у них, а именно у двоих из «шестидесятников» (добавим – если изъять из рассуждения Гоголя c его особым местом в русской литературе) объявилось новое качество. Сформулируем его так: реплики героев стали запоминающимися цитатами – как строки из «Горе от ума» (каждый, кто читал «Обоз» Н. Успенского, не мог не запомнить и не приводить к случаю: «К примеру, ты будешь двугривенный, а я – четвертак: так слободней соображать»).
Бунин только подошел к этой новации в русской прозе. Одним из главных признаков его манеры осталось все-таки предельное использование возможностей русской письменной речи, столь отличной от устной.
Другой признак – предельная же степень усилия передать зрительный облик предметного мира, в некоем подспудном соревновании с живописцами. Эта, третья из очерченных нами задач решена Буниным в полном объеме. Он сделал шаг от Чехова – в ту сторону, по которой двинется потом Бабель.
Шагнем же назад, к Чехову, а затем забежим вперед – чтобы показать последующее.
Вдумчивый, обладавший тонким вкусом, но скованный инерцией советской эстетики критик, приводя фразу из «Мужиков» Чехова: «Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх» – рассуждал:
«Да, очень живописны и необычайны красные овцы и розовые голуби в дыму, если думать только о цвете, но это картина несчастья, и это первое, главное, о чем забывать никому не позволено».
Цвет не живет отдельно – он «делит судьбу явлений, обладающих им».[6]
Бабель убирает того, кто видит, и его ужас, – и остаются красные овцы и розовые голуби, увиденные неизвестно кем среди несчастья.
Или описание заката у Чехова и Бабеля:
«Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета ‹…›. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток… И подпасок, и гуляющие господа – все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота».[7]
Это и многие другие чеховские и бунинские описания втянуты в бабелевские:
«И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела» («Путь в Броды»).
После первой фразы – как будто идет проигрыш без слов, который можно было бы вербализовать таким примерно образом: «Теперь вспомните все, что вы знаете о закате и что вы помните из его описаний. Так вот, его кипящие реки…».
Вернемся к Бунину. Г. Адамович писал в 1928 году, что
«поздние его вещи, после „Господина из Сан-Франциско“, – исключительно четкие, безошибочно выразительные по внешности и все-таки куда-то дальше рвущиеся, как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства…».[8]
Выделенные нами слова подтверждают: проза Бунина, в разных отношениях достигшая предела, стала пиком расцвета определенной манеры и, естественно, первой точкой ее упадка.[9]
Бунин коснулся и разгадки народа – в тех рассказах нового толка, на которые обратил восторженное внимание критик-современник:
«Ночной разговор» «сильно взбудоражил читателей», едко высмеивая «иллюзии народников об идиллическом, благодушном народе ‹…› народолюбец-барчук вдруг обнаруживает, что те „мужики“, о сближении с которыми он так пылко мечтал, чуть ли не поголовно убийцы, „живорезы“, злодеи – закоренелые, но с виду добродушные».[10]
Один из персонажей «Деревни» пересказывает рассказ другого:
«"… Там этих проституток – видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! ‹…› дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой… То-то смеху было!" Заметь! – строго крикнул Кузьма, останавливаясь. – „То-то смеху было!“».[11]
Здесь уже мерещатся герои «Конармии».
Словом, Бунин полностью взрыхлил почву, подготовил материал для Бабеля – чтобы тот спустя десятилетие стянул все это железными обручами своей короткой новеллы.
2
В начале 1920-х годов дореволюционная русская литература стала непереводимой на язык нового массового читателя, а сегодняшние «Ивановы и Петровы» (Б. Эйхенбаум) еще не могли стать материалом для литературы, так как провоцировали описание в старом духе: не удается создать подлинник, оригинал новой русской литературы (одно из объяснений тогдашнего засилья переводов).
В 1922 году в статье «Литературная Москва: Рождение фабулы» Мандельштам стремится предложить, выражаясь по-сегодняшни, проект текущей прозы – оторвать ее от русской беллетристической традиции, выродившейся, на его взгляд, к началу ХХ века в психологическую и бытописательную прозу «Андреева, Горького, Шмелева, Сергеева-Ценского, Замятина». Это о ней напишет в 1924 году Шкловский в первой статье о Бабеле, вспоминая его дореволюционный дебют в горьковской «Летописи»:
«Журнал был полон рыхлой и слоистой, даже на старое сено непохожей беллетристикой. В нем писали люди, которые отличались друг от друга только фамилиями».[12]
Что это за традиция? Это традиция романа второй половины ХIХ века и прозы символистов. Конечно, ни Толстой, ни Достоевский не создали стандарта – стандартизован был в первую очередь тургеневский роман.
Мандельштамом провозглашены:
1) отказ от бытописи;
2) отказ от психологизма (знаменитое сравнение, объединяющее их, как каторжника с прикованной к нему тачкой);
3) акмеистическая жизнелюбивая обращенность вовне – в противоположность и психологизму, и, как ни странно, – бытописи, поскольку ее традиционные формы навевали не жизнелюбие, а скуку (ср. отзыв М. Булгакова 1922 года о традиции, сложившейся к началу ХХ века). Восприятие внешнего мира как яркого, залитого солнцем, а не сумрачного и хмурого «петербургского» мира Достоевского и символистов;
4) любая динамика, экспрессия – от фабульной остроты (которую в плохо переведенном Брет-Гарте Мандельштам предпочтет психологии всех литераторов 1900-х и 1910-х, от Л. Андреева и Горького до Замятина) до интенсивной, выделенной детали. Все эти требования, заметим, Мандельштам разделяет с формалистами.[13]
Предпочтение плохого перевода означало предпочтение фабулы и детали – красотам повествовательной техники: и отлившемуся в готовые формы повествователю русского романа «в третьем лице» (тургеневский стандарт), и охотно разрабатывавшемуся в начале 1920-х сказу.
Давно ставшему визитной карточкой русской литературной традиции умелому описанию готовых, известных вещей быта (так сказать, утвари) предпочитается новый материал. В противовес автоматизованной бытописи выдвигается фольклор – накопление и закрепление «языкового и этнографического материала».
Бабель будто специально «взял подряд» (по слову Зощенко) на заказ Мандельштама. Но началось это еще до известности Бабеля – тенденция стала очевидной на других, значительно более блеклых образцах.
«Дореволюционнная русская литература была статична, бесфабульна, отягощена психологическим анализом, философским раздумьем. Литература молодая, возникшая в годы революции, динамична, фабульна, психологический анализ в ней почти отсутствует».[14]
Вернемся к «заказу» Мандельштама, к «языковому», или речевому фольклору. Им был анекдот, строка городского романса, уличная ругань, «разговорчики» (Мандельштам) – все то, что было вокруг писателей всегда (устная речь как «ближайшие» к литературе ряды, по определению Тынянова), но – этот «фольклор не стремился закрепиться и пропадал бесследно» (Мандельштам).
У Бабеля таким этнографическим материалом стали евреи Одессы, причем минимализм материала был формообразующим признаком. Одна точно «подслушанная» реплика стала аналогом фабульной интриги – это сохранится до 1930-х годов: в рассказе «Ди Грассо» одна реплика мадам Шварц («Что я имею от него… сегодня животные штучки, завтра животные штучки») соперничает с традицией многостраничных философических диалогов, поучительных для читателя. Минимализм и здесь стал новым и важным качеством, обрушивая эту традицию.
Спор о фабульности, начатый главным образом Л. Лунцем в знаменитой статье «На Запад!», сложным, но безошибочным построением выводил к гораздо более общей для России и ее культуры проблеме секуляризации искусства. Лунц стремился, с единственной в своем роде последовательностью, разрушить глубинный слой связей русской литературы с идеологическими заданиями – и тем обезопасить ее от прямого и давящего воздействия социума. С большой интуицией Лунц указал (и угадал), что развитие «советской», тенденциозной прозы пойдет именно в русле вялофабульной «психологичной» русской романической традиции – хотя именно в ранние двадцатые могло казаться, что советский официоз настроен на решительное ее прерывание, поскольку он был заинтересован в том, чтобы прервать крупный разговор о бытии, заведенный великими русскими романистами второй половины ХIХ века и подхваченный Андреем Белым. Но в том и дело, что (говоря по необходимости бегло) телеология новой власти целила дальше и глубже ближайших целей: разрушая, она уже искала опору (в том числе и ведя сложную литературную политику), рассчитывая укрепиться надолго.
Проза Бабеля наконец-то разрушила идеологичность русской традиции[15] – никакой острой фабульности она при этом, заметим, не предложила.
Пересказ фабул рассказов Бабеля всегда затруднителен, а порой невозможен. Острая фабула поместилась у него в границах отдельной фразы:
«Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей»;
«Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим»;
«Начальник мигнул мужику, тот поставил на пол фонарь, расстегнул убитого, отрезал ему ножиком половые части и стал совать в рот его жене».
Слово «ножиком» и несовершенный вид глагола («стал совать») – эквиваленты (но отнюдь не конспекты, нуждающиеся в расшифровке!) целых глав.
Это, так сказать, примеры нового жанра – острофабульной и сложносюжетной фразы. Плотность и тяжесть повествующей фразы, а также «фольклорной» реплики героев, близкой к анекдоту («Маня, вы не на работе, – заметил ей Беня, – холоднокровней, Маня…» – «Король»; «“Облегчили, значит, старика?” – “Был грех”» – «Конкин»), стала одним из самых главных новых качеств. Такую фразу стало можно перечитывать, рассматривать и цитировать. Она запоминалась наизусть – как стихи[16] или анекдот, попадала в живой речевой читательский обиход, что не было, повторим, свойством русской прозы, особенно второй половины ХIХ века.
Новое качество, внесенное в литературу Бабелем и Зощенко, показало возможности сближения русской прозы с поэзией – не на путях ритмизованной прозы, а на сугубо «прозаической» основе.
Проза Бабеля была столь плотной и потому увесистой, что его рассказ составил серьезную конкуренцию жанру романа – фундаментальной опоре русской повествовательной традиции.
3
Итак, вектор литературной эволюции в начале 1920-х годов отвернут от традиции большого «психологического» романа: «Петербург» Белого, в ускоренном темпе сыграв свою эволюционную роль к этому моменту, рассматривается как «символизированный» вариант классического романа. Этот вектор указывает в сторону первой половины ХIХ века, причем одновременно в направлении двух глубоко различных явлений: пушкинской прозы, о чем уже шла речь в начале статьи, и Гоголя – с укрупненной, как под увеличительным стеклом, деталью, разрастающейся до гротеска с его яркостью, живописностью, нарядностью. Гротеска, издавна заглушенного натуральной школой: самим же Гоголем во многом порожденная, она заменила гоголевский гротеск «физиологией Петербурга», то есть той же бытописью.
Святополк-Мирский настойчиво выделяет три рассказа Бабеля 1923 года («Король», «Письмо» и «Соль»), считая их «совершенством», среди прочего,
«по сложности конечного результата, в котором изумительным образом сведены в какое-то новое единство героический пафос, грубый реализм и высокая ирония».[17]
Шкловский вспоминал о Бабеле 1918–1919 годов:
«Он один сохранил в революции стилистическое хладнокровие. ‹…› Он оказался человеком с заинтересованным голосом, никогда не взволнованным и любящим пафос».[18]
Пафос как акмеистический восторг перед вещественной, предметной яркостью зримого облика мира – быть может, важнейшая черта поэтики Бабеля. При описываемых ужасах – жизнерадостная энергия повествования, возбужденная авторским чувством свободы, раскрепощенности от тесных рамок целомудренной русской литературной традиции.
Борис Владимирский в своих тонких интерпретациях Бабеля удачно выделил синтагму из пародии А. Архангельского – «ликуя и содрогаясь» (и так и назвал сборник Бабеля со своими вступительными статьями к разделам[19]).
Для подступа к современному (или недавнему послереволюционному) материалу была необходима особая фигура писателя, не связанного – идеологически, словесно-тематически – с мейнстримом прошлого России.
«У Бабеля много данных, чтобы найти художественное оформление стремлениям нашей эпохи, – писал П. С. Коган. – Он еврей. И может быть, в этом основной источник тех особенностей его творчества, которые привлекли к нему внимание и критической мысли, и читающей публики. Он не знает никаких традиций, он не прикован цепями (! – М. Ч.) к шумящим лесам и зеленым полям, как Есенин, он не связан корнями с вековыми обычаями и преданиями крестьянства, как Леонов, не помнит о допетровской Руси, от обаяния которой не может уйти Пильняк. ‹…› Он смотрит на развертывающуюся перед ним картину жизни свежим взглядом. Ему не приходится делать усилий, чтобы сбросить с себя груз прошлого. Он проходит свой литературный путь без внутренних трагедий и противоречий, в которых билось сознание Блока, Есенина, Брюсова и других поэтов, в чьей груди сталкивались вихревые течения двух миров – отходящего и будущего».[20]
Итак, Бабель освобождал прозу, во-первых, от «психологии» и рефлексии – и автора, и героев, во-вторых, от преемственности позиции повествователя-соотечественника. «Национальный материал», с трудом входивший в современную литературу,[21] вводился как бы через восприятие человека, впервые с ним столкнувшегося. И в-третьих – новым качеством, привнесенным именно им в русскую литературу ХХ века, становится устная реплика (не монологи персонажей, как у Бунина, – скорее шаг назад к «шестидесятникам»), держащая весь рассказ и рассчитанная на то, чтобы остаться в памяти читателя.
«Стиль Бабеля идет, несомненно, в значительной мере от французских прозаиков, в первую очередь от Флобера»,[22] – уверенно писал в 1926 году А. Лежнев. Приводя далее примеры («Картины были написаны маслом на тонких пластинках кипарисного дерева. И патер увидел на своем столе горящий пурпур мантий…», «Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща…», «В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя…»), он давал любопытную интерпретацию генезиса и характера бабелевского повествования:
«Интересно, что здесь у Бабеля сохранена мелодия французской фразы. Эта особенность обычно свойственна переводам средней руки, где ее следует считать скорее недостатком, так как она говорит о том, что переводчик не сумел найти для чужеязычного оборота достаточного эквивалента в русской речи. Тургенев этого избегал и в переводах флоберовской “Иродиады” и “Юлиана Милостивого” старался французскую прозу так транспонировать на русский язык, чтобы ритм и мелодия фразы приобретали уже чисто русский характер. Вот эта несвобода и недостаточность транспонации чувствуется у Бабеля, – у нас получается впечатление, будто он стилизует русские переводы Флобера. Я это говорю не в упрек Бабелю. Писатель волен отталкиваться от любой точки. Бабель взял стиль средней руки перевода с французского и умелой обработкой его достиг неожиданного и ослепительного эффекта. Несвободу транспонации – это свидетельство недостаточного умения и бедности – он превратил в сознательный прием, вполне приспособленный для достижения нужного результата (он придает прозе оттенок торжественности и пышности)».[23]
Хотя именно Чехов отчетливо продемонстрировал то самое охлажденное, нейтральное ко всему описываемому отношение повествователя, которое у Бабеля доведено было до предела и получило чеканное определение критика: «Смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит о звездах и о триппере»,[24] – этот прием пришел в прозу 1920-х годов, уже пропущенный через увеличительное стекло французской прозы ХХ века. Чеховские «сумеречность», умеренность в описаниях уступили место бунинскому укрупненному, живописному, колористическому видению детали.
Цитируя Шкловского – «… одним голосом говорит о звездах и о триппере», А. Мэрфи резюмирует:
«… Невозмутимость перед лицом всех несообразностей, жестокостей и красот жизни была одним из главных орудий в арсенале Бабеля, и он пользовался им на протяжении всей своей писательской карьеры».[25]
Эффект описаний «ужасов» -
«скорее лирический, комический или элегический, нежели шокирующий или вызывающий отвращение».[26]
«Чисто человеческие и нравственные качества приписываются предметам, в манере, напоминающей классиков.
«Несмелая заря билась над солдатскими овчинами», «… Послушные пожары встали на горизонте»».[27]
Тут важно было бы подчеркнуть, что эпитет – один.
«Ненавижу, как ты пишешь! – говорил Бунину Куприн. – У меня от твоей изобразительности в глазах рябит».[28] Вот Бабель и проредил эту слишком плотную бунинскую изобразительность как морковку на грядке (и, как попытаемся пояснить дальше, этим перетянул к себе его подражателей). У него вообще нет изобразительности как узнаваемости (в отличие, скажем, от Олеши).[29]
У французской прозы ХХ века искали писатели 1920-х годов смелости описаний, разрушения полутонов и привычного целомудрия русской литературы, теперь уже «неуместного», умения в упор взглянуть на бренное, чудовищное и, казалось, неописуемое. Она помогала уйти от идеологичности – что еще допускалось социальным регламентом первых советских лет, но было нелегко для писателя русской традиции.
Манера Бабеля быстро, можно сказать – молниеносно – находит подражателей.
В апреле 1925 года очень хваткий и переимчивый Вл. Лидин пишет рассказ «Салазга», где уже, всего год спустя после восхождения звезды Бабеля на русско-советском литературном небосводе, нагло плагиирует его стиль и, возбуждаясь от удачной кражи, даже запутывается в синтаксисе.
Описываются похороны погибшего в боях, кажется.
«Федины руки, знавшие и холодную жесткость винтовки, и бессмертную мягкость женской груди (sic!), женщина перекрестила его и поцеловала в высокий многоречивый (форменный Бабель!) лоб, и вдвоем понесли мы оттуда его на рогоже на монастырское кладбище»;
«Я встал возле Феди в последний раз на колени и поцеловал его руку, попорченную крысами, и лоб неизъяснимой белизны, и сказал ему…».[30]
Здесь и характерные оксюморонные эпитеты, и «аввакумовский» синтаксис.
Но «настоящее» использование идет небольшими, но необходимыми дозами:
«Всю жизнь Ивана Семеновича Пронина мучили жулики. Они преследовали его всюду – эти искатели дарового изобилия. Они ползли на него пешим строем и были похожи на голодную бескрылую саранчу. Они проникали через проходную завода, входили в новый трехсветный цех и нагло становились рядом с ним».[31]
Начало повести эксплуатирует привитую Бабелем черту.
«Медленно, обходя разбросанные по полу крупные детали, Гришка шагал и носком правой ноги завертывал внутрь, как делают конькобежцы при поворотах. Черный берет реял над его полным и немного бледным лицом».
«Шел четвертый месяц установки маховика.
С крыш сорвалась первая капель, отбивая черные линейки на снежных еще тротуарах. В листопрокатку скудно проникало солнце; лучи его синели и курились дымом сгорающего масла».
«По чугунным плитам пола прямо к нему шел высокий человек в распахнутой шинели. Длинные полы кавалерийской шинели шевелились тупыми складками, как приспущенное знамя на ветру. Человек улыбался, вспыхивая стеклами очков».[32]
Конечно, у Н. Русина (не оставившего дальнейшего следа в литературе) все это сдобрено психологизмом.
В середине 1930-х годов пишет новеллы и короткие повести Н. Атаров (которому суждено будет в 1950-е годы занять заметное место в печатной литературе и официальной литературной жизни). Один из рассказов описывал 1919 год (известный автору, родившемуся в 1907-м, по большей части литературно) в Петрограде.
Напомним сначала рассказ Бабеля 1932 года «Дорога». В восемнадцатом году из Киева едет поезд.
«Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.
– Документы об это место…
‹…› Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.
Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо. За спиной телеграфиста топтался сутулый, большой мужик в развязавшемся треухе. Начальник мигнул мужику, тот поставил на пол фонарь, расстегнул убитого, отрезал ему ножиком половые части и стал совать их в рот его жене.
– Брезговала трефным, – сказал телеграфист, – кушай кошерное».
Обратимся к рассказу Н. Атарова.
«Ночью под новый год пришли сообщения о взятии красными войсками Екатеринослава. Коммунисты с утра были мобилизованы на митинги ‹…› редактору Ланговому поручили загородный Охтенский завод. ‹…› Корректор Рачков, заменявший в поездках кучера, подхлестывал отощалую лошадь. ‹…›
– Гляди: недобитый, – сказал Рачков, показывая в глубь леса.
Высокий старик в городском пальто и мягкой пуховой шапочке стоял под соснами в нехоженом лесу и смотрел в бинокль на рябины, теснившиеся на опушке.
Расстегнув на ходу кобуру нагана и выпрыгнув из коляски, Ланговой приблизился к подозрительно нелепой и неуместной фигуре горожанина, но тот даже не оглянулся, увлеченный своими странными наблюдениями.
– Эй, гражданин, давай-ка сюда, – сказал Ланговой.
– А что вам угодно? – с вежливой улыбкой отозвался старик. ‹…›
– Ты в какую зону забрел, ты знаешь?
– Я в зоне зимних пастбищ дроздов-рябинников, – с готовностью ответил старик. ‹…› – … Прикажете мандат?…
Видно было, что к нему не раз приставали с расспросами… Старик достал мандат ловким движением, точно патрон из ружья. Но его лицо вдруг погасло, исчезла ласковая усмешка, остались озябшие уши, усталость в глазах, красные ниточки стариковского румянца; и это соединение охотничьей сноровки с устало-беспомощным выражением лица почему-то убедило редактора в том, что старик говорит правду. Он только мельком взглянул на мандат, выданный Лесным институтом».[33]
Это – «Дорога» наоборот.
Один из беллетристов 1930-1950-х годов, А. Письменный, вспоминал восхищенно «о впечатлении, которое произвел на меня и моих товарищей газетный очерк Ив. Катаева “Третий пролет”», и цитировал:
«"Сначала даже и не мост увидели мы, а лишь идею моста, мелкий и легчайший абрис, повисший в свечении воздуха и воды. Утро было неяркое, ровная облачная пелена, но на таком раздолье – света не занимать, река белая, с искрой балтийского серебра. Проходит час, линии моста постепенно чернеют, он воплощается. Уже различимы пологие дуги всех шести пролетов, тоненькие – отсюда – устои, и от них – опущенные в воду черточки отражений". За „опущенные в воду черточки отражений“, за „балтийское серебро“ много можно было отдать».[34]
Цитируя это рассуждение в одной из своих работ, мы возражали – почему ж – «можно было…»? Именно отдали, и очень много, за возможность выучиться рисовать эти «черточки» и, главное, за право демонстрировать печатно результаты этой учебы, плоды мастерства. Стремясь при помощи «черточек» передать на страницы печати человеческие чувства, которые как-то надо было сохранять и передавать по наследству, Паустовский вел в Литинституте семинар по этим именно «черточкам», очерчивающим эти именно чувства, не касаясь в своих очертаниях грешной земли, и был почти канонизирован при жизни – для того чтобы очень вскоре, увы, расплыться, как те самые «черточки отражений».[35]
Идея уроков мастерства навеяна вообще главным образом прозой Бабеля, которую перечитывают и даже, как увидим далее, переписывают.
4
И еще раз вернемся к Бунину.
Его проза дала импульс тем, кто пошел мимо психологического анализа («под Толстого») и бытописи – того, что стало дорогой официозной, старательно соблюдавшей требования регламента, прозы. Связь с Буниным очевидна у тех, кто обозначил линию неофициальной литературы (во главе ее встал Паустовский). Она отлична была в первую очередь поэтикой: резкая смена едва намеченных картин, запахов, красок, настроений – то, что А. Роскин назвал в 1930-е годы методом «приведенного в беспорядок прейскуранта».[36] Речь шла о беллетристической манере Габриловича (его текст трудно даже назвать прозой) – макете, в сущности, прозы не только подражателей Бунина, но и разжижителей Бабеля. Приводя цитату, в которой Бабель очевиден и в первом лице единственного числа (уже вытесняемом из прозы), и в стыке фраз: «Я зажег спичку. Черный жук ударил меня по лбу», Роскин не называет имени Бабеля, а комментирует содержательную сторону («жуки в феврале бить по лбу не могут» и т. д.).
Именно в 1930-е годы в Бунина добавляли Бабеля. Почему же? – спросим мы себя. Почему же им недостаточно было одного Бунина?
Дальнейшее представляется особенно важным, ясным для того, кто изо дня в день наблюдал условия функционирования печатной литературы в советских условиях, но не так-то легко поддающимся внятному эксплицированию.
Прежде всего – сама густота бунинской конкретной изобразительности была уже недоступна для подражания – литературные условия не давали возможности так въедаться в какой бы то ни было предмет. Одинаково противоречили регламенту и были им заторможены два направления этого «въедания».
Первым была дотошность «толстовского» психологического въедания. К началу 1930-х годов наметилась стандартная «толстовская» дорога (по ней уже шел кое-как Фадеев с большими остановками, так и не сумев дописать – как ему это печатно предрек Шкловский еще в 1929 году – своего «Последнего из удэге») с узкими, обусловленными возможностями. Свободный же психологический анализ из литературы исключен, поскольку самоанализ и рефлексия рассматриваются социумом только в качестве атрибута человека, ведущего двойную жизнь (признак такой жизни – ведение дневника) и тяготеющего к преступлению.[37]
Вторым направлением, которому преградили дорогу, стала дотошность бунинской конкретности, со всеми подробностями, осязаемыми и видимыми.
«Читая Бунина, мы действительно словно видим, слышим, обоняем, осязаем – всеми органами чувств воспринимаем изображаемую им материю».[38]
Что именно подробно описывал Бунин? Крестьянина, его одежду, его движения, его дом, его утварь, поле, луг, лес. Но к рубежу 1920-1930-х все это могло быть описано лишь сквозь призму «колхозной» жизни – для этого не нужна была живая и дотошная наблюдательность. Победивший материализм не принял слишком тесного приближения литературы к материи как к реальности.
В начале 1930-х кончалось время «натурализма», смелости описаний. Еще недавно о Бабеле писали: «Он мастер отчетливой прозы „французской складки“»[39] – и «французская складка» включала в себя весь набор, который был воспринят отечественной беллетристикой как мощный рычаг изменения традиции.
Теперь литература теряла «французскую» свободу обращения с материалом. Раскрепощающая роль, сыгранная французской прозой, снималась с репертуара – мощная традиция подымалась со дна уже в виде особым образом отшлифованных (в качестве зеркала русской революции) «своих» классиков и вытесняла недавние новации. Исчезала «высокая ирония» вместе с «нерусской» терпкой патетикой. На литературную сцену вновь выступили полутона (с которыми Бабель, казалось, покончил), подтекст (но не слишком многозначительный). Бабель в 1930-е годы становился все более неуместен.
Между тем он уже впитался в повествовательность русской прозы – за несколько лет до того, как его кровь, выражаясь с небабелевской высокопарностью, впиталась в русскую почву. Неопределенно-лирический универсальный повествовательный язык, который окончательно сформировался в первой половине 1930-х годов и на долгие годы стал спасительным для тех, кто не хотел войти в официозное русло, – это усеченный, сглаженый редуцированный язык бабелевской прозы. «Путаные вывески и разношерстные города существовали в тот год в нашей стране. Зима была снежная. К весне начались морозы. Почтари разъезжали в длинных овечьих тулупах. Крестьянские сходы собирались у жарких печей…» – фрагмент прозы Е. Габриловича.[40] Но этот отрывок мог равно принадлежать и К. Паустовскому, и С. Гехту, и С. Бондарину, и Р. Фраерману, и Н. Атарову, и В. Кожевникову,[41] и самому Роскину – например, в его биографической повести о Чехове 1939 года: «В степи строились шахты. Рядом с могильными курганами вырастали фиолетовые горы шлака. Ястребы садились на телеграфную проволоку и уже равнодушно смотрели на проходящие поезда».[42]
Отметим любопытное место в той же повести:
«Рассматривая рисунки брата, Антон думал о том, что некрасивое нисколько не реальнее красивого.
Эта простая мысль казалась ему истиной, важной для всякого, кто хочет создавать нечто свое в искусстве.
Однако когда он сам пробовал писать красиво, получалось что-то совсем несообразное, напоминавшее безграмотный перевод иностранного романа».[43]
У самого Чехова нигде таких суждений и размышлений не зафиксировано – ни про красивое и некрасивое, ни про сходство красивого с плохим переводом (известный рассказ «Дорогие уроки», напротив, демонстрирует плохой перевод без малейшей претензии на красоту оборотов). А. Роскин, один из размывателей бабелевской манеры, выражает позднейшие предпочтения – свои собственные и своего круга.
Но сначала, прежде чем разжижиться в прозу середины 1930-х и последующих лет, Бабель прошил прозу людей второй половины 1920-х годов, еще не боявшихся смелости оборотов и энергии синтаксиса, а искавших их – прозу Олеши, Ильфа и Петрова и В. Катаева (ср. хотя бы в «Растратчиках»: «Железо било в железо. Станции великолепными мельницами пролетали мимо окон на электрических крыльях», – всегда почти с заметным налетом имитации). Его школа началась и еще раньше того – в 1923 году в предисловии к предполагавшемуся сборнику молодых одесских писателей он называет Гехта, Славина, Паустовского, Ильфа. Но тогда было еще далеко до будущего неукоснительного понижения градуса.
Генетически особенности и Бабеля, и позднейшей прозы восходят к пушкинскому повествованию, где «действия и события перечисляются, а не рассказываются», отмечал Ю. Н. Тынянов. Цитируя его, современный автор пишет:
«Устанавливая жанровые истоки пушкинской прозы, будущий исследователь несомненно, среди первейших назовет жанры событийно-повествовательные, по преимуществу – путешествие, хронику, реляцию, летопись».[44]
Эту установку на летописание приняла проза 1920-х годов; Бабель нашел для нее форму. Д. Мирский в 1925 году писал, что «какая-то подлинная эпичность» – это «самое неожиданное и, может быть, самое ценное у Бабеля».[45] Эта эпичность и перенята в редуцированном виде беллетристами «усеченной строки».
Бабель давал повадку, недооценивая, возможно, силы своего примера, своей образцовости.[46] Не раз отмеченная исследователями концовка «Дороги» важна не только неожиданной идеологичностью, но и той инверсией, которая была новацией (в сравнении, например, с Чеховым, а также и с пафосом самого Бабеля) и стала с того времени (1932 год) камертоном «лирической» прозы последующих лет: «… превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья». А спустя пять лет концовка «Ди Грассо» кажется уже написанной под влиянием Паустовского:
«… и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до сих пор (эта досказанность была “до сих пор противопоказана Бабелю”. – М. Ч.), увидел уходившие ввысь колонны Думы, ‹…› увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, – затихшим и невыразимо прекрасным».
Это уже гайдаровское «А жизнь, товарищи ‹…› была совсем хорошая!» – черты нарождавшейся идиллии, спровоцированнной, возможно, тем стремлением заклясть судьбу, которую Ахматова видела в генезисе концовок «Повестей Белкина».
Да, новеллы второй половины 1930-х уже смыкаются в отдельных точках текста с давно сформировавшейся манерой Паустовского. Бабель, можно сказать, уже сам пишет под Паустовского, давно впитавшего Бабеля и тайком оглядывающегося на позднего, эмигрантского Бунина. Особенно очевидно это в рассказе «Поцелуй» (1937).
Сама ситуация, декорации, соположение персонажей – благородный парализованный старик, его дочь, вдовеющая «после офицера, убитого в германскую войну», ее пятилетний сын, чье присутствие только обозначено – для общего контура «семьи учителя, семьи добрых и слабых людей» – все это ситуация рассказов Паустовского, с середины 1930-х до 1950-х.
«Оцепенев, она стояла в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах, голубые глаза».
«Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого».
«… Я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней».
«Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.
– Скажите, что вы вернетесь, – повторял он и тряс головой.
Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу».
«Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди».
«Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом – Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом».
«Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову».
Эти «паустовские» части, связанные непосредственно с героем-рассказчиком, прошиты контрастирующей с ними суровой нитью его ординарца Суровцева, сплетенной в свою очередь из двух нитей – грубости обнаженной реальности, от секса до смерти, и живости просторечия. Причем именно просторечием передаются ударные, сугубо «бабелевские» сюжетные звенья:
«– Ты где отдыхаешь? ‹…› Ты поближе к нам лягай, мы люди живые.
‹…› – Согласная, – сказал он, усаживаясь, – только не высказывает.
‹…› – Главное, что кони пристали, – сказал он весело, – а то съездили бы…»
«… Я направился в дом, чтоб проститься со стариком.
– Главное, что время нет, – загородил мне дорогу Суровцев, – сидайте, поедем…
Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь».
Свои действия он проясняет уже в дороге («… смотрю – мертвый, испекся…»).
Ржевский приводит немало примеров влияния стиля Бабеля на Паустовского.[47]
От прямых банальностей, от красивостей Паустовского спасают «бабелевские» короткие фразы и детали разных планов, поставленные рядом.[48] И в пределах этой короткой фразы, столкнутой с другой короткой, слова, банальные определения, как в стихе – благодаря открытой Тыняновым тесноте стихового ряда, – теряли свой банальный характер:
«Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц» («Северная повесть», 1939).
Не доводя картину до драматизма, Паустовский привычно соединяет мелодраматическую выразительность реплик старой французской школы (Дюма) с хорошим знанием техники русской прозы второй половины ХIХ – начала ХХ веков:
«– Что? – тонко крикнул Траубе, и щеки его задрожали. – Может быть, я ослышался? – Он повернул к Киселеву бледное пухлое лицо: – Вы не смеете мне приказывать. Вы не смеете ничего говорить. Вы убийца, и с вас сорвут за это погоны» (там же, с. 226).
Да – это именно и есть разжиженный Бабель. В этот эпитет мы, пожалуй, не вкладываем оценки; если бы не страшная гибель Бабеля и непредставимые душевные муки ее многомесячного предвидения и ожидания – все вообще бы, возможно, выглядело иначе. Кровь наполнила (как писал Тынянов о стихах погибшего Есенина) это влияние.
Разводнившие Бабеля литераторы изъяли из употребления (правда, под давлением прочно установившегося регламента) то, что было стволом бабелевской прозы, – материал, не знающий ограничений. Сохранились свидетельства о том, как отбрасывались бабелевские темы.
Э. Миндлин, вернувшись из больницы, «рассказал Паустовскому о своем соседе по больничной койке – могильщике», который, умирая, «целыми днями сетовал на свое невезенье».
«– Вот уж не повезло, так поистине не повезло! ‹…› Золотое же время! Весь год ждешь, ждешь эту пору, не дождешься ее! А дождался, и на тебе – лежи тут больной, а там деньги твои зазря пропадают, господи, прости мои прегрешения!
В летние дни ягодного сезона, по словам могильщика, дети что мухи мрут. Только поспевай хоронить их. А детскую могилу не в пример быстрее выкопаешь, чем взрослую. Раз-два копнул – и готово. А что детская, что взрослая могилка – все одно, все вровень, в норму идет». И чаевых перепадает больше. «Детские похороны куда прибыльней, чем другие!
И долго еще вздыхал и убивался могильщик. Так, вздыхая и кляня свое невезенье, и умер, задохнувшись как-то под утро».
«– Изумительная тема для рассказа! – воскликнул Паустовский.
– Берите ее и пишите.
– А вы?
Я сказал, что не буду писать. И снова стал уговаривать его «взять» тему себе. Паустовский подумал и отказался. Тема была не «его». Он не умеет писать об уродливом, о безнравственном. Он и о духовном убожестве не может писать. Жизнь раскрывается для него только через прекрасное в жизни».[49]
«… Это почти гипнотическое действие его пейзажей – с обязательной черной водой осенних речек, запахом палого листа и мокрых заборов», – пишет о Паустовском мемуаристка и приводит письмо к ней 1960 года – об одном из ее рассказов:
«Читал и радовался за вас, за подлинное ваше мастерство, лаконичность, точный и тонкий рисунок вещи, особенно психологический, и за подтекст. Печаль этого рассказа так же прекрасна, как и печаль чеховской «Дамы с собачкой»» (1960).[50]
Ликование и содрогание Бабеля заменены печалью, пафос – лиризмом, разжиженный Бабель сливается в одном растворе с разжиженным Чеховым. Бабелю было, возможно, близко горьковское противопоставление героического и лирического – в «Заметках о мещанстве» 1905 года (которые, впрочем, сам Горький никогда не перепечатывал): мещанин, по Горькому,
«любит жить, но впечатления переживает не глубоко, социальный трагизм не доступен его чувствам, только ужас пред своей смертью он может чувствовать глубоко и выражает его порою ярко и сильно. Мещанин всегда лирик, пафос совершенно недоступен мещанам, тут они точно прокляты проклятием бессилия.…»[51]
В 1920-е годы во внимании Мандельштама к вещи «после туманов символизма» видели нечто «новое и неожиданное» (Э. Голлербах – об одном из стихотворений Мандельштама 1915 года[52]). К началу 1950-х под предводительством благородного Паустовского вернулись к туманам символизма – но уже не с пылинкой дальних стран, репрезентирующей что-то предметное, невесомо вещественное, а с обязательными черной водой речек и запахом мокрого забора.
Даже Николай Грибачев, один из наиболее официозных (и притом еще убежденных) литераторов, начинает свой «Рассказ о первой любви» (1953) бабелевской хладнокровно-патетической фразой: «Река пылала от лунного света».[53]
Таким образом, когда Шимон Маркиш писал, что гибель Бабеля не случайна – «Ему не было места в советской литературе 40-х и 50-х годов»,[54] – то в определенном смысле он был безусловно прав. В ином же смысле можно уверенно утверждать, этого места оказалось очень даже много, только без его имени и главнейших примет. Тот градус температуры бабелевской прозы, который по оптимальности аналогичен 40 градусам спирта в водке (результат, полученный, как известно, великим Менделеевым в результате длительных экспериментов и проб), был разведен в печатной отечественной русской прозе 1930-1950-х до почти полной потери вкуса.
СУБЛИМАЦИЯ СЕКСА КАК ДВИГАТЕЛЬ СЮЖЕТА В ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА 20-х И В 30-е ГОДЫ