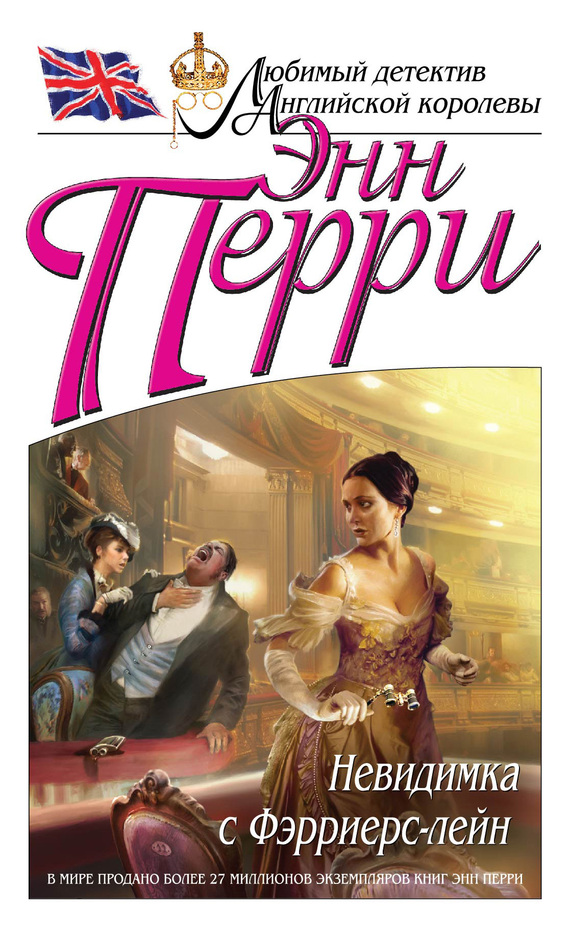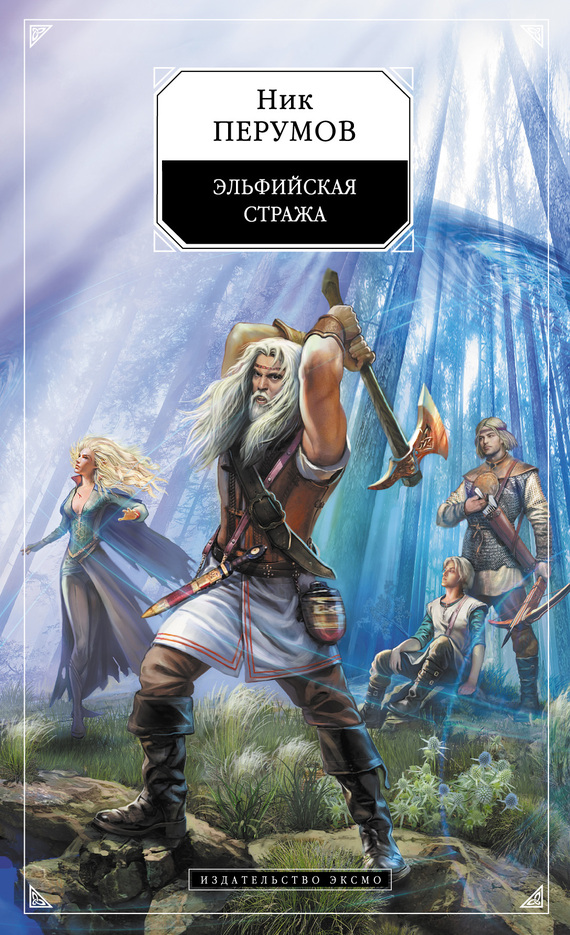Как жить с французом Мийе Дарья

— Кто такая Марианна?
— Просто Марианна. Она символизирует свободу.
— Это поэтому она такая растрепанная…
Гийом с укоризной посмотрел на меня. Послезавтра я должна явиться в иммиграционную службу за штампом в паспорт, который даст мне право целый год законно проживать во Франции. Для того чтобы стать легальным иммигрантом, нужно будет пройти медицинский осмотр с флюорографией, выдержать беседу по профориентации, сдать тест на знание французского и — внимание! — республиканских ценностей. Провалившиеся будут направлены на спецкурсы, где им объяснят, что здешняя пресса свободна как угодно измываться над политическими деятелями и хулить партию власти, но упаси бог даже в легкой форме иронизировать над государственными символами; что здесь не принято произносить вслух не только слово «негр», но и «араб» и «китаец» — это может быть воспринято как проявление расизма; что здесь каждый имеет право исповедовать свою религию, если это не мешает дорожному движению и не будит соседей среди ночи. Чтобы не терять потом время на усвоение этих истин (наш бюджет не потянет няню), Гийом каждый вечер гонял меня по вопроснику, который сердобольный марокканец, прошедший тестирование, выложил в Интернете.
Бытует мнение, что бюрократы везде одинаково неприятны. Это неправда. После визита в отдел по работе с иммигрантами мне захотелось всех тамошних сотрудников пригласить к себе на чай. Ни словом, ни жестом, ни взглядом они не дали нам почувствовать себя людьми второго сорта. Улыбчивые соцработницы, словно семена добра, рассыпали вокруг себя «пожалуйста», «спасибо» и «будьте добры». Они разруливали очередь из нескольких десятков тунисцев, алжирцев, китайцев, эквадорцев и представителей других диковинных национальностей, обращаясь к каждому соответственно «мсье», «мадам» или «мадемуазель» (хотя в отдельных случаях, клянусь, это было неочевидно). В кабинеты каждого иммигранта вызывали лично, старательно произнося иностранные имена-фамилии и тут же извиняясь за неизбежные ошибки. И все начинали друг другу улыбаться.
Группе уроженцев Шри-Ланки, говорящих только на родном тамильском, тут же нашли переводчицу. Она, счастливая, выплыла из недр отдела по работе с иммигрантами с ликующим выражением лица: «Да, да, я говорю по-тамильски! Мне сегодня повезло!» В кулуарах нетерпеливо топтались в ожидании вызова переводчики с редких наречий Черной Африки и бывших островных колоний.
Это был другой мир. Здесь говорили не «Если вы хотите жить во Франции, то вы обязаны то-то и то-то», а «Добро пожаловать во Францию! Наша миссия — помочь вам как можно скорее освоиться в новой стране вашего проживания. Мы здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы и решать ваши проблемы». На столике в зале ожидания стояли соки, вода, бисквиты, социальные работники ласково подбадривали стесняющихся: «Перекусите, это все для вас. А то, несмотря на наши старания, очередь иногда может затянуться на полчаса». О господи, полчаса! Да я здесь состарюсь!
Через три часа я вышла на улицу с восстановленной верой в человечество. В увесистом досье, которое мне дали с собой, были телефоны адвокатов, языковых центров, медкабинетов и социальных служб, адреса сайтов для поиска работы или жилья, проспект с описанием основных административных процедур, вроде записи ребенка в школу или открытия счета в банке, и рентгеновский снимок моих легких. В паспорте стоял заветный желтый стикер, сигнализировавший всем заинтересованным лицам, что в течение года я своя в Евросоюзе.
Но осмотреть нового гражданина со всех сторон и даже просветить его рентгеном французам недостатчно. Им надо залезть к нему в голову и подкрутить там необходимые винтики. Поэтому все прибывшие на Землю свободы, равенства и братства в обязательном порядке направляются на семинар «Жить во Франции», который занимает целый рабочий день с перерывом на обед.
До места назначения я добиралась сорок минут на метро вместе с толпой невыспавшихся кадровых служащих. Выйдя на нужной станции, я сразу увидела китайца средних лет, вертящего в руках тот же план проезда, что лежал в моей сумке, — он был отпечатан на официальном приглашении заботливыми сотрудниками иммиграционного центра. Я последовала за ним. Через пять — семь минут мы оказались у глухих железных ворот, покрашенных тоскливой серой краской, — такие обычно закрывают входы на склад продуктового магазина или в лабораторную часть НИИ. «Ну вот, заказывали лоботомию — получите», — пронеслось у меня в голове, пока рука толкала тяжелую железную калитку. Сейчас калитка захлопнется за мной, и через восемь часов я выйду отсюда новым человеком — законопослушным, верящим в «био» и ставящим свободу превыше всего.
За воротами скрывался небольшой квадратный дворик, по которому змеилась очередь наших с китайцем товарищей по счастью переехать во Францию. Нас было человек пятьдесят. На стойке ресепшн сидел полный мужчина в очках, с белой окладистой бородой и кучерявыми, хотя и поредевшими на макушке волосами — вылитый Санта-Клаус. Узнавая фамилию пришедшего, он направлял его в соответствующий кабинет. Я поднялась по винтовой лестнице на второй этаж и проследовала по табличкам, на которых фломастером было написано Vivre en France. В классе, куда они меня привели, стояли рядами офисные стулья, мягкие и пластиковые, и стол с проекционным аппаратом. Будут зомбировать двадцать пятым кадром, подумала я и пристроилась на мягком стуле, благоразумно рассчитав, что синдром беспокойных ног начнет мучить меня где-то через полтора часа, а ерзать по жесткому пластиковому сиденью костлявой попой больно. Усаживаясь, я исподлобья оглядела людей, с которыми предстояло провести день. Группа девушек в арабских платках, семейная пара пожилых тайцев (их всегда можно узнать по характерному выражению благостности на кофейных лицах), молодой китаец в сопровождении переводчицы. Остальные два десятка человек — выходцы из бывших африканских колоний. Увидев такой перевес в пользу франкоязычных соучеников, я начала сомневаться, не стоило ли тоже попросить переводчика. Ведь понятно же, что в таком контингенте соцработнику вряд ли придет в голову говорить медленно и внятно. Оставалось только надеяться, что двадцать пятый кадр сделает свое дело.
— Господи, как же я устала, — возвестила вместо приветствия дородная уроженка Сенегала, появившаяся перед нами с пятнадцатиминутным опозданием. — Каждый божий день мотаюсь сюда из девяносто третьего округа — две электрички, метро, потом пешком. Встаю в шесть, прихожу на работу уже вымотанная. А сегодня так вообще без сил — целая рабочая неделя позади.
Всем хотелось поддержать бедную женщину и — будем великодушны! — избавить ее от необходимости маяться с нами целый день. Мы натужно молчали, но всем своим видом изображали готовность разойтись по домам по первому требованию.
Соцработница десять минут ковырялась с проекционным аппаратом, следуя сумбурным рекомендациям из зала, потом, тяжело вздохнув, позвала коллегу из соседнего класса. Дамы неторопливо нарезали круги вокруг машинки, тыкали наугад все кнопочки, через десять минут признали свое поражение и пригласили Санта-Клауса. Санта-Клаус воткнул штепсель в розетку, и через несколько секунд на экране, пришпиленном к противоположной стенке, появилось изображение французского флага. Съехавшее, правда, вправо. Изображение ровняли еще минут пять.
Наконец помощники покинули класс, дородная уроженка Сенегала оправила кофточку на могучей груди восьмого размера, уселась за стол и, выдержав паузу длиной никак не меньше пары минут, начала:
— Ну вот, теперь вот у меня и голова болит.
Молчание в зале сделалось еще более сочувственным. Мы все вспоминали, есть ли в сумке аспирин. На часах, между тем, было уже девять тридцать. День обещал быть насыщенным информацией.
— Так… — Пауза. — Ну что… — Пауза. — Пожалуй, теперь наконец можно начинать?
Дама обвела нас глазами. Похоже, ее вопрос не был риторическим. По крайней мере, она промолчала еще несколько долгих секунд, рассчитывая на ответ. Мы недоуменно закивали, и она — о-о-о-чень-очень медленно — заговорила:
— Мы обсудим несколько блоков: история Франции, ее географическое положение, ее основные постулаты и символы государственности, законы. В конце нас ждет самый интересный блок — вопросы натурализации и получения гражданства. Но для начала я проведу перекличку. И пожалуйста, сразу говорите мне, хотите ли вы обедать здесь, со всеми, или предпочитаете добывать пропитание самостоятельно — нужно заказать точное количество порций.
В зале началось смятение. В официальном бланке приглашения значилось, что обед нам будет предоставлен. Зачем же тогда спрашивать? Может быть, безопаснее будет отказаться? Либо обед исключительно невкусен, либо в суп подмешивают сыворотку правды — какие еще могут быть причины отказаться от бесплатного обеда?
В этот момент кто-то сзади горячо выкрикнул, что нет, ЗДЕСЬ он обедать не будет. Ну точно, сыворотка правды.
— Книазиева… Книзев… Кнайзёв…
Да, я оставила девичью фамилию в браке, но только из-за того, что после волокиты с разрешением на брак во мне не осталось никаких моральных сил на переделывание четырех паспортов — двух национальных и двух заграничных для себя и Кьяры. Пусть пройдет немного времени, я оправлюсь от бюрократических мытарств и проверю заодно, надолго ли этот наш брак, и, возможно, сменю фамилию на нежную и благозвучную Мийе.
Я подняла руку и отважно сказала:
— Да, я здесь, и я буду есть ЗДЕСЬ!
«Чем бы мне это ни грозило», — добавила я про себя. Дама пригласила меня расписаться в ведомости о присутствии. Ища строчку со своим именем, я на всякий случай тихонько спросила ее:
— А что дают на обед?
— Меня вот тут уже спрашивают, что дают на обед, — протрубила дама, чтобы ее слышали даже непоседливые юные арабы на самом дальнем ряду. — Это хороший вопрос. Наше министерство долго работало над составлением меню, которое учитывало бы все религиозные запреты и разумные диетические ограничения. Поэтому теперь на обед подают всегда рис и рыбу.
— Неужели кто-то отказывается от такого политически правильного обеда? — искренне удивилась я. — Да еще и бесплатного!
Дама подняла на меня глаза:
— Сегодня вам как раз предстоит узнать, что вы приехали жить в свободную страну. Здесь никто не может вас принудить есть бесплатный обед, если вы, например, хотите за него заплатить.
Перекличка отняла у нас еще пятнадцать минут от прослушивания информации об общественно-политическом устройстве Франции.
— Ну что ж. Для начала я должна рассказать вам историю государства, в которое вы приехали жить. Но поскольку история Франции богата событиями, а в десять тридцать у нас кофейная пауза, я остановлюсь на самых важных из них.
Я затаила дыхание: всегда было интересно, как официальная история Франции трактует ее непривлекательную позицию во Второй мировой войне.
— В пятьдесят втором году до нашей эры Франция была не Францией, а Галлией, и ее оккупировали римляне…
Все сидящие тяжело вздохнули, не поднимая голов. Как бы пережить это «Авраам родил Исаака», не уснув?
— Но потом в восемнадцатом веке Людовик Шестнадцатый придумал гильотину. На которой его же и казнили.
— А сто такёэ гильотина? — робко спросил миролюбивый седеющий таец, по-школьному подняв руку.
По рядам прокатилось «Ох!» — в нем было что-то от вздоха тигра, увидевшего из засады газель, у которой не было никаких шансов избежать его клыков.
— Хмм… гильотина, — протянула преподавательница, подыскивая слова, чтобы понятнее объяснить это базовое для французской диалектики понятие. — Это такое приспособление с двумя деревянными опорами… Их делали из бука или тиса, я точно не могу сказать, знаете, уже столько времени прошло… Возможно, в разных городах использовали разные породы дерева… И вот между этими опорами подвешено лезвие, знаете, такой острый кусок металла, скорее всего стали…
— Короче, эта штука падает с верхотуры и оттяпывает тебе голову! — выпалил нетерпеливый нигерийский юноша.
Преподавательница смерила его взглядом и продолжила на той же запевной ноте:
— Да, и вот отрубленная голова падает в специальное ведерко, оттуда ее вынимают и показывают толпе…
— Спасибо, я понял! — замахал руками побледневший таец.
— Точно поняли? Ну хорошо, тогда перейдем к самому важному моменту нашей теперь с вами общей истории — Французской революции. Которая случилась?..
— В тысяча семьсот восемьдесят девятом году, — хором ответили я и сидящий рядом чернокожий студент, найдя наконец применение университетским знаниям.
— Верно, в тысяча семьсот восемьдесят девятом году французский народ вышел на улицы и заявил свой категорический протест абсолютизму. И что же сделал французский народ, чтобы показать, как велико его недовольство?
— Взял Бастилию, — бойко выкрикнули мы.
— Действительно, какие вы молодцы, знаете про Бастилию. А что же такое Бастилия? Наверное, это станция метро? Или кинотеатр?
Тут я почувствовала, что мы со студентом полные идиоты. Ведь нам известно не только то, что Бастилия — королевская тюрьма, символизировавшая неограниченную власть монарха, но и то, что Наполеона назвали не в честь слоеного торта. Однако только студенты-идиоты могут всерьез кичиться своими знаниями перед группой детского сада.
И все же на лекции не обошлось и без открытий. Преподавательница предложила нам обсудить бюстик Марианны.
— Бюстик этой девушки вы встретите во всех мэриях, посольствах и прочих государственных учреждениях. Кто она? Исторический персонаж? Политический деятель?
Да-да, вот мне тоже интересно. Этого и Гийом не знает.
— Нет, эта девушка никогда не существовала в реальности, — медленно продолжала дама у доски. — Ее зовут Марианна. Никто не может достоверно сказать, откуда произошло это имя: скорее всего, прежде самым популярным именем во Франции было Мария, а за ним следовало имя Анна. В результате их сращения образовалось Марианна.
В моем мозгу стали взрываться шарики, как в газировке, — так всегда бывает, когда градус абсурда в помещении доходит до критической отметки.
— Вы наверняка заметили, что у девушки полуобнажена грудь. Что же это она, предлагает себя? Она такая распущенная? Или, может, такова была мода тех незапамятных времен? — Соцработница нагнетала интригу в стиле плохих псевдонаучных фильмов.
Сосед слева заерзал, сосед сзади вздохнул, сосед справа замер с неперевернутым листком блокнота. Мне сделалось неуютно от того, что тридцать здоровых мужчин, преимущественно негроидной расы, запертые со мной в одной комнате с восьми утра, синхронно думали об обнаженной девичьей груди.
— Конечно же скульптор не намекал на доступность Марианны. Обнаженная грудь символизирует материнскую заботу Франции о своих детях и — это как раз касается вас — ее безграничное радушие и гостеприимство. Те, кого она принимает в свое лоно, становятся ее детьми. То есть через четыре года они могут просить о гражданстве, — добавила преподавательница на случай, если кто-то из нас не понял метафоры. — Но об этом я расскажу вам в конце лекции.
Публика оживилась. Очевидно, именно за конкретикой по этому вопросу большинство сюда и пришли. Меня же интересовал совсем другой аспект французского права. Плохо подбирая слова от волнения, я спросила:
— А как насчет того, с кем остается ребенок после развода?
Дама непонимающе уставилась на меня:
— Суд решает это, исходя из интересов ребенка, но, конечно, как правило, его оставляют с матерью.
— Даже если она иностранка?
— Иностранцы имеют здесь те же права, это же СВОБОДНАЯ СТРАНА, — проскандировала она, удивляясь тому, что до меня до сих пор не дошло.
— Даже если она русская?..
Тут соцработница сбилась с декламационного тона и замямлила:
— С русскими ситуация сложная, это правда. Все потому, что русские женщины имеют тенденцию уезжать домой после развода.
— Странные они, действительно, — пожала я плечами. — Куда как лучше выйти замуж, чтобы зацепиться во Франции, и потом, зацепившись, развестись.
Женщина смотрела на меня пустыми глазами: ее третий глаз в это время бегло просматривал список рекомендованных министерством реакций на непредвиденные вопросы.
— Суд решает, исходя из интересов ребенка, а не матери. А суд может посчитать, что во Франции ребенку будет лучше. Но если вы хотите, я дам вам координаты адвокатов по семейному праву, которые точно знают по этой теме больше меня.
Меня пока интересовал чисто теоретический срез проблемы — жить с Гийомом мне скорее нравилось, чем нет. Но конечно же так не может длиться вечно: Бегбедер доказал, что любовь живет три года. Поэтому я не отказалась и от конкретики и записала на полях тетради три адреса юридических консультаций.
Ровно в шесть вечера я вышла из железных ворот социального центра, обогащенная знаниями. Я узнала, например, что женщине во Франции не требуется разрешение мужа, брата или отца, чтобы учиться или работать, что она может выходить замуж по собственному желанию, но только достигнув восемнадцати лет, что ей не возбраняется открывать волосы и плечи взглядам окружающих, а лицо запрещено скрывать под хиджабом. А также что в мире на сегодняшний день всего две светские страны, то есть такие, где церковь конституционно отделена от государства, — Франция и Турция. Уверения, что в российской конституции также прописано отделение церкви от государства и закон божий в школах не преподают, были встречены снисходительно: мол, мы знаем, каково вам там, в России, — вас заставляют верить во всякие небылицы. Нам-то из Франции виднее, что ваше государство вовсе не светское.
Зерна отношений
— Бонжур, мадам Кнйя… Кнйю… Княв…
— Бонжур, мадам Голлаз! — ответила я с улыбкой директрисе детского сада, куда Кьяра ходит уже третий месяц.
Здесь привыкаешь широко улыбаться, даже получая извещение о забастовке, которое я не глядя сунула в карман, — забастовки традиционно приходятся на первую половину дня, а мы ходим во вторую. Кьяра деловито уселась на ковер и сняла ботинки. Я переложила ортопедические стельки в сменные тапочки, переобула дочку (я одна-единственная из группы по русской традиции ношу ей сменную обувь), подтянула разъехавшиеся петухами хвостики. Кьяра выгибалась, торопясь на свою игрушечную кухню возиться с миниатюрными кастрюльками. Она уже прилипла к стеклянной двери игровой и ждала, пока я надену на сапоги малинового цвета бахилы.
— Бонжур, Кьяра! Бонжур, мама Кьяры! — поприветствовали нас воспитательницы. Дети, те, что меньше стеснялись, последовали их примеру в меру возможностей.
Михтаб, дочери француженки и сирийца, не удавалось «бо», а также «р» и мягкое «к», и казалось, что она говорила в нос: «Нжу, Яла».
Шайли, маленький франкомарокканец с кожей цвета ириски и ресницами-опахалами, пока говорил одними глазами, но в них можно было ясно прочесть смесь радости и тревоги: Кьяра, бывало, поколачивала его деревянным паровозом.
Георг происходил от распространенного ныне союза француза и китаянки; его азиатские глаза и прямо торчащие, как иглы, черные волосы никак не вязались с традиционным именем английских монархов. Он подбегал ко мне вплотную с обворожительно щербатой улыбкой, вручал мне разом игрушечных динозавров, вагон паровозика, сковородку и пару фломастеров. Он был очень открытым и общительным юношей, несмотря на снобское имя.
Божан, самый старший из всех, словно стеснялся своего раскатистого болгарского «р» и почти все время молчал, однако при виде нас его сумрачное лицо озарялось подобием улыбки: воспитательница говорила, что он слегка влюблен в Кьяру, а в те дни, когда нет Клементины, влюблен серьезно.
Клементине, наоборот, из всей приветственной фразы особенно удавалось грассирующее «жууууур», и она тянула его самозабвенно, с удовольствием, как музыкальную ноту. Эта девочка-ангел, всегда опрятная, чистая, розовощекая, с заколочками вдоль каштановой челки, словно вышла из Парижской палаты мер и весов, где рядом с эталонными метром и килограммом хранили, вероятно, и эталон чистокровного французского ребенка. Все остальные дети рядом с ней казались генетическим браком большей или меньшей тяжести. В том числе Кьяра, которая вроде тоже белокожая и с каре под Мирей Матьё, но при этом не способна носить заколочки дольше пяти минут и непременно разукрашивается с головы до ног всеми использованными за день фломастерами.
Рослый Матьё здоровался подъемом руки. Его кучерявые волосы обычно перетянуты розовой резинкой, и, честно говоря, лицом он совершеннейшая девочка. Возможно, он девочка не только лицом, я этого никогда не узнаю. Гийом говорит, у какого-то колониального племени принято называть детей строго по святцам, невзирая на пол. Девочке Матьё могло не повезти родиться в день святого Матьё — судя по виду, она была как раз из какого-то колониального племени, сильно удаленного от метрополии.
Впервые увидев группу, в которой Кьяре предстояло проводить полдня, я поспешила сделать ей прививку от туберкулеза. В Москве я от нее отказалась, сославшись на то, что мой ребенок растет в благополучной семье и в хороших жилищных условиях. Я не предполагала, что в детском саду она будет спать на общественном матрасе, по которому кто угодно может пройти в уличной обуви, и облизывать те же игрушки, что дети из ЮАР, где туберкулез до сих пор является одной из главных причин преждевременной смерти.
Нам, конечно, страшно повезло. Добыть место в парижском садике, пусть и на полдня, через две недели после оформления заявки — это почти так же невероятно, как выиграть машину в лотерею. Мне хотелось сделать отзывчивым сотрудницам что-то приятное. Поэтому, когда воспитательница Стефани попросила поискать в архивах нашего научно-популярного журнала фотографии женщин с детьми разных национальностей, я в очередной приезд в Москву перерыла всю имеющуюся подшивку номеров. Но, увы, ничего не нашла. И мне в голову пришла идея. Если нет фотографий, женщин с детьми можно нарисовать! Малышам это понравится даже больше, а садику придаст домашнюю атмосферу.
Попрощавшись с Кьярой, я передала воспитательнице объемную папку с рисунками. Их было десять — столько же, сколько моих «свободных вечеров» за прошедшие два месяца.
— Это мое покаяние за то, что наш журнал недостаточно интересовался темой материнства и детства, — сказала я.
— Вы сами это сделали? — удивленно спросила Стефани, открыв картонную обложку.
— Да. Но если вам не понравится, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными их развешивать, — заверила я ее. — Я рисовала от нечего делать, так что ничуть не расстроюсь.
Это было огромной, трудноперевариваемой ложью. Я даже запнулась на словах «от нечего делать».
— Да что вы, они такие забавные! Вот эта китаянка, например. Ха-ха… и маори! Я покажу коллегам. Думаю, мы в обеденный перерыв и займемся развешиванием.
Я улыбнулась и вышла. Моя мама когда-то расписывала стены в детском садике для того, чтобы меня туда взяли, и в детском отделении кожно-венерологического диспансера, чтобы быть рядом со мной, проводившей там долгие недели из-за хронического диатеза. Это называется — преемственность поколений.
Обычно после садика мы несемся домой; от пережитого возбуждения и мерной тряски Кьяра засыпает по дороге, я тихонько втаскиваю ее в квартиру и оставляю досыпать в коляске — таким образом у меня образуется еще полчаса рабочего времени. Но в тот день погода стояла замечательная, из соседнего парка доносился детский смех, и коляска сама повернула туда. Мы спустились по наклонной дорожке, миновали группу занимающихся тай-чи, повернули на тихую боковую аллею, которую не слишком любят бегуны, и двинулись по направлению к детскому городку. Вдруг сзади донесся хруст веток.
— Стой, Лука, я тебе штаны подтяну, — прошипел женский голос.
Я машинально обернулась на русскую речь, доносящуюся из кустов. Не то чтобы она редко раздавалась в Париже, но, как правило, фразы, долетающие до моих ушей, были из серии: «А зачем вообще идти в этот Пантеон?», «Почем, интересно, макароны в этой забегаловке?» или «Где же, епть, эта Рю-дез-Артс?».
Из зарослей выбежал голопопый мальчик лет трех, а за ним, на полусогнутых ногах, как человек, совершивший что-то противозаконное, вышла невысокая брюнетка с симпатичным, хотя и слегка замученным лицом. Она испуганно посмотрела на нас.
— Мы не садовая охрана! — примирительно подняла руки я. — И мы тоже писаем где придется.
Она с облегчением улыбнулась:
— Да уж, ему ведь не объяснишь, что общественный туалет в трехстах метрах!
— Точно! Но я начинаю подозревать, что это какое-то чисто русское хулиганство, — сказала я и подмигнула. — Наша маленькая месть за все пережитое.
— Вам тоже есть за что мстить? — подыграла она.
— А то! — воскликнула я. — Сегодня, например, мы будем писать в знак протеста против Министерства по делам семьи и детства за то, что оно не улучшает условия труда воспитателям садика и те продолжают бастовать.
— Разумно, — кивнула женщина. — Тогда ты, Лука, тоже окропил жимолость не просто так, а под предлогом борьбы с бездеятельностью биржи труда.
— Ищете работу?
— Пять лет. — Женщина для наглядности подняла растопыренные пальцы и тут же сделала круг из большого и указательного: — Ноль. Зеро. Красный диплом Дружбы народов здесь никому не нужен.
— Понимаю. Я со своим красным эмгэушным даже не ищу.
— Муж работает? — с ноткой зависти спросила она.
— Работает. Но я тоже не бездельничаю — продолжаю горбатиться на Москву.
— Наш папа тоже работает. Но мы расстались. Так что теперь ищу с удвоенной силой — на одно пособие долго не проживешь.
— А алименты? — не удержалась я от бестактного вопроса. Женщина посмотрела в землю перед собой:
— Чтобы платил, надо подать в суд. Он говорит: подавай, давай вообще и разведемся сразу. А я боюсь на развод подавать после всех этих… историй… с Беленькой, Захаровой и другими.
— Понятно. Вы из-за этих историй разводиться боитесь, а я из-за них даже замуж боялась выходить, — усмехнулась я. — Но любовь пересилила страх!
Мы заулыбались.
— Люда, — протянула она руку.
— Даша, — протянула я руку в ответ.
Болтая, мы побрели в сторону игровой площадки. У двух иммигранток круг тем для первого разговора четко определен: томительные поиски работы, размер и стоимость съемной квартиры, «ох уж эти французские врачи!» и куда удалось пристроить ребенка. Люде было что рассказать, особенно по первому и третьему пунктам. Я тоже бурлила информацией, в основном по пунктам номер два и четыре. Поэтому мы купили по стакану горячего шоколада «по-старинному» (в какао «Несквик» размешивают столовую ложку «Нутеллы») и уселись погреть носы на солнышке, пока дети брали на абордаж пиратский корабль и готовили обед из песка и формочек.
Кьяра и Лука казались вполне довольными друг другом, пока их интересы не схлестнулись на самокате, оставленном без присмотра каким-то третьим ребенком. Лука брал ростом и весом, но мама, очевидно, растила его деликатным мальчиком, поэтому он просто мертвой хваткой вцепился в руль, тогда как Кьяра, чувствуя его хорошее воспитание, не стеснялась пускать в ход кулаки и зубы. Мы позволили противостоянию развиваться «до первой крови», но когда дочка принялась щипаться лошадью Пржевальского, пришлось вмешаться.
— Так, Кьяра Гийомовна, это что за выходки?! — протрубила я грозно, и все детские головки обернулись в мою сторону. Лука испуганно отпустил руль самоката.
В моменты гнева я называю дочку по имени-отчеству: на мой взгляд, это должно призывать ее к ответственности. Она и вправду тут же устыдилась своего поведения, не достойного взрослого двухлетнего человека, покаянно села на добытый самокат, всем своим видом давая понять, что он ей теперь совсем не нужен — просто подвернулся под попу.
— Кьяра Гийомовна — это сильно, — рассмеялась Людмила. — И главное, как действует! Мой вот Лукьян Рафаэлиевич… Сплошь мягкие звуки, никакого воспитательного эффекта!
— Рафаэль вообще рядом со всем нежно звучит, — поддакнула я. И задумалась. Куски пазла складывались в неожиданную картину.
— Да уж, — немного грустно произнесла Люда. — Когда я его в загсе оформляла, нас сразу внесли в список редких имен. А отчество переписывали три раза, представляешь? То «е» вместо «э» писали, то «и» после «л» забывали, то мягким знаком это «и» норовили заменить… Но я отстояла! Не зря у нас в институте был специальный курс транслитерирования иностранных имен под руководством…
— А хочешь, я расскажу, как твой муж сделал тебе предложение?! — перебила я, озаренная догадкой.
Люда удивленно посмотрела на меня:
— Вряд ли у тебя получится. Как и подобает человеку с таким именем, он сделал это очень красиво и необычно! Не на Эйфелевой башне, если ты об этом.
Я замотала головой:
— Конечно же не на Эйфелевой башне. Это было теплым июльским вечером, вы прогуливались в Ботаническом саду, дошли до карусели и засмотрелись на катающихся детей. Вы тогда часто засматривались на детей, ведь ты была на пятом-шестом месяце беременности. А потом он предложил сесть…
Людмила смотрела на меня странно. Я несколько секунд интриговала ее многозначительным молчанием, а потом рассмеялась:
— Да не волнуйся, я не медиум! Я просто очень люблю читать вашу табличку! Ну и даты высчитать не составило труда, Луке ведь не больше трех.
— Она до сих пор там, наша табличка? — воскликнула Люда. — Я думала, их меняют раз в год. Представляешь, я с того раза в Ботаническом саду и не бывала!
— Зато я туда хожу через день, — вздохнула я. — Мы живем неподалеку.
Мы с Людой расстались, обменявшись номерами телефонов и договорившись о встрече в Ботаническом саду в ближайшие дни.
Я шла домой, толкая перед собой коляску с посапывающей Кьярой, и думала, как все-таки показателен Людин случай. Любая история про любовь с французом, рассказанная в четырех строчках, заставляет мечтать и завидовать: сплошные карусели да рафаэли. А когда начинаешь рассказывать ее на пятнадцати авторских листах со сносками, появляются все эти иммиграционные офисы, визы, лифты шириной тридцать сантиметров, спесивые официанты, прожиточный минимум, биржа труда, багеты в морозилке, брачный контракт и заячий ужас перед судебной системой. И хочется уже не мечтать и завидовать, а предложить человеку помощь.
Здоровенный детина, просящий милостыню у дверей универмага «Монопри» в дождь и солнцепек, начал желать мне удачного дня. Это похоже на первую стадию адаптации. В хорошую погоду он даже делает шуточный реверанс и к пожеланию удачи добавляет «принцесса». Я глупо краснею и, расталкивая коленями пластиковые пакеты с продуктами, тороплюсь забежать за угол. Мне страшно приятно и в то же время страшно неловко. Когда он только появился на своем «рабочем месте», я не подавала ему милостыню из принципиальных соображений: взрослый двухметровый лось не нашел лучшего занятия, чем усесться с шапкой у входа в супермаркет! Это возмутительно, ведь я вынуждена следить за ребенком, вести хозяйство и администрировать журнал. Теперь мне неловко подать ему, ведь мы как бы приятельствуем, и милостыня от меня могла бы его обидеть. С нищими в Париже всегда так: не знаешь, что больше заденет их классовые чувства — снисхождение или равнодушие. Французские маргиналы — как, впрочем, и французские официанты — умеют заставить законопослушного, работящего человека почувствовать себя на несколько ступеней ниже их на лестнице эволюции.
При социальных пособиях, съедающих треть государственного бюджета, нищенство во Франции не вынужденный, а почетный и уважаемый экзистенциальный выбор. Это форма протеста против ценностей капиталистического общества — бытового комфорта, бездумного потребления и карьерного роста. Те, кто выбирает нищенство, подают обществу пример возвышающего нигилизма; те, кто подает нищим, демонстрируют тем свою слабость этому примеру следовать. Подавая милостыню во Франции, ты не чувствуешь ни щемящего чувства стыда за то, что оказался в лучших жизненных обстоятельствах, ни разливающегося в желудке тепла от своего маленького благодеяния. Фактически ты платишь этому дурно пахнущему человеку в лохмотьях за то, что он своим видом позорит существующий социально-экономический строй. «Спасибо, чувак, что взял на себя труд высказаться и от моего имени», — как бы говоришь ты, кидая двадцатицентовую монетку в облезлую шапку или стаканчик из «Макдоналдса», ведь ругать капитализм в Европе модно.
Французские маргиналы отлично экипированы для жизни в урбанистических джунглях. Они спят в утепленных тройным слоем нанотехнологического синтепона спальных мешках, ставят комфортабельные палатки на вентиляционных решетках, чтобы греться парами из водопровода, возят свой скарб на тележках с моторчиком. Один благообразнейший эсдээф (аббревиатура, аналогичная форме «бомж», образованная от sans domicile xe — «без определенного места жительства»), облюбовавший крыльцо Школы дизайна костюма на бульваре Сен-Марсель, владеет даже солнечной батареей; она гордо стоит на его гигантском, в человеческий рост, рюкзаке и манифестует об экологических корнях его протеста. В половине шестого вечера эсдээф отлепляется от своего рюкзака, где хранится все нажитое непосильным безделием, переходит через дорогу, устраивается на террасе кафе напротив, заказывает чашку кофе и — внимание! — вытягивает из-под свитера миниатюрный ноутбук, немало не стесняясь попасться на глаза тем, кто подавал ему милостыню. Он, возможно, вовсе не беден и не собирается этого скрывать — он нищенствует из принципа.
Несмотря на эксцентричный внешний вид, парижские клошары никогда не теряют лица. Они питаются в плавучей едальне, если только соцработники не привозят им горячую еду на соседнюю улицу, курят трубки — последний сувенир из оседлой жизни — и пьют вино, непременно из стеклянных бокалов. Изящные, хрупкие, непрактичные, бокалы рядком стоят вдоль застегнутых спальных мешков, отличая французских клошаров от бездомных из любой другой страны. Парижская мэрия даже устраивает для них турниры по футболу — вряд ли что-то красноречивее свидетельствует о том, что чиновники не чувствуют за собой вины и стыда за жизненную ситуацию этих горожан.
Пользуясь слабостями либеральной конституции, эсдээфы разбивают стоянки на мраморных ступенях люксовых резиденций, на живописных набережных и даже на оживленных перекрестках — на бойкой развязке у моста Аустерлиц, где пять сливающихся проспектов образовали несколько островков безопасности площадью от двух до семи квадратных метров, стоит целый палаточный городок.
Кроме того, парижские эсдээфы — эталоны моды кэжуал. Врожденное чувство стиля помогает им так комбинировать вещи, полученные в раздаточных пунктах, что им хочется подражать. Шерстяной жилет поверх рубашки в мелкий цветочек, потертый вельветовый пиджак и обязательное кашне контрастного цвета, штаны, когда-то составлявшие строгую офисную пару, а теперь расслабившиеся в компании вытянутого домашнего свитера, кожаные туфли с задорно торчащими носами, кепи, шляпа или даже моряцкая фуражка, венчающая свободную стрижку. На иных трудно не заглядеться.
У меня были поводы в деталях их разглядеть. Кроме ужаса перед многоэтажками, у Гийома есть еще одна редкая фобия — страх кончить жизнь клошаром. Поэтому он часто заговаривает с ними на улице, а если подает милостыню, то только в обмен на полезные советы. Иногда, когда я в Москве, он приглашает этих людей домой, чтобы побольше узнать об их уличном быте и теоретически к нему подготовиться. Он позволяет бездомным мыться в нашем метровом душевом поддоне, сидеть на диване, который мы на ночь раскладываем в кровать, и пить пиво, припасенное для аперитива с друзьями.
Став семейным человеком, он, слава богу, отказался от подобных социальных экспериментов. Но от фобии не излечился. Более того, он заразил е меня. Я начала подумывать о том, как комфортно разместиться на перекрестке у моста Аустерлиц, сколько картонных коробок от жидкокристаллических мониторов понадобится, чтобы устроить Кьяре детскую, и где подзаряжать телефон. Потому что квартира на бульваре Сен-Марсель, радушно принимавшая двух одиноких провинциалов, Гийома и Готье, к семье с ребенком отнеслась, мягко говоря, негостеприимно.
Полнометражная история про малометражную квартиру
Пикантные тарталетки с фуа-гра и чатни из фиг
Тартар из лосося и гребешков
Флан из спаржи
Улитки, томленные в сливочном масле с травами
Жареная дорада с сабайоном из шампанского
Сырная тарелка с тремя видами конфитюра
Бисквитный торт с малиново-ежевичной подливкой
Я пробегала глазами меню для французской свадьбы, которое свекр прислал нам на утверждение, и жевала остывшие спагетти под баночным соусом аррабьята — кетчуп мне покупать давно запретили. Торжество было назначено на первую годовщину нашей семейной жизни, и единственной нашей задачей — кроме того, чтобы не развестись — было не забыть последовательность фигур в вальсе новобрачных. Остальные заботы взяли на себя родители Гийома.
Меню выглядело очень по-французски, как я и хотела, и даже написанным на бумаге смотрелось аппетитнее, чем то, что лежало у меня в тарелке. Ужин был снят с конфорки три минуты назад и, когда мы приступали к чтению перечня закусок, еще испускал ароматный дымок. Но к моменту обсуждения десертов макароны изрядно подмерзли и потеряли лоснящийся от оливкового масла вид, а потемневшая и скукожившаяся аррабьята напоминала не о солнечной Сицилии, а о сосланной на галеры консервных запасов томатной пасте. За окном было плюс два, в квартире было плюс шесть, и снова февраль. Все важные события моей жизни уходят корнями в этот месяц. И все они, как правило, начинаются с довольно мрачной экспозиции.
В ту ночь я долго не могла заснуть по очень парижской причине — весь двор занимался любовью. Кто-то перед сном слушает трели соловьев, а мы — предкоитальные крики. «Ах!», «О-о-х!», «Уййй!» — доносилось из окна четвертого этажа левого дома. «Айууу!», «Аййййяяя!», «Оййёёё!» — лилось с пятого этажа правого дома. «О-о-оо-о-о-о!» — голосили соседи с мансарды. «Ех!», «Ух!», «Ех!», «Ух!» — вторили им с мансарды напротив. «Оуииии! Анкор-анкор!!!!» — заливался женский голос из угловой квартиры. Я больно ущипнула спящего Гийома за пузо.
— А?! Что?! Где?! Что она натворила?! — закудахтал он.
— Наша сексуальная жизнь превратилась в черт-те что, — горько сказала я, глядя в темноту.
Гийом хлопал глазами:
— Ты же сама сказала — холодно!
Неизвестно, как мы продержались полгода, да еще и думаем о второй свадьбе. Ведь эта квартира может убить любую, даже самую сильную любовь. В ней всего на несколько градусов теплее, чем снаружи, и Кьяра, приходя домой после прогулки, наотрез отказывается снимать термобелье. Чтобы удержать драгоценное — и дорогостоящее — тепло от электрорадиаторов, мы вынуждены были отказаться от проветривания. Тогда квартира начала вонять. Я выбрасываю пакеты с использованными памперсами и корочками сильнопахнущих сыров несколько раз на дню, но это не помогает. В помещении поселился необъяснимый и неистребимый запах гнилости. По стенам ванной ползут черные и оранжевые пятна, сигнализирующие, что здешний фэн-шуй критически нарушен и квартира больна какой-то неизлечимой болезнью.
Мы даем больной квартире лекарства: заливаем в унитаз гель для дезинфекции, смазываем мастикой щели вокруг душевого поддона, капаем ароматические масла в зловонную раковину. Мы даже проводим мини-операции, не требующие выселения: извлекаем из вытяжки комки черной пыли, вытаскиваем из сливных труб тромбы слипшихся волос и овощей, латаем скотчем вентиляционные дырки на рамах и укрепляем дощечками разваливающиеся встроенные шкафы.
Все эти гомеопатические меры помогают лишь на пару дней. Очевидно, что состояние квартиры требует серьезного хирургического вмешательства при полной анестезии. То есть в отсутствие жильцов. А пока нам некуда деваться, мы практически спим в одежде — в специально купленных в Москве байковых пижамах с начесом.
Дворы-колодцы — такое дело, никакой интимности. Вся жизнь нараспашку. На первом этаже уронил кастрюлю — на восьмом подумают, что началась бомбардировка. Мадам Лопез по субботам жарит рыбу, итальянец с пятого любит диско, у Анн-Мари убежал кофе, Розали позвонила подруга, вдовец с четвертого вчера вернулся за полночь — об этом знает весь дом. Точнее, четыре дома, сцепившиеся в объятии вокруг крошечного — пять на пятнадцать метров — внутреннего дворика. И все эти четыре дома наверняка думают: у молодой пары с третьего этажа что-то не ладится — у них уже три недели не было секса!
Я вздохнула и поглубже закуталась в одеяло. Если мы хотим сохранить семью, надо срочно съезжать.
Уже несколько недель я сплю между двумя мужчинами — мужем справа и Сержем Генсбуром слева. Его огромный черно-белый постер занимает всю стену спальни, которая замучила нас требованиями побелки. Она не одна такая: о побелке ноет также стена в коридоре, о ней молят все четыре стены детской. Но поскольку у нас маленький ребенок, который не переносит бытовых химикатов, и куча сопутствующего ребенку хлама, который не перенесут все вместе взятые друзья, побелка откладывается на неопределенный срок. На завешивание стен идет все, что крепится кнопками к гипсокартону: листы старых календарей, скатерти, открытки, информационные листовки, карты метрополитена и флаги неизвестных государств. Однако сегодня исторический день: Гийом купил картину. Он никогда бы на это не пошел, но иметь жену со средним художественным образованием — это обязывает. Особенно в ее день рождения. Мы повесили подарок на единственную белую стену — до сих пор она укрывалась от разрушительного влияния времени под марокканским ковром, который самоотверженно выцветал и пачкался вместо нее. Картина преобразила гостиную. Она блистала на белоснежном фоне посреди полной разрухи, как бриллиант в навозной куче. Рядом с ней все стало выглядеть еще более жалким и неопрятным.
— Так и знал, что добром это не кончится, — горестно вздохнул Гийом, глядя на полотно. — Теперь ты захочешь переехать в гостиную, в которую не стыдно было бы повесить эту картину.
Приходится признать, что я для мужа давно не загадка. Я уже пару недель переписывала референтные номера понравившихся квартир с объявлений в витринах агентств по недвижимости. Строить семейную жизнь в холостяцком приюте противоестественно. Растить ребенка в гарсоньерке — негуманно. Разместить три комнаты на площади тридцать семь квадратных метров — аморально. Отсюда нужно бежать до того, как Кьяра перестанет помещаться в складной манежик. А судя по тому, как она налегает на остывшие макароны с мясом, этот день недалек.
Верная примета: если начала стихийно биться посуда и ломаться мебель, это к переезду. За последние две недели апреля мы необъяснимым образом перебили все, из чего можно пить.
Внушить Гийому мысль сменить квартиру было не так то просто. За пять лет, проведенных здесь, он будто пророс в нее корнями. Тогда я решила брать его измором — и купила пластиковые фужеры.
Подходила к концу очередная серия «Доктора Хауса», когда из кухни донеслось: «Эт-то что такое?!» Муж вошел в гостиную, держа в одной руке чашечку фужера, в другой — его ножку.
— Правда, гениально? — с энтузиазмом сказала я. — Мало того, что они не бьются, они еще и очень компактно складываются: ножки отдельно, чаши отдельно.
— Ты серьезно? Я что, должен из этого пить?
— Ну, милый, это временная мера. Они объективно удобнее в хранении и перевозке. Мы же живем почти на чемоданах. Как только обустроимся в новой квартире, где будет место для серванта, сразу купим стеклянные.
Гийом посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, будто измеряя пропорции наивности и умысла в моих словах, клацнул зубами и вышел.
Расчет оказался верным: муж может жить в руинах, в холоде, терпеть соседство холодильника с платяным шкафом и хранить диски в мини-баре, но пить вино из пластиковых бокалов выше его сил. Поэтому на следующий день он скачал на мобильный несколько специальных приложений по поиску квартир, а через неделю у нас было назначено уже два визита.
Лучший, если не единственный, способ свести тесное знакомство с Парижем — ввязаться в поиски съемной квартиры. Тогда вам откроются самые красивые парижские дворики, защищенные от посторонних глаз кодовыми замками, спрятанные за заборами розарии, джунгли с лимонными деревьями, надежно оберегаемые от проникновения табличкой «Частная собственность», скрипучие деревянные лестницы, подвалы с готическими арками, камины, лепнина на потолках и вытершиеся фрески на стенах… Но вам будет не до этого. Вы будете думать о том, есть ли в этом доме общественная кладовка для колясок, потому что в нем нет лифта, а вы присматриваетесь к квартире на шестом этаже. Вы будете высчитывать, соответствует ли размер бойлера ежедневной потребности вашей семьи в горячей воде, ведь вода подогревается только раз в день. Вы будете недоумевать, почему — нет, ну ПОЧЕМУ?! — в современных домах не делают выход под люстру на потолке и освещать комнату придется четырьмя торшерами. А также вы будете вспоминать самые вычурные формы вежливости, чтобы попросить «гарантов» — людей, которые обязуются платить за вас, если вы, например, потеряете работу, — проехать три с половиной часа на поезде ради одной подписи в контракте о съеме. За два месяца мы сделали уже три десятка визитов в разные концы города. Парижские квартиры оказались собранием курьезов. Если с одной стороны окна выходили на оживленный проспект, то с другой — непременно в глухую стену соседнего дома. Ванна — если она вообще была — могла стоять поперек ванной комнаты. В душ надо было заходить через кухню. А кухня могла быть оборудована прямо в коридоре. Но мы не сдавались — у нас просто не было выхода, потому что чем ближе была календарная осень, тем чаще забытая на лето флисовая телогрейка мелькала в недрах платяного шкафа.
График был составлен плотно: съездить в пригород в обеденный перерыв Гийома, успеть забрать Кьяру из сада и метнуться с коляской в центр в час пик, по дороге унять голод купленным йогуртом и успеть на встречу с агентом по недвижимости в противоположный конец Парижа. Сегодня Кьяру в сад отводила подруга Синди: мы ездили смотреть квартиру в пригород Сен-Мандэ, куда из нашего Латинского квартала добираться около часа. Для москвички съехать из столицы — значит выкинуть белый флаг. Но рынок парижской недвижимости научил меня невиданному смирению.
«Бессердечный народ!» — воскликнул Гийом, когда я рассказала ему, как в России борются с арендаторами-неплательщиками («Хозяин вызывает милицию, стоит у двери с ключом и паспортом и растерянно говорит, что, пока он был в отпуске, в его квартире поселились неизвестные, и через две минуты бывшие жильцы сидят в камере предварительного заключения»). «Бессердечный народ!» — кричал муж и даже топал ногами, когда за два с половиной месяца наше досье на съем отклонили в восьмой раз под разными предлогами.
Согласно пирамиде Маслоу, жилье — одна из базовых потребностей человека. Из этого тезиса, который, правда, давно опровергли парижские эсдээфы, родился один гуманный французский закон, ограничивающий домовладельца в возможностях выселить квартиранта. Говорят, особо злостные неплательщики, если только умеют как следует трактовать этот закон, могут оставаться в неоплаченной съемной квартире до трех лет!
Это, конечно, заставляет домовладельцев принимать всяческие меры безопасности, чтобы не превратить доходный актив в пассив, грозящий капитальным ремонтом и судебными разбирательствами. Поэтому все претенденты на жилплощадь должны предоставить досье объемом восемьдесят — сто страниц с полным описанием своей жизненной ситуации, вплоть до того, наследства в каком размере и в какие сроки они ждут от бабушки по папиной линии. Половина досье посвящена самим потенциальным съемщикам, другая половина — их гарантам, людям, с которых будут взыскивать долги в экстренных случаях.
Наше досье было, объективно говоря, «золотым»: финансист крупной страховой компании и журналистка издания с международной репутацией; солидная цифра совместных сбережений; ребенок, уже вышедший из возраста рисования на стенах; отсутствие домашних животных. Поэтому мы хотели всего и сразу: ванну, террасу, двойные стеклопакеты, центральное отопление, живописный вид и благополучный квартал. Гийом также подчеркивал необходимость подвала, где можно будет с комфортом устроить его богатую коллекцию дисков, а я настаивала на внутреннем дворике и неравнодушной консьержке — тогда Кьяра могла бы гулять под окнами, пока я работаю.
В агентствах нам быстро объяснили, что пределом наших мечтаний может быть мансарда на шестом этаже без лифта в китайском квартале. И это при том, что ее хозяин будет неразборчив в выборе кандидатов. Потому что разборчивый хозяин знает, что первые четыре месяца работы в солидной страховой компании называются «испытательный срок» и могут окончиться без предупреждения, а статус журналиста в России чреват неожиданной потерей одного из кормильцев. Что до детей младше восемнадцати лет, то это вообще красный свет для потенциальных арендодателей, ведь семью с несовершеннолетними выгнать из квартиры не посмеет ни один судебный пристав.
Так что мы без всякой надежды ехали в буржуазный семнадцатый округ, где домовладельцы слишком хорошо знают цену своим квадратным метрам и отличаются редким снобизмом по отношению к квартирантам. Сентябрь уже предупреждал о своем скором приходе желтыми листьями, и мы подумывали, не стоило ли согласиться на ту мансарду с неразборчивым хозяином, за которую так агитировал агент по недвижимости.
У подъезда нас встретил усатый человек в желто-синем кашне. Он также мало походил на среднестатистического агента по недвижимости, как Сальвадор Дали — на банковского служащего.
— Вы быстро реагируете, — сказал он, пожимая руку Гийому. — Я разместил объявление только вчера.
— Мы давно ищем, — многозначительно ответил муж. Агент улыбнулся в подкрученные усы и сделал приглашающий жест рукой в сторону двери.
Квартира с порога сообщала, что здесь жили непростые люди. В прихожей развалилось оранжевое кресло-пуф, на стене коридора зеркальной плиткой был выложен силуэт убегающего человека, плита и холодильник были обклеены комиксами про Тентена, а разноцветные комнаты наполнены мебелью явно собственного производства. Я с восторгом показывала Гийому миниатюрное креслице с широким подлокотником для бокала вина и пепельницы и разноуровневый диван, на котором можно сворачиваться питоном. Муж отзывался вежливыми междометиями: он был занят изучением розеток, окон и батарей.
Я зашла в спальню, и тут меня, что называется, проняло! На стене висела картина, с которой, обернувшись через плечо, на меня смотрела грустная женщина. Она была нарисована карандашами, простыми серыми графитными карандашами разной степени мягкости, и из-за того, что строгие, полупрозрачные штрихи 4Т переплетались с развязными, жирными штрихами 5М[40], контуры тела казались движущимися, а глаза — пульсирующими.
— Ой, — непроизвольно вырвалось у меня.
Агент, сопровождавший меня по комнатам, встал рядом.
— Это что-то из коллекции предыдущего жильца. — Он неопределенно крутанул рукой в воздухе. — А что, вам нравится?
— Очень, — честно ответила я, любуясь линиями, которые поймали, как в ловушку, ускользающую красоту шестого десятка. — Натурщица очень характерная, и видно, что художник к ней неравнодушен. Смотрите, она как будто бы сейчас двинется! Так уловить грацию, так схватить позу — этот рисовальщик настоящий мастер. Интересно, там есть подпись?
Я с любопытством подалась вперед.
— Ро… Дегар… Во, — попыталась я расшифровать каракули в правом нижнем углу холста.
— Роже Донкур-Верье, — подсказал агент.
— О, так вы его знаете!
— Немного.
— А натурщица — какая-нибудь известная французская актриса?
Повисла пауза.
— Это моя жена.
Я в изумлении повернулась: он пристально смотрел на картину и еле заметно тряс ладонями.
— Мы прожили здесь двенадцать счастливых лет, а четыре месяца назад она умерла. Все так быстро произошло, я даже не успел опомниться, сгорела буквально в две недели. От рака легких сгорают очень быстро, так сказал врач. Четвертая стадия… А я ничего не замечал. Ну, покашливала, подумаешь. Марчелла… Моя Марчелла. Ненавидела врачей! Она итальянка. Такая сильная, гибкая, страстная! Разве какая-то болезнь могла ее угомонить! А вот нате ж… Мы все время ссорились, кричали так, что соседи звонили в полицию. А потом мирились. И когда мирились, я ее рисовал.