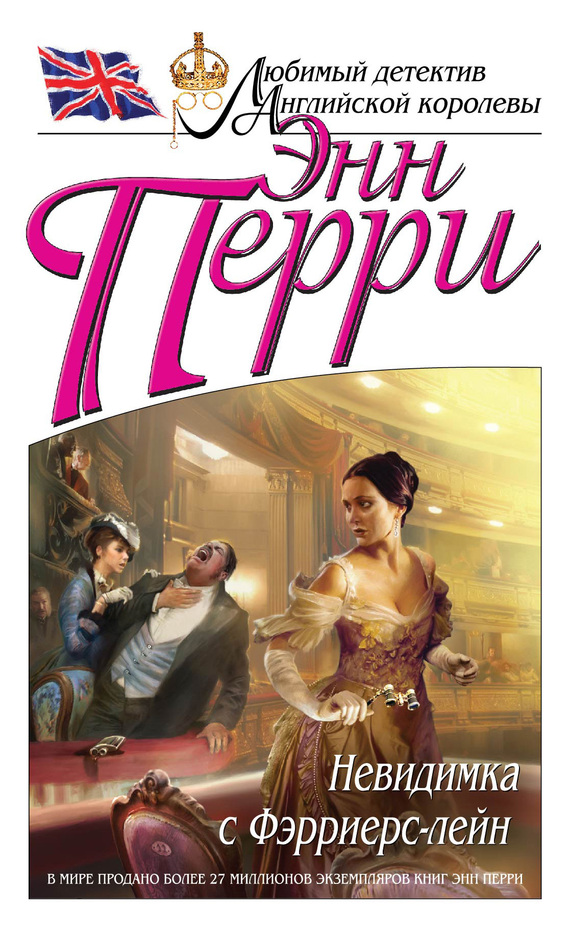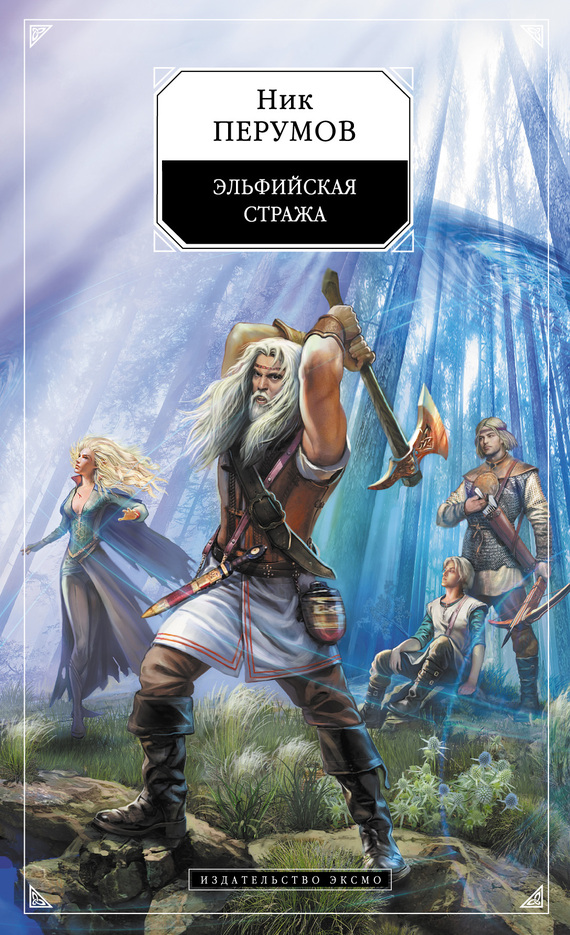Как жить с французом Мийе Дарья

— Поверните ее по диагонали, пусть голова хоть висит прямо по отношению к плечам. Я потом разверну кадр в фотошопе.
Через две недели Кьяра получила первый в жизни выездной документ, еще через две недели — первую визу, а когда ей было два месяца, села в свой первый самолет. То есть сидеть она еще не могла — она висела в слинге, перекинутом через мое плечо. Так она ехала знакомиться со второй родиной.
Новой жизни — новое место
То, что женщины обходятся дорого, Гийом понял не тогда, когда я попросила его взять за правило угощать меня в ресторане. И не тогда, когда он с лихвой переплатил за сомнительный отпуск в зимнем Египте. И даже не тогда, когда узнал, что из-за авторитарной политики ценообразования Москва — одно из самых дорогих авианаправлений в мире. То, что женщины обходятся дорого, он понял, впервые получив полный счет за аренду квартиры, которую до сих пор снимал на пару с Готье. Друг детства спешно съехал в преддверии нашего с Кьярой визита.
Гийом стоял посреди пустой квартиры и мысленно подсчитывал, во сколько ему станет экипировать ее заново холодильником, стиральной машиной и столовыми приборами — все это принадлежало Готье и последовало за ним на новое место. С Гийомом остались только верные диван-кровать, микроволновка и гитара. Он стоял и думал, что этих трех предметов ему вполне хватило бы для счастливой жизни, но из телефонной трубки доносился мой звонкий голос: «…манежик, игровой коврик, а еще обязательно детский стул и кроватку».
К нашему приезду Гийом потратил все сбережения на покупку необходимой бытовой техники. Он ел из глубокой чашки, использовал кухонный нож вместо столового и вообще почти потерял человеческий облик. Пришлось срочно одолжить у друзей машину, а у Кьяры — надаренный родственниками «детский капитал» для визита в «ИКЕА».
«ИКЕА» для французской молодежи — предприятие домообразующее: жилища граждан до тридцати пяти лет в ультимативном порядке обставлены по ее каталогам. Каждый третий житель страны наизусть знает актуальный прейскурант продукции. Стеллаж Билли, комод Мальм, бокалы Свалка и столик Лак стали обязательным для среднестатистической квартиры, а тайком вынесенные из магазина каталоги — любимым туалетным чтивом. В «ИКЕА» непременно наведываются накануне самых важных в жизни событий: переезда от родителей, свадьбы, рождения ребенка, сборов в школу. За год французские магазины фиксируют пятьдесят миллионов визитов, из них львиная доля приходится на выходные дни. Поэтому субботняя забастовка в магазинах шведской марки так или иначе отпечаталась в биографиях тысяч людей, приехавших к заветным синим амбарам с голодно лязгающими багажниками. У ворот магазина в одном из парижских пригородов активисты в ярко-зеленых майках курили, болтали и гордо позировали перед камерами мобильных телефонов, высунутых из окон проезжающих машин. На майках были приколоты альбомные листки с призывами: «Не позволим шведам наживаться на нас». Потенциальные клиенты с чувством жали руки бастующим. Некоторые даже подкармливали их шоколадом. Ведь за неделю, что разыгрывался мебельный конфликт, стараниями профсоюзов и СМИ общественности стало известно, что французские филиалы в прошлом году принесли «ИКЕА» пятьдесят два миллиона евро чистой прибыли. А из душещипательного интервью «простой работницы Каролины», которая отдала пять лет жизни отделу детской мебели магазина под Парижем, слушатели крупнейшей новостной радиостанции Эр-тэ-эль узнали, что работники «ИКЕА» получают тысячу триста евро — критический минимум по меркам столичных заработков.
Я с восторгом и умилением смотрела на это единение двух противоборствующих в капитализме сторон перед лицом иностранных интервентов. «Нам нужна ваша поддержка», — скандировали работники, нимало не смущаясь тем, что с точки зрения экономической логики клиент и сотрудник магазина стоят по разные стороны баррикад: выгода одного обратно пропорциональна выгоде другого. Но, похоже, никто, кроме меня, не думал о шкурных интересах в этот момент. Я же тихо радовалась, что мы решили произвести перестановку именно сейчас, а не через несколько месяцев, когда профсоюзы вынудят руководство принять их условия и единственно доступная нашему бюджету мебель подорожает на четыре — шесть процентов.
Французов на генетическом уровне объединяет ненависть к эксплуататору. Правда, сторонний наблюдатель часто принимает это благородное чувство за лень или жадность. Ведь как бывает: несешься после работы в магазин с приготовленными деньгами, вбегаешь — 18.02, но продавщицы еще мирно болтают за кассой. С порога радостно кричишь им:
— Мне, пожалуйста, вон ту кофточку, я ее в обед заходила померить.
— Простите, мадам, мы уже закрыты.
— Но ведь вы еще здесь…
— Простите, мадам, у нас рабочий день до шести.
— Но у меня без сдачи! И без примерки!
— Простите, мадам. С нетерпением ждем вас завтра.
Юные продавщицы непреклонны. Это доводит до белого каления вечно спешащих туристов, но вызывает уважение у тех, кто за ослиным упрямством видит революционную выдержку. Возможно, эти легкомысленно одетые девочки плохо знают историю, но их бессознательное помнит, за что боролись деды и прадеды — за семичасовой рабочий день, полуторачасовой обеденный перерыв и дополнительный выходной каждый месяц. После восемнадцати ноль-ноль дорогой клиент автоматически становится подлым эксплуататором, потому что пытается узурпировать то свободное время, которое кровью отстояли героические предки. И каждый, кто работает сверх нормы, предает их светлую память.
Цена икеевского вопроса — три процента, что в переводе на среднюю зарплату магазинного работника составляет тридцать девять евро. Из этого очевидно, что вовсе не деньги стали камнем преткновения в этой истории. Дополнительные тридцать девять евро не изменят печальной жизненной ситуации разгрузчика коробок или складского менеджера, хотя, безусловно, не будут лишними. Но деньги в системе ценностей французского кадрового работника — дело десятое. Главное — самоуважение, которое зиждется на весьма радикальных понятиях о социальной справедливости. И в этом вопросе французы обожают идти на принцип! Поэтому-то их трудовой график вызывает зависть у всего мира.
Культурная программа на ближайшую неделю была определена: понедельник — сборка детской кроватки, вторник — комода для детских вещичек, среда — платяного шкафа для взрослых, четверг — родительской кровати. Раньше четверга за кровать никак нельзя было взяться, потому что выписанный из Германии ортопедический матрас, согласно инструкции, «отдыхал» после переезда — насыщался воздухом и обретал форму, разлегшись поперек комнаты. Мы же ночью ютились на клик-клаке, зажатом со всех сторон картонными коробками и скелетами полусобранной мебели.
Я существенно расширила свой словарный запас, причем сразу в обоих языках: теперь я не только знала, как будет по-французски «крестовидная отвертка», «киянка», «саморезы» и «ковровидное основание под матрас», но и понимала, что это значит по-русски. Штудирование мебельных каталогов и чтение инструкций незаметно вытеснило из обращения английский язык, на котором мы общались до сих пор. Трудно переводить на него французские технические термины, особенно когда не знаешь точно, что за ними скрывается. Это было настоящей культурной революцией, которая прошла незамеченной в скрипе пенопласта, рокоте картона, визжании дрели и шуршании оберточной бумаги.
Мы положили на пол гостиной черный ковер и убедили себя в том, что это в корне изменило ее вид. Ничего более радикального конфигурация этой недоразвитой комнаты сделать не позволяла: телевизор — теперь плоский — так и остался стоять на табуретке рядом с холодильником, а раздвижной диван был приговорен нефеншуйно смотреть на входную дверь. После появления кровати в нашей спальне места не осталось ни для чего, кроме нас самих, так что детская теперь выглядела как подсобное помещение. Над манежем с двух сторон нависали гладильная доска и шланг пылесоса, а игрушки были запихнуты под рабочий стол, перекрывающий доступ и без того скудного света в комнату.
Зато теперь мы ели из тарелок одинакового цвета и вилками из одного набора, а под приборы даже клали матерчатые салфетки!
Каждое утро консьержка мадам Лопез подсовывает под двери жильцов корреспонденцию. Счета за газ и электричество — в «экологичных» коричневых конвертах. Специальные предложения от магазинов — в ярких глянцевых. Письма из инстанций — в строгих белых. Под нашей дверью оказывались в том числе открытки из разных стран, целлофановые пакеты с журналами по финансам, украшенные виньетками депеши из банков, где Гийом числился почетным клиентом… Обмениваться письмами — единственный во Франции способ общения между человеком и Системой. Когда в ворохе макулатуры попадаются карточки с номерами экстренной помощи и справочными телефонами, я сразу их выбрасываю: наверно, если квартира загорится, эффективнее будет отправить пожарникам срочное заказное письмо.
Сегодня среди конвертов один привлек мое внимание: он был коричневый, но не тот экологичный коричневый, который выдает счета за электроэнергию, а красивый шоколадно-коричневый, на который ушло много типографской краски и уйма производственных мощностей. Внутри было приглашение на свадьбу неких Себастьяна и Анаис.
— Ну, вот видишь, а ты говорила, он морочит ей голову, — удовлетворенно сказал Гийом вечером, прочитав приглашение. — Это те самые, которые собирались пожениться два года назад.
Теперь вспоминаю. Себастьян сделал предложение Анаис два года назад, и свадьбу они назначили на это лето. Это было поводом для едких шуточек:
— Ха-а, то есть он ей сказал: «Дорогая, я непременно женюсь на тебе… годика через два»?
— Да, а что в этом смешного? — не понимал Гийом.
— Я бы подумала, что это разводка. Типа, отдайся мне сейчас, а я, как честный человек, женюсь на тебе после дождичка в четверг.
Гийом смотрел на меня с выражением: «Бедная!» Здесь, в Европе, свою жизнь принято пла-ни-ро-вать. Его друзья встречались по семь — десять лет, прежде чем решиться на брак, зато, решившись, сразу шли в церковь. В приглашении, которое мы разглядывали, так и было написано: «Торжественная месса, посвященная бракосочетанию, начнется в часовне города Бриньоль в 10.00 17 июля».
— А что надевают на мессу? — тихо спросила я.
— Что-то… м-м-м… скромное. И чистое, — сказал Гийом, окинув меня взглядом: домашние штаны в опилках, которыми были переложены полки разборной библиотеки, шерстяные носки, растянутая кофта в пятнах клея и оливкового масла.
Да, я давно не делала маникюр, не надевала выходное платье и говорила в основном о преимуществах стеллажа Леквиск перед этажеркой Олсвик. Причем часто говорила сама с собой: Кьяра пока не вступала в осмысленные диалоги, а Гийом все время был на работе. Но несмотря на внешнюю деградацию, строить новую жизнь было по-настоящему увлекательно. Оказывается, я впервые строила чью-то жизнь — вот так чтобы с полной ответственностью, набело, без спасительной мысли, что придет мама и все исправит. Мне нравилось ругаться с Гийомом из-за модели шкафа, выбирать форму кресел, приводить десяток аргументов, почему синий цвет столешницы лучше персикового, присматриваться к мебели на вырост в детскую, высчитывать миллиметры для того, чтобы разместить прикроватную тумбочку, убеждать его в прелести цветных обоев и рисовать планы перестановки на салфетках.
Но это никак не приближало меня к тому, чтобы считать нас семьей.
Так нельзя, думала я, глядя на фотографию на приглашении. Эти люди рассчитали наперед свою жизнь, исходя из того, что их любовь будет вечной. А ведь это все равно что рассчитывать бюджет Российской Федерации на шестьдесят лет, заложив в «Дано» цену на нефть в семьдесят рублей за баррель. За шестьдесят лет многое изменится. В Европе могут найти свою нефть, нескандальную и биосертифицированную. Французские ученые могут выяснить, что в российской нефти содержатся канцерогены, и весь мир захочет исключительно ближневосточной нефти. Американские энергетики могут вообще открыть бесчисленные источники альтернативной энергии, и нефть превратится в никому не нужную пачкающую жидкость. А бюджет уже рассчитан!
Только квартира начала обретать человеческий вид — абажуры были развешены, зеркала отмыты, а игрушки собраны в подвесную оранжевую сетку, — нам с Кьярой пришла пора уезжать. Меня ждала работа, ее — курс ортопедического массажа. Прощаясь, мы с Гиоймом одновременно поняли, что теперь в моих возвращениях в Париж появилась какая-то конкретика. Она исчислялась количеством денег, вложенных в обстановку квартиры, и часов, потраченных на сборку мебели. К тому же точка возврата была зафиксирована в календаре: семнадцатого июля я совершенно точно должна была быть в Провансе, чтобы первый раз в жизни присутствовать на свадебной мессе.
В поисках лаванды
Ницца — это город студенческой ностальгии Гийома. Каждое кафе напоминает ему, как они с однокурсниками отмечали сданный экзамен, каждый сквер полон воспоминаний о прогулянных лекциях по экономике, каждое мало-мальски примечательное здание он посещал в поисках съемной квартиры. Я понимаю, как трудно ему оказаться здесь сейчас в роли отца семейства, когда за плечами вместо рюкзака с конспектами болтается кенгуру с полугодовалой дочкой, а рядом вместо авантюрно настроенного приятеля бредет непьющая — на время грудного вскармливания — гражданская жена.
— Где студенты? Где хиппи?! Где… белые? — озирается он по сторонам. Главная торговая улица, авеню Жана Медсена, заполнена домохозяйками в шлепанцах и эмигрантами из бывших африканских колоний. Магазины дешевой обуви, аутлеты известных марок молодежной одежды, ларьки китайского фастфуда, пластиковые столики, за которыми пьют кофе непритязательные шопинг-туристки…
— Где моя Ницца?! — бормочет Гийом, и в этом риторическом вопросе слышится отчаянная тоска по безвременно кончившейся юности.
Встретившись со мной, он оставил мечты передвигаться по миру с палаткой за плечами; став отцом, он оставил мечты играть с утра до ночи на гитаре и курить травку; и только переезд в Ниццу, где солнце, море и вечные каникулы, был последним светочем в этом неожиданно свалившемся на него взрослом мире. И вот теперь этот светоч затухал на глазах. Так бывает, когда возвращаешься в деревню к бабушке в подростковом возрасте: с предметов, как дешевая позолота, слезает налет волшебства; фетиши детства, о которых тосковалось вдали, на глазах становятся самыми обычными предметами мебели или кухонной утвари.
Ницца принадлежит Франции только номинально, ее культурной жизнью всегда заправляли иностранцы — русские и итальянцы. Игнорируя административный статус города, русский язык даже закрепил его итальянское название вместо геополитически правильного «Нис». Русские и итальянцы спорят между собой в зрелищности мероприятий и пафосе вечеринок, а французы остаются безучастными зрителями этой баталии — немного золушками, не приглашенными на праздник во дворце, немного снобами, отрицающими дешевую мишуру. Вечером, сразу после прилета, мы приглашены на закрытие очередного марафона: Английский променад, тянущийся вдоль набережной Ниццы, часто перекрывают ради социально активных бегунов (бегут, как правило, во имя равенства прав — женщин, инвалидов, сексуальных и нацменьшинств). Вечеринку устраивают итальянцы, а Алеся всегда знает тех итальянцев, которые устраивают лучшие праздники на Ривьере. А я знаю Алесю. Во Франции у меня так мало поводов распушить перья, что порой я перебарщиваю: прихожу на дружескую вечеринку с вечерней прической, дефилирую на семейный ужин в ближайший ресторан на десятисантиметровых шпильках. Хорошо, что на этот раз повод для каблуков и сильно декольтированного платья более чем убедителен — рядом вышагивает Алеся на убийственно длинных ногах, с копной золотых волос и манком платье-пеньюаре. Она набирает по мобильному какой-то секретный номер и начинает приветливо ворковать с неким Освальдо, попутно делая нам знаки, куда идти и кому жать руки.
На поляне загородного клуба расставлены шатры, в баре рекой льется шампанское, на столах стоят вазы с клубникой и личи, а со сцены кричит смутно знакомая певица… Гийом, отягченный кенгуру со спящей Кьярой, отстал и затерялся в толпе итальянцев, слетающихся со всех сторон, чтобы облобызать нас.
— Paolo, piacere!
— Giancarlo, piacerissimo!
— Luigi, baccio!
— Ma che bellezza!
— Divina! Splendida!
Я растворяюсь в именах и поцелуях. Комплименты, от которых порядком отвыкаешь в отношениях с «романтичным французом», струятся по мне, будто шелковая ткань. Бокал вальполичеллы, может, и будет лишним, но без него было никак не обойтись по этикету. Голову наполняет легкий туман, в котором становятся неразличимы все проблемы, беспокойства, тревоги. Я красива, умопомрачительно красива, и мне ничего не надо делать, чтобы зажигать у мужчин этот охотничий блеск в глазах. Мне не надо отчитываться о покупках, чтобы заслужить одобрение. Не надо монтировать левую часть сборной кровати, чтобы услышать ласковое слово. Не надо танцевать стриптиз, чтобы получить восхищенную улыбку. Просто быть, просто блистать, просто болтать ни о чем на итальянском, который, почуяв родную стихию, всплывал из глубин сознания, оттесняя французские идиомы.
Музыка становилась все громче, Освальдо наклонялся все ближе, он уже шептал мне на ухо что-то о прелестях весенней Сицилии, о моих прекрасных глазах и беглом итальянском… За его мускулистыми плечами, обтянутыми черной майкой, я увидела Гийома, скучающего в сторонке в обнимку со спящей Кьярой. Во мне шевельнулось что-то похожее на угрызения совести, но я залила их очередным глотком вальполичеллы.
Я плохо помню, как вернулась домой, и совершенно не помню, как купала и укладывала Кьяру. Скорее всего, это делала не я. Мне и во сне не хотелось расставаться с тем вечером, который так живо напомнил мне жизнь «до Гийома». Может быть, все наоборот и на самом деле это я не дозрела до ответственных отношений, а не он?
Удрученный размахом, с которым иностранцы гуляют в его городе, наутро Гийом взял напрокат машину: он хотел показать нам настоящий Прованс, не испорченный шальными деньгами и смешением языков. Нужно было использовать шанс познакомиться с его малой родиной, пока мы не попали в плен к его родителям. Но нечего было и пытаться уговорить его заскочить в Канны, которые как раз по дороге, потому что «это оплот официоза и пошлости». Уже на подъездах машины скучиваются в тягучую, плавящуюся от жары пробку, в которой совсем не хотелось проводить часы сиесты. Мужественно игнорируя указатели, отсчитывающие в обратном порядке километры до Дворца кинофестивалей, мы съехали с автобана на извилистую прибрежную трассу. Туда, где начинается Массиф д’Эстрель, известный французским школьникам по похождениям местного Робин Гуда, Гаспара де Бесса, а иностранцам — по снимкам кучерявых красных гор в кипени можжевельника, подбирающихся к самой глади моря… Матьё Ларонье готовился корпеть над инженерными проектами в скучном офисном здании в центре Тулона, но неожиданно наследовал небольшое винное хозяйство под Кабассом, за которое никто из родственников не желал браться. Мы встречались с Матьё у друзей два года назад, когда он был бледным, задумчивым юношей с размытыми жизненными планами и марихуанным дымом в голове. Сегодня я смотрю на загорелого, мускулистого мужчину в дырявых джинсах и майке с обрезанными рукавами, который сосредоточенно расставляет на столе хлебницу, тарелки с сыром, пиалушки с оливками и бокалы, и думаю, что это правда — именно труд сделал из обезьяны человека.
Ради нашего приезда Матьё взял выходной, иначе в этот самый час он сидел бы в каменной хижине посреди лоз и мочил багет в молоке, спасаясь от полуденного зноя. Его дом стоит на вершине холма, и с террасы видны зеленые ряды виноградников, на которых трудятся трое наемных работников из числа соседей и друзей детства. У Матьё мы отдыхаем на полпути к северной границе Прованса. Наша цель романтична и призрачна, как Изумрудный город, — лавандовые поля в окрестностях городка Валенсоль. Тот факт, что самый провансальский вид Прованса удален от Лазурного Берега на десятки километров и отгорожен от него стеной гор, говорит о многом. Только когда курортная недвижимость сменяется жилыми, а не каталожными деревнями, состоящими из трех запутанных узлом улиц и веера никчемных указателей на центральной площади, я понимаю, почему жители Прованса морщатся от слова «Сен-Тропе».
Два бокала вина — норма для французского водителя. Для водителя провансальского она естественным образом поднимается до трех с половиной, ведь он закален горными серпантинами, уклонами под шестьдесят градусов, дикими свиньями, перебегающими дорогу в неположенных местах, слепыми поворотами и искусительными указателями на винодельни с бесплатной дегустацией. Мы покинули поместье Матьё, изрядно накачанные его продукцией.
Лаванда — квинтэссенция Прованса. Расчесанные на аккуратные проборы, ее фиолетовые кусты тянутся по валенсольским полям в обе стороны от дороги. Здесь, на севере, Прованс наконец становится самим собой — краем соломенных шляп, клетчатых передников, радостного огородничества, легкого розового вина и забористого шнапса. Цветочный запах проникает в приоткрытые окна, пропитывает салон, одежду, волосы; солнечные лучи выписывают вензеля на капоте, который вдруг оказывается насыщенного синего цвета. То тут, то там посреди разлинованного инопланетного пейзажа торчат кочерыжками каменные хижины — полуденные убежища полевых работников. Будь у меня фамильный капиталец, я бы развернула на этих хибарках целый агротуристический бизнес: туристы спят на соломенных лежаках, встают с петухами, греют воду на камнях, до полудня собирают лаванду под присмотром хозяина полей, на ланч получают буханку душистого хлеба, ломоть козьего сыра и свеженадоенное молоко. Сиеста — в хижине (настольные игры). Вечером — купание в горной реке и распитие розового вина. Трансфер до аэропорта — на лошадях. Неделя проживания — семь тысяч евро, и все довольны. Я и Матьё предложила эту бизнес-идею — она бы помогла ему здорово экономить на наемных работниках. Он только устало посмотрел на меня из-под соломенной шляпы. «Лоза не терпит разгильдяев, Дарья», — говорил его взгляд.
Фантазия местных владельцев гостиниц пока остановилась на кемпингах. Видимо, если Гийом сидит на соседнем сиденье, кемпинга никак не миновать. Вопреки моим опасениям, он оказался вовсе не палаточным городком, а вполне себе благоустроенной турбазой с деревянными домиками и вечерней развлекательной программой. За ночь, проведенную там, мы так пропитались запахом лаванды, что нас можно было оборачивать клетчатой тканью, перевязывать соломкой и смело продавать в сувенирной лавке рядом с ароматическими саше.
На обратном пути к побережью мы, закусив губы, проезжали мимо указателей один другого завлекательнее. По французской традиции на них название каждого города сопровождается схематичным изображением его главной достопримечательности, чтобы разжечь туристский аппетит. Позади остались уже пять замков, три моста, один водопад и таинственный силуэт человека. Но одно место пропустить нельзя, сюда специально приезжают со времен Крестовых походов, а мы так кстати оказались в нескольких километрах, — это пещера Сент-Бом, где провела тридцать лет Мария Магдалина. Маленький алтарь и рядом несколько сидячих мест под грубо отесанными каменными сводами — камерность затворнического грота, обнаруженного в XIII веке, сохраняется, несмотря на многочисленных пилигримов и щедрые пожертвования монархов прошлого. Однако посетители задерживаются не у мраморного алтаря, а возле небольшого валуна, единственного сухого места во влажной от родников пещере: по преданию, именно здесь Мария Магдалина устраивалась на ночь. Сейчас «спальное место» отгородили массивной решеткой, потому что паломники изрядно расковыряли горную породу, стараясь увезти с собой «пух из Магдалиновой перины». Мария Магдалина — любимый библейский персонаж жителей Прованса. Этому региону, разгульному, любвеобильному и целомудренному одновременно, трудно было бы найти себе более подходящую покровительницу. Здесь пьют много вина, но видят вещи в истинном свете; здесь, уверенные в непогрешимости любви, частенько изменяют законным супругам; здесь ленятся на износ — так же, как и работают. Яркий пример последнего — Мийе-старший. Он дал семье обещание выкопать бассейн, но это противоречит его установке спать два часа во время сиесты для поддержания формы, идет вразрез с привычкой выпивать по вечерам пиво с приятелями-спасателями для сохранения социальной сети и никак не вяжется с обычаем ходить в пешие походы до Пиренеев для расширения кругозора. Мийе-старший борется с собой, но, судя по едва наметившемуся котловану, часто проигрывает.
— Папа, ты же обещал закончить к августу! — воскликнул Гийом, увидев развороченный работами участок из-за спины обнимающего его родителя.
— Обещал — значит сделаю, — ответил в усы Мийе-старший.
— Но ведь август уже в следующем месяце! — раздосадованно напомнил Гийом.
— Но я ведь не уточнял, к августу какого года, — ответил отец и громко рассмеялся своей шутке. — Вы непременно должны съездить в одно место, тут неподалеку, — быстро сменил он тему. — Водил туда моих юных спасателей на прошлой неделе — они в полном восторге. Надеюсь, Дарья не боится высоты?
Обещанное, которого ждали два года
Синяк, что разливался по моей левой щеке, был того же насыщенно-синего цвета, что и платье, в котором мне предстоит послезавтра идти на свадьбу Себастьяна и Анаис. Чем синее он становился, тем больше я сомневалась, что предстоит. Перед глазами плыли черные пятна, голова гудела, к горлу подкатывал ком из самых недр желудка. Я выпила еще пять пилюль арники и упала обратно на влажные простыни — в Провансе стояла обычная для июля жара в тридцать шесть градусов…
Из моей биографии нельзя выкинуть тот факт, что в десятилетнем возрасте для меня не было лучшего развлечения, чем качаться на ветру, обхватив всем телом верхушку двадцатиметровой ели, что росла прямо за забором дачного участка. Поэтому приглашение в парк развлечений, где надо карабкаться по стволам, скакать по сучкам и перебираться с дерева на дерево по корявым веткам, я восприняла с неприличным для взрослого человека энтузиазмом.
Парк «Аубре» устроен в лесу, в пятидесяти километрах севернее Тулона. Между вековыми кедрами на высоте двадцати — тридцати метров проложены полосы препятствий. От ствола к стволу тянутся канаты и веревочные дорожки, скользкие бревенчатые мостики и подвешенные на веревках бочки, по которым нужно пройти. Иногда между платформами, закрепленными на стволах, приходится летать на тарзанке или скользить вниз с бешеной скоростью, будучи подвешенным на карабине к металлическому тросу. В парк регулярно выезжают спасатели — отлеплять от дерева кого-то, кто заложил слишком крутой вираж на тарзанке, снимать с платформы пораженного приступом боязни высоты, вытаскивать запутавшегося дошкольника из веревочной клетки или клаустрофоба — из качающейся бочки.
Но этого мы, конечно, не знали, когда солнечным субботним утром сворачивали на проселочную дорогу между виноградниками, следуя указателям на «Аубре». На парковке рядком стояли школьные автобусы, и это окончательно усыпило бдительность.
После регистрации нам раздали снаряжение — «штанишки» из плотных ремней, с которым пристрочены два троса с карабинами на концах. Карабины нужно цеплять за страховочные канаты, протянутые вдоль трассы. Главное правило, которое нам долго, настойчиво и на разных языках повторял инструктор, гласило: «Никогда не отцеплять оба троса одновременно». Один обязательно должен быть пристегнут на случай, если земное притяжение все-таки победит. Поняв, что эти тросики — единственная страховка на высоте тридцати метров, мы принялись недоверчиво вертеть их в руках. «Каждый из них выдерживает вес в десять тонн, не волнуйтесь, — успокаивал аниматор. — Если что, я внизу, я вас поймаю». Ха-ха! Мы криво улыбнулись.
Чтобы посетители на верхотуре не позабыли заветы безопасности, на каждом страховочном тросе — цветные пометки: желтая означает цеплять первый трос, оранжевая — второй. После пятнадцатиминутного инструктажа и пробной полосы препятствий, которую семилетние дети преодолели быстрее взрослых (последние долго сопоставляли цвета на тросах и очередность их цепляния), наша группа из двадцати человек бросилась покорять первую — зеленую — трассу. Страх прошел уже к третьей платформе, ведь надо было думать о стольких вещах одновременно: не забыть перекинуть тросы, причем обязательно один за другим, поддерживать дыхание в нужном ритме, продумать последовательность перемещения рук и ног, не потерять равновесия и, главное, не перепутать тирольен восходящий с нисходящим. Тирольен — это металлический трос, протянутый от платформы к платформе, за него цепляется карабин, и человек либо под собственной тяжестью скатывается вниз, либо на руках подтягивает себя вверх.
Я успешно преодолела две трассы — зеленую и красную. Детство с его елками осталось далеко, и, отвыкшая от подобных нагрузок, я едва волочила ноги к последней — черной — полосе препятствий. Видя мой измученный вид, инструктор предложил немного отдохнуть, спустившись на гигантском тирольене. «Сто метров свободного парения, — живописал он, размахивая руками. — Просто цепляете карабин и сигаете вниз». Я взобралась на платформу, откуда «сигали вниз» другие уставшие, дождалась своей очереди и прицепила карабин. «Только не забудьте затормозить, когда увидите над головой оранжевый канат», — прокричал юноша последние наставления, когда я уже отталкивалась ногами от платформы.
Лечу. С дикой скоростью. Сквозь густую, хлесткую крону. Под ногами — пропасть глубиной в пятиэтажный дом. В мозгу пульсирует только одна мысль: чтобы затормозить, придется коснуться этого раскаленного, визжащего от натуги металлического шнура над головой. Вот, кажется, и оранжевый канат — сигнал к торможению. Вжжжжиииик! Мои худшие предчувствия оказались бледной пародией на ту жгучую боль, что пронзила ладони, едва я коснулась ими тирольена. Кажется, я даже почуяла запас жареного мяса. Запах собственных жареных ладо ней. Впрочем, это было последнее, что я почувствовала: страховочные матрасы мало смягчили удар, и ствол векового кедра встретил меня с распростертыми объятиями.
…Вокруг меня образовался кружок из сочувствующих младших школьников. Они трогали мою подрагивающую от рыданий спину ладошками и удовлетворенно сообщали друг другу, что я цела. Я не могла дать отпор их любопытству: каждый поворот головы отзывался звоном в ушах, ключицу саднило и шея отказывалась поворачиваться в заданном направлении.
В травмпункте сказали, что переломов нет, и даже обещали, что до свадьбы заживет. Вот тут-то ужас произошедшего дошел до меня в полном объеме — свадьба-то через два дня! Я рыдала всю дорогу домой уже не от боли, а от обиды: как же так, я ведь даже платье специально купила, и туфли в цвет, и бижутерию!
— Ничего, — успокаивал Гийом, осторожно поворачивая мою левую щеку к свету, — ты так на Горбачева похожа. Только пятно чуть сползло.
Хорошо, что у каждого народа есть своя панацея. У американцев это аспирин, у вьетнамцев — бальзам «Звездочка», у эфиопов — толченые кофейные зерна. Поскольку тетя Гийома по маминой линии — фармацевт, в этой семье в панацеях знают толк. Гомеопатические таблетки арники, которые французы пьют от всего, как мы — активированный уголь или ношпу, сотворили чудо: щека, шея и ключица за полтора дня обрели классическую форму и цвет.
Директор парка, справляясь по телефону о моем самочувствии, напомнил, что я так и не прошла черную трассу, а ведь это входит в стоимость билета. Пригласил поскорее заехать и пройти. Я хотела было сказать, что шутка несмешная, но на всякий случай удержалась: Гийом постоянно говорит мне, что я не понимаю нюансов французского юмора.
Мы опоздали в церковь по двум причинам. Во-первых, палатка не помещалась в багажник древнего «ситроена». Палатка — это утрамбованный в брезентовую сумку четырехкомнатный дом; в разложенном состоянии он в два раза больше «ситроена», на крутом бедре которого даже стикер «2CV» — две лошадиных силы — смотрится как невыполнимое рекламное обещание. Во-вторых, нас подвела переводная печать. Это только в инструкции все выглядит просто: намочил, приложил, провел утюгом, отлепил пленочку — и на тебе футболка с принтом! А на деле пришлось дважды ездить в супермаркет (двадцать километров туда-обратно) за новыми футболками. Где-то между двумя поездками нужные футболки в магазине кончились. Так что полквартета у нас будут одеты в синее, полквартета — в бирюзовое. Хотелось бы сказать, что русская свадьба ничем не отличается от свадьбы в Провансе, но, по правде говоря, на русские свадьбы я даже опаздываю по менее поэтическим причинам. Церковь была вся украшена маленькими букетиками — сестры жениха вчера легли спать очень поздно. И снились им секаторы, ленты и непослушный флердоранж. Я восхищалась убранством исподлобья, потому что люди вокруг повторяли за священником слова молитвы, смиренно опустив головы. Уже сорок минут мы вставали и садились по команде коротко стриженного молодого человека в белом стихаре с золотыми обшлагами. Я на правах ортодокса в католическом храме вставала через раз — вроде как мы ветви одной религии, но имеются принципиальные разногласия. Себастьян первым из пяти школьных друзей решил связать себя узами Гименея. Оставшиеся холостяки пообещали, что не позволят новобрачным скучать в этот день. Церковь была единственным местом, где они удержались от розыгрышей.
После церемонии толпа в триста человек, рассредоточившись по маленьким машинкам с выпученными фарами, переместилась в поместье родителей жениха — огороженный кусочек наиклассической Франции размером в несколько гектаров, с небольшим виноградником, домашней часовней, теннисным кортом, ослиной фермой и шале, увитым вьюнком. Тема свадьбы (а у настоящих французских свадебных торжеств обязательно есть темы) — сказочные персонажи: повсюду висели акварели с изображением фей и магов, дети носили прозрачные крылышки за спиной, столы были названы в честь мифических обитателей леса, а у туалета лежали две внушительные энциклопедии фантастических существ. От этого очередь двигалась очень медленно, и острых ситуаций было бы не избежать, если бы некоторые ожидающие, зачитавшись, не забывали, зачем пришли. На лужайке гостей ждали аперитив и легкие закуски. А посреди лужайки росла шелковица. Ее бархатно-черные ягодки, разбросанные на траве и нещадно давимые каблуками гостей, занимали меня больше, чем тарталетки с фуа-гра и шпажки с креветками в кисло-сладком соусе. Я мечтала выковыривать их из травы, пачкая пальцы, и набивать ими рот, как в детстве в Болгарии, но в чужом саду на глазах трехсот наряженных гостей мне оставалось только мечтать. Тем более что под деревом гости усаживались для групповых фото: друзья родителей жениха, школьные товарищи невесты, коллеги родителей невесты и так далее. Отметившись в официальной фотохронике, гости бежали фотографироваться с осликами, которые, испуганные количеством народа, сгрудились в центре своего загона и держали круговую оборону. Можно представить, как будет веселиться фотограф во время проявки: вот жених и невеста в окружении ближайших родственников, а вот примерно такая же композиция, только вокруг новобрачных стоят ослы.
Не я одна страдала от необходимости соблюдать торжественный протокол. Дети — все, кто уже научился ходить самостоятельно, — тоскливо слонялись у бассейна; им так хотелось освободиться от тесных платьев и кусачих костюмчиков и нырнуть в эту волшебно-голубую воду! Хозяева как будто нарочно разбросали вокруг маски с аквалангами, мячики, нарукавники и пенопластовые палки. Но маленькие гости проявляли чудеса выдержки: сказано, что до десяти вечера ты фея, значит, фея, а никакая не русалка! Французские дети вообще очень дисциплинированные. Они с малолетства ходят с родителями в рестораны и смирно раскрашивают раскраски на протяжении ужина. Одновременно с «папа-мама» они выучивают весь вокабуляр вежливости от простейших «спасибо-пожалуйста» до вычурных «буду рад видеть вас завтра». Им никогда не надевают на выход удобные ползунки и универсальные комбинезоны — только парадные костюмы из «взрослых» материалов. Значение слова libert они узнают только после совершеннолетия.
Тарталетки были съедены, ослики ослеплены вспышками, настало время переходить к праздничной трапезе. Смену декораций предварял концерт — презентация футболок (тех самых, из-за которых мы опоздали на венчание): на них нанесены портреты друзей жениха и самого жениха в образе отвязных рокеров. Такой последний привет из холостой жизни. Распорядитель ужина уже устал охранять настроенные инструменты от детей, которые особенно интересовались ударной установкой.
— Бабуля, любимая, эту песню я посвящаю тебе! — выкрикнул Себастьян, и басы грянули I’m a legend из репертуара «Металлики».
На втором куплете микрофон отключился, что, безусловно, спасло бабушку от назревающего инфаркта, а гостей — от голодных обмороков. Под белыми шатрами уже плыли ароматы горячего, и всем надоело изображать из себя непогрешимых сказочных персонажей.
Согласно списку рассадки гостей мы сидели за столом «Лепреконы» вместе с четой гидроинженеров, виноделом и его пассией и двумя бродячими музыкантами. Не «феи», не «русалки», даже не «единороги»… Лепреконы — это малопривлекательные существа, одержимые жаждой наживы. Нас с Гийомом, возможно, и трудно заподозрить в бескорыстии, но наши соседи, особенно музыканты, точно попали за этот стол по ошибке.
Мое участие в застольной беседе смело можно было назвать номинальным: у французов есть такой странный сленг, когда слоги слова меняются местами, а учебник французского, где все слоги на своем месте и грамматика разжевана с помощью стрелочек и таблиц, я еще не дочитала и до половины. Я вспоминала таблицы сослагательного наклонения и скучающе разглядывала приглашенных. Подле жениха с невестой устроился человек в спортивном костюме. На левом плече майки с логотипом «Пума» в лучах прожекторов блистал какой-то массивный страз. «Ух, какой провинциальный модник, — думаю я. — Постойте, да это же не страз, это брошка в виде католического крестика». Если бы не этот опознавательный знак, узнать кюре, сменившего торжественную церковную униформу на мирской кэжуал, было бы невозможно. Посещать все свадьбы в своем небольшом приходе — его приятная обязанность, но летом она превращается в утомительную работу. Хоть вся молодежь и сбежала от сельских радостей в окрестности Парижа, жениться она непременно приезжает в отчий дом, так удачно расположенный вблизи Лазурного Берега.
Чем глубже ночь и медленнее танцы, тем громче заговорщицкий шепот: друзья готовили молодым «сюрприз», который начнет их первую брачную ночь смехом и теплыми словами в дрес приглашенных. Я, однако, со скепсисом отнеслась к идее впятером забиться под супружеское ложе и выскочить оттуда с воплями «Поздравляем!», когда новобрачные перейдут от предварительных ласк к существу первой брачной ночи. Но Гийом снова обвинил меня в непонимании французского чувства юмора. И правда, французский юмор лично мне оставляет простор для размышлений. У них есть, например, популярные комедийные спектакли про семейную чету: там у обоих супругов любовники. И сделано это не для того, чтобы увеличить комический потенциал сюжета, а для того, чтобы история семейной жизни выглядела правдоподобной. Это никому не кажется возмутительным или грустным.
Похоже, молодые заподозрили что-то неладное, потому что в половине четвертого утра папа жениха объявил, что новоиспеченная чета отбыла ночевать в отель.
Погрустневшие друзья допили одну из десятилитровых бутылок вина, которую винодел Матьё изготовил специально для серебряной годовщины свадьбы Себастьяна и Анаис. Сроки выдержки теперь мало кого интересовали, даже самого Матьё. От досады холостяки полночи ныряли в бассейн, не снимая костюмов, гиканьем пугали и без того пуганых ослов, а потом спали до полудня в палаточном городке, заблаговременно разбитом позади теннисного корта. Свадьба в Провансе редко длится меньше двух дней и собирает количество гостей, во много раз превышающее количество спальных мест в доме, даже если этот дом смело можно назвать замком.
Утром костюмы и платья сменились демократичными шортами и сарафанами, дети наконец дорвались до бассейна, а я — до шелковицы. Гости доели остатки угощения, вплоть до вафелек с фруктового салата, но расходиться не спешили. Видно, какой-то обязательный пункт свадебной программы еще не выполнен. Едва на стоянку въехал автомобиль молодоженов, гости разразились улюлюканьем. Себастьяна, не успевшего толком припарковаться, пятеро дюжих молодцев вытащили из-за руля и поволокли к бассейну. Он даже не сопротивлялся, будто ждал дружеской мести за свой ночной побег. Вслед за ним в бассейне очутилась невеста, которая дала «похитителям» достойный, но не достаточный отпор, желая сохранить остатки вчерашней укладки, и попавшаяся под руку сестра жениха. Бросание в бассейн — это у них вроде нашей драки, поняла я.
Мы допивали остатки второй десятилитровой бутыли вина, когда чей-то голос громко вопросил расслабленных гостей:
— Кто запихнул копну сена в машину жениха?!
Недоуменный шепот, смешки, и все взгляды обернулись в нашу сторону. Гийом с невозмутимым видом покачивал на руках дочку.
— Хорошо быть молодым отцом, — тихо сказал он мне. — Это снимает столько вопросов.
И пока гости искали глазами другого подозреваемого, я незаметно вытащила сухую травинку, застрявшую в его манжетной пуговице.
Четыре отказа и одно согласие
В загранпаспорте у меня много диковинных отметок. Даже сильно похожий на задницу абрис кокосового ореха — эндемика Сейшельских островов, которым там так гордятся, что в стилизованном виде используют в качестве государственной печати или, как в данном случае, штампа о прохождении границы. Но вот этой новой квадратной отметке я совсем не обрадовалась: это был отказ в выдаче французской визы.
Не надо было все-таки тянуть с перестиланием постели. Это примета проверена годами путешествий: если думаешь, что нет смысла заправлять свежее белье, потому что через два дня уезжать, — точно никуда не уедешь.
Череда отказов посыпалась на нас с Кьярой в год официальной дружбы между Францией и Россией. На протяжении своей карьеры я много раз способствовала укреплению дружеских контактов между нашими странами: доказательства этого в виде списка публикаций на французскую тему в десятке журналов я приложила к письму консулу, где просила его пересмотреть решение относительно нас или хотя бы объяснить, чем мы такое отношение заслужили. Через несколько дней серийных телефонных звонков я добыла номер секретаря консула, которая на расспросы о судьбе моего письма ответила:
— У консула есть два месяца на рассмотрение вашего прошения. Если через два месяца ничего не изменится, прошение отклонено.
Я могу через Роспотребнадзор воздать по заслугам нахамившему администратору ресторана, через МИД заставить иностранный сайт признать мои авторские права, через мэрию добиться от ЖЭКа повторной и бесплатной проверки труб, через суд выбить компенсацию морального ущерба из нахамившего соседа и даже получить гарантийный ремонт через Союз защиты прав потребителей, но я ничего не могу поделать против французского консульства в Москве. Потому что его действия не подвластны российским законам и часто, кажется, здравому смыслу. Система, не имеющая над собой главных, с умным видом предлагает нам делать удивительные глупости. Например, доверенность на вывоз ребенка самой себе. То есть буквально «Я, Дарья Князева, разрешаю своей дочери, Кьяре Князевой, выехать за пределы РФ в моем сопровождении на период с… до…». Нотариусы смеются и отказываются ее давать, потому что это «противоречит Конституции». Как объяснить им, что посольствам Конституция РФ не указ! Они же ведомства других стран. И отказы объяснять не обязаны. «В переписку с авторами редакция не вступает» — вот когда, через двенадцать лет трудового стажа на ниве журналистики, до меня дошел ужасный смысл этой фразы…
Россыпь годовых бизнес-шенгенов, японские-израильские-сингапурские и прочие диковинные визы на страницах паспорта не убедили французских чиновников, что я возвращаюсь на родину из самых прекрасных далёк. Не убедили их справки о доходах, выписки с банковских счетов в разных валютах и журналистская корочка. Не переубедили их также факсы, телефонные звонки и письма от несчастного Гийома. Похоже, это Рождество мы будем встречать в разных странах. Особенно обидно, что это первое Рождество для Кьяры и одно из немногих оставшихся для ее девяностолетней французской прабабушки, которая собиралась специально приехать в Париж из Эльзаса знакомиться с правнучкой.
Но крепкий ночной сон работникам консульства эта мысль вряд ли испортит. И чиновник, шлепнувший отказ, так никогда и не узнает о нашей маленькой рождественской трагедии. С появлением визового центра — посреднической инстанции между консульством и просителями виз — посмотреть в глаза человеку, который реально принимает решение о допуске в страну, не представляется возможным. Да что там, даже голос его услышать нереально — неприступная крепость на Октябрьской надежно охраняет свои секреты. Общаться с ней можно только в одностороннем порядке — закидыванием факсами. У окопавшихся там нет ни личных e-mail’ов, ни внутренних номеров, ни имен собственных… «Ваше прошение об апелляции передано в соответствующий отдел. У них на ответ есть два месяца. Если не ответят через два месяца, значит, апелляция отклонена».
Теперь я понимаю, почему кафкинский «Замок»[24] был издан посмертно.
Мне довольно быстро удалось получить заветную визу через рабочие связи. Было бы нескромно думать, что Франция не хотела отказываться от услуг моего пера, но я предпочитаю думать именно так. А вот Кьяра, живое доказательство наитеплейших отношений между нашими странами, продолжала собирать синие метки в паспорт.
Каждый раз, вскрывая конверт у окошечка визового центра, я чувствовала, как внутри отмирают целые колонии нервных клеток. Работники центра уже знали меня в лицо и горячо сочувствовали. Но сделать ничего не могли — они действительно лишь передаточное звено, осуществляющее одностороннюю коммуникацию с консульством.
В эти жуткие месяцы вся моя жизнь перешла в сослагательное наклонение: если буду в Москве, то возможно; скорее всего, да, есть вероятность, что я уеду; мне было бы интересно, но стоит вопрос с визой. Стал дергаться левый глаз, сбились месячные, локти покрылись коростой нейродермита. Я впала в апатию, но какого-то шизофренического свойства. Моментами у меня случалась бешеная активность: я чувствовала необходимость бороться, собирать новые документы, писать новые письма, куда-то бежать, с кем-то договариваться — а потом вдруг снова переключалась в режим безразличия и бездействия. Чтобы сберечь остатки жизненных сил, я держала эмоции на предохранителе: отменила все встречи с друзьями, зато записалась к эпиляторше на месяц вперед. Похоже, придется привыкать безвыездно жить на родине, и лучший способ втянуться — соблюдать маленькие бытовые ритуалы.
Друзья подбадривали: по слухам, в следующем году визы россиянам в Шенгескую зону вообще отменят. Другие друзья вдогонку говорили, что в 2012-м все равно конец света, так что нарадоваться не успеем.
Судьба наконец-то преподнесла мне на блюдечке идеальный повод для разрыва с Гийомом. Во всем будут виноваты французские бюрократы — я же останусь белой, пушистой, свободной, с дочкой, в родной стране, в девяностнометровой квартире, вместе с мамой. Но как это часто бывает, желаемое приходит именно тогда, когда его больше не желаешь. Вместо того чтобы медленно сводить отношения на нет, мы с Гийомом проводили целые вечера в бесплодных попытках проникнуть в головы консульским работникам и понять, в чем мы провинились. Мы строили планы один другого авантюрнее: получить визу через консульство другой страны, «потерять» паспорт и сделать новый, купить мальтийское гражданство, подать заявку на грин-карту США, открывающую все границы, и даже обратиться в Страсбургский суд по правам человека. Во мне проснулось ослиное упрямство: я во что бы то ни стало должна получить эту визу для Кьяры.
Путь к цели был извилист и требовал от меня последовательно отказываться от всех своих принципов. Единственной зацепкой для разгадки причины отказов было то, что в ходе проверки документов сотрудники консульства звонили Гийому и выяснили, что он Кьяре отец. «Все это выглядит слишком серьезно, — подумали, вероятно, они. — Надумают еще пожениться, а нам потом документы оформлять». Это было самым правдоподобным из наших домыслов.
И поскольку никто ничего не желал нам объяснять, мы решили, за неимением других, пойти по этому пути — установить отцовство и таким образом предоставить Гийому право решать проблемы Кьяры. Исчерпав все средства дистанционного воздействия на консульство, я поняла, что единственная возможность проникнуть внутрь — войти туда в сопровождении французского гражданина. Потому что я для его стражей была даже не мелкой сошкой — меня просто не было.
Я встретила Гийома в аэропорту без обычного энтузиазма — дежурно чмокнула в щеку и перешла к зачитыванию плана действий. У нас в запасе было всего четыре дня, отвоеванных у кадрового отдела его компании, а успеть надо было многое.
— Итак, завтра идем оформлять отцовство в загс, после обеда отдаем бумагу на срочный перевод и нотариальное заверение, получаем послезавтра, в среду с утра мчимся в консульство, подаем документы для Кьяры на «визу родственника французского гражданина» и в идеале тем же вечером получаем визу. И, опять же в идеале, в четверг уезжаем вместе с тобой. Вот, — выдохнула я. В планировании мне не было равных.
— Хорошо, только мне нужен один романтический вечер, — с той же деловой интонацией ответил Гийом.
— Только один? — строго уточнила я.
— Минимум один, — коротко сообщил он.
— Хорошо. — Я на бегу достала органайзер и крупными буквами записала на листке: «Вечер» — и нацарапала значок сердечка рядом. Среди корявых строчек, увенчанных восклицательными знаками и пометками «срочно», «очень срочно» и «в первую очередь», оно смотрелось просто издевательски.
Чтобы дойти до посольства, нам надо было преодолеть полосу препятствий из отечественных присутственных мест. Весь вечер после прилета мы тренировались в чистописании: по правилам загса каждый из родителей должен заполнить графы заявления о признании отцовства собственной рукой. И для незнакомого с кириллицей Гийома исключения делать не будут. На черновом экземпляре я заполнила нужные строки крупными печатными буквами, и Гийом старательно, как первоклассник, копировал их на листок. Сложнее всего давалась ему буква «И», которая зеркально отображает латинскую «N». Когда «и» стала напоминать саму себя в четырех случаях из пяти, я положила перед Гийомом стопку предусмотрительно размноженных формуляров. Он поднял на меня жалостный взгляд:
— Я должен их ВСЕ заполнить?
— Нет, только один. Но я почему-то уверена, что на это потребуется много попыток.
В полтретьего ночи чистовой экземпляр был готов, и мы упали спать — нам надо было набраться сил перед четырехдневным марафоном по инстанциям.
Пока сотрудница загса придирчиво изучала наше заявление, мы чувствовали себя как в бане — мокрыми, красными и голыми.
— В графе «Гражданство» надо писать не «Франция», а «гражданин Франции». Не «Москва», а «город Москва». Не надо расписывать «дом 28, квартира 32», достаточно просто «28–32», а то в бокс не влезает. Придется переписать. — И, подтолкнув очки на переносицу, она с наигранным сожалением вернула нам политый кровью и потом формуляр.
Общение с бюрократической машиной учит покорности и терпению. Я даже не удивилась — просто взяла с ее стола полстопки формуляров и кивнула ничего не понимающему Гийому на дверь.
Пока он выводил завитушки у «и кратких», путал строчки и очередность букв в словах, где больше двух слогов, перед нами прошли уже несколько пар, половина из них — смешанные. Грузины, армяне, молдаване, туркмены — ни у кого из них, очевидно, не возникало проблем с кириллицей. Я нетерпеливо нависала над Гийомом и вспоминала дореволюционный обычай учителей чистописания бить нерадивых учеников деревянной линейкой по пальцам. Наконец он победно поднял листок над головой.
— Значит, вы хотите установить отцовство? — торжественным тоном спросила дама, перечитав несколько раз листок на предмет орфографических ошибок.
Я моргнула:
— Нет, мы просто решили позаполнять этот формуляр.
Дама смерила меня тяжелым взглядом поверх оправы очков.
— Да! — спохватившись, отрапортовала я.
— Мне надо, чтобы предполагаемый отец ответил. — И она повернулась к Гийому: — Значит, вы хотите установить отцовство над ребенком этой женщины?
Гийом дважды моргнул и покосился в мою сторону в поисках помощи.
— Он же француз, по-нашему не понимает, — осторожно заметила я, уже представляя, чем это грозит.
— Нет, ну а как вы думаете, я могу установить отцовство, если он даже не понимает, о чем идет речь?! Может, вы ему чужого ребенка на шею вешаете? А потом еще на алименты подадите! Идите в нотариальную контору, приводите аккредитованного переводчика, я на себя ответственность не возьму!
В моем мозгу тут же застучали кнопками два калькулятора: один считал, во сколько обойдется пригласить переводчика ради одной фразы, а платить ведь все равно придется за час, второй — сколько драгоценного времени мы потеряем из-за этого… Вдруг в кабинете раздался твердый, почти без акцента голос Гийома:
— Я — папа Кьяры!
От неожиданности мы обе опешили.
— Ну вот, а вы говорите, по-нашему не понимает. Все он прекрасно понимает! — радостно сказала регистраторша, и мне показалось, что она вот-вот потреплет его за щечку.
В ответ я боязливо улыбнулась левой половиной рта. Вот сейчас она попытается завязать диалог, чтобы проверить, насколько хорошо он понимает, и придется все-таки идти за переводчиком… Но дама, видимо, посчитала, что свои круги ада мы на сегодня прошли, и углубилась в печатание нового свидетельства о рождении Кьяры.
Найти аккредитованного при нотариальной конторе переводчика на французский — дело непростое. Предвидя возможные осложнения, за несколько дней до приезда Гийома я обзванивала контору за конторой и везде слышала примерно следующее: «Французский?! Ой! А у нас как раз девочка-француженка заболела / ушла в декрет / уехала в отпуск / сильно загружена / забыла французский». На то, чтобы ждать милостей от природы, не было времени — завтра с готовым переводом нужно идти в консульство. Я зашла в ближайшую нотариальную контору с орущей Кьярой на руках, положила перед переводчиком свидетельство и сказала: «Здесь восемь строк. Вот образец их перевода на французский. Вот так пишутся имена. Я уже все сделала, вам остается только поставить подпись». Видимо, вид у меня был отчаявшийся, потому что девушка-переводчица загипнотизированно расписалась и отнесла нотариусу для регистрации в реестре.
В этот вечер о романтике нечего было и думать: мы рухнули спать, едва переступив порог комнаты. Завтра предстояла битва в посольстве.
Утром градусник показывал минус двадцать пять. Гийом надел горнолыжную куртку, дутые штаны и шапку с помпоном, я — бесформенный пуховик салатного цвета, боты-крокодилы и варежки. Зная нашу Рыбью безалаберность, мы несколько раз перепроверили документы; пару раз мне грозил инфаркт из-за внезапных восклицаний: «О Боже! А где письмо консулу? А где старые приглашения? Ты точно все взяла?» Папку с документами я положила в свою сумку: Гийом уже однажды потерял мое досье на визу в метро, после чего мы совершили незабываемое путешествие на конечные станции трех веток, которые фигурировали в нашем маршруте, но так ничего и не нашли в бюро находок. В общем, мы были готовы к мучениям. …Но не к полуторачасовому стоянию на обледенелой дорожке у входа в визовый отдел. Французские граждане могут приходить сюда без записи — хоть в этом плюс того, чтобы быть французским гражданином или состоять с ним в родственных отношениях, подумала я. Однако на практике это значило, что все записавшиеся проходят вперед, а в оставшееся время в святая святых допускают собственно французских граждан. Те, кто приехал на машинах, сменяли друг друга в карауле каждые пять минут; мы же, безмашинные, провожали их стеклянными от мороза глазами. Холод пробирал до костей, ни варежки, ни меховые стельки не спасали, и все двадцать пальцев сводило от боли. Бессердечный охранник пускал в коридор ожидания строго по двое, хотя места в предбаннике вполне бы хватило на всю мерзнущую очередь. «Инструкция», — с каменным лицом отвечал он на мольбы людей пустить погреться.
Это жалкое существо, дорвавшееся до маленькой власти, переживало свой звездный час. Оно наверняка никогда не читало книг, кроме детективов в мягкой обложке, не работало в свое удовольствие, не любило и не дружило по-настоящему, и даже во Франции, чью территорию так ревностно охраняет, оно вряд ли бывало, но сейчас для трясущихся от холода и волнения пятнадцати человек оно было почти богом. На нем, низеньком грузном мужчинке с одутловатым лицом и глазами карпа, были сосредоточены чаяния людей, добившихся в жизни значительно большего, чем он. Только бы он поскорее открыл эту заветную дверь, только бы пустил внутрь! Он решал, продержать нас на нечеловеческом морозе еще пять минут или двадцать пять; он определял, сам того не зная, кто из нас завтра сляжет с воспалением легких, у кого обострится хронический бронхит, а у кого случится мучительный рецидив недавно пролеченного цистита.
Просить визу — унизительно. Об этом не принято писать в журналах о путешествиях, а между тем любое путешествие для нас начинается с унижения. За каждой глянцевой картинкой, где красивая женщина нежится на спа-кушетке, мерещится волнительная беготня за справками, сидение или стояние в очереди, подозрительный, ощупывающий взгляд визового офицера, бестактные уточняющие вопросы чужого человека о твоей личной жизни, нервное ожидание ответа «дадут — не дадут?», «достаточно ли я хорош для них или нет?». И с этой женщины, что возлежит на кушетке, расслабленная и прекрасная, которую никто никогда не бросал, которая и на рынок-то никогда сама не ходила, а только посылала домработницу, — с нее вдруг слетает весь лоск, все это непробиваемое самолюбование, потому что и она тоже, скорее всего, собирала бумажки, стояла селедкой на морозе и отвечала на бестактные вопросы.
Стоя зажатым между другими смирившимися, которые добровольно отказались от своего достоинства ради краткого удовольствия выехать за границу, остро понимаешь, что никакая мы не супердержава. Супердержава — это такая страна, чьи граждане во всем мире чувствуют себя немного хозяевами. Для них границы открываются цитатой из Декларации прав человека о свободе перемещения. А если не открываются — тем хуже для границ. Не больно-то за них и хотелось. Нам же хочется очень. Очень-очень. Мы готовы часами дрожать на ветру, мокнуть под дождем, жариться на солнце, чтобы только предстать перед визовым офицером и убедить его: мы достаточно любим родину, чтобы вернуться.
Подавать документы пустили одного Гийома, я же осталась ждать на сиротливом стульчике в фойе. Я сидела здесь уже в пятый раз, и сами стены, мне казалось, источали угрозу и пренебрежение.
— Что сказали? Как сказали? Какими глазами посмотрели? — закидала я вопросами Гийома, когда он вышел из приемных покоев.
— Да все в порядке, не волнуйся, — отмахнулся он. — Спросили что-то про апостиль, но в целом никаких претензий. Сказали, когда документы будут готовы, они позвонят на мобильный.
Сердце ухнуло вниз, и к горлу подступило знакомое ощущение тошноты.
— Спросили про апостиль? — страшным голосом повторила я. — Никаких претензий?! Ты понимаешь, что это значит?! Это значит, что они снова не дадут нам визы! Потому что на свидетельстве о рождении нет этого чертова апостиля!!
Я бы разревелась, но слезы стекленели, не успевая сорваться с век. Получить апостиль на два документа — свидетельство о рождении и справку об установлении отцовства — стоит в общей сложности три тысячи рублей, занимает пять рабочих дней, и мотаться для этого придется на другой конец города к девяти утра. Я больше не могу, не могу, не могу-у-у-у!!!!!!!!!
Гийом обнимал меня, успокаивал и с убежденностью говорил, что послезавтра мы вместе уедем в Париж и все будет хорошо. Но я уже точно знала, что не уедем.
Остаток дня мы старались не говорить о визе, но при этом не спускались в метро и не заходили в подземные торговые центры — никуда, где был бы риск пропасть из зоны действия сотовых операторов. Но несмотря на четыре полоски в поле обнаружения связи, телефон Гийома молчал. В шесть вечера стало понятно, что ждать больше нечего — вряд ли бюрократы, тем более французские, задержались на рабочем месте даже ради нашего запутанного случая. Мы поехали домой. Так плохо до сих пор мне было всего два раза в жизни: когда в пятнадцать лет я рассталась с юношей, с которым хотела прожить жизнь, и когда впервые увидела маму пьяной. Я сидела на диване, уперев подбородок в колени, и, как рыбка-шар, набухала бессильной злобой. Казалось, во мне умерли все остальные желания, кроме «хочувизухочувизухочувизу». Раньше, до всей этой истории, я мечтала, чтобы появился бог из машины и объявил, что нам с Гийомом надо навсегда расстаться — мол, так решили в самой высшей инстанции, апелляцию подавать некуда. Мои желания всегда исполняются, но как? Почему в такой садистской форме?! Почему так не вовремя?! В черно-фиолетовые клубы наполнявшей меня ярости ворвался голос Гийома:
— Помнишь, я просил выделить мне один романтический вечер? Пускай он будет сегодня.
— Сегодня?! — Я с трудом очнулась от транса. — Нет, дорогой, сегодня я ужасно себя чувствую из-за всей этой истории с консульством. Мне ничего не хочется, разве только зарыться головой в песок, как страус.
— Дава-а-ай! — Он ребячливо потянул меня за рукав. — Нам обоим надо расслабиться, поговорить немного о нас, а не о документах.
— Милый, сегодня правда не лучший день. Мы устали, мы расстроены, наше будущее крайне туманно, и вообще… Я не могу думать ни о чем, кроме этой дурацкой визы.
— Я, напротив, думаю, что именно сегодня нам надо побыть вдвоем и попробовать мыслить позитивно, — мягко сказал Гийом и, увидев, как я кривлю губы, добавил ультимативным тоном: — В конце концов, я нечасто тебя прошу о чем-то. Можешь выполнить эту маленькую просьбу?!
Я взглянула на его обиженное лицо, вздохнула и потянулась за телефонной трубкой.
— Столик на двоих на имя «Дарья», — сообщила я официантке ресторана, выходящего окнами на Аптекарский сад-огород. Это одно из немногих мест в городе, где можно достать настоящее привозное вино дешевле, чем две тысячи рублей за бутылку. И еще здесь отменные хачапури по-аджарски: в золотистой лодочке из теста, на подушке из колышущегося белка корольком покачивается желток.
Я не смогла заставить себя надеть платье и серьги: мой энтузиазм ограничился водолазкой и прической «конский хвост с петухами». Мы сделали заказ и торопливо принялись за бутылку красного. Чтобы не говорить о своих проблемах, мы обсуждали едоков за соседними столиками.
Вон тот австриец в костюме приехал на выставку электронных технологий, отработал на стенде и теперь ужинает со своей переводчицей — кто же мог представить, что в России такие переводчицы!
Подоспели закуски.
Вон та полнорукая дама пригласила в ресторан бывшего одноклассника: ему неловко сидеть за этой белой скатертью с блестящими приборами, ведь он-то сам по ресторанам не ходит, он простой авторемонтник; еще неудобнее думать, что она, эта большая женщина с высоким начесом и тяжелыми серьгами, которую он помнит худосочной Галечкой с третьей парты от окна, будет за него платить и что она смотрит на него с такой влажной надеждой на что-то, что он не может расшифровать, но что, скорее всего, не в силах оправдать.
Я выбрала утку с тушеными овощами, Гийом — лазанью.
Вон та золотая молодежь отмечает день рождения девушки с блестящими каштановыми кудрями: они веселятся, говорят тосты и желают ей любви, многозначительно глядя на хлыщеватого паренька с намечающимися залысинами.
Официант унес тарелки, мы попросили десерт.
Не очень-то удавалось нам побыть вдвоем в полном смысле слова: все, что касалось нашего маленького универсума, сейчас висело на волоске из-за прихоти каких-то незнакомых, невидимых, неопознаваемых людей. Туда, внутрь, лучше было даже не заглядывать — там все было перевернуто вверх дном, вывернуто, выпотрошено, поломано и разбито, как после обыска. Словно специально для нас пианист наигрывал что-то очень тоскливое и тревожное, как попурри из похоронных маршей.
— Давай выпьем шампанского? — вдруг предложил Гийом.
— Шампанского? — удивилась я. — Ты опережаешь события. Визу нам пока не дали.
— Нет, ты действительно зациклилась на этой визе. А если мы просто выпьем шампанского безотносительно визы?
— Но это же аперитив. А мы уже съели первое блюдо.
— Ну и что, мне что-то вдруг очень захотелось шампанского.
— Ты же никогда не пьешь шампанское.
— Я и в Москве почти никогда не бываю, почему бы не совместить эти два «никогда»?
— Но оно же дорогое, — не сдавалась я.
— Ну и пусть!
— Нет, ты не понимаешь, — я подалась вперед, — оно здесь очень дорогое.
Я потянулась за меню, но он перехватил мою руку:
— Я тебя приглашаю, это же романтический ужин.
— Честно говоря, у меня от шампанского голова болит.
— Тогда ты выпьешь только один глоточек, а я допью.
И прежде чем я успела что-то возразить, он встал из-за стола и пошел на перехват официантки.
«Причесывался», — отметила я про себя, когда он вернулся из туалета с влажными, зализанными назад волосами.
— А может, эта, с большими сережками, его начальница, — размышляла я вслух, запихивая за щеку последний кусок хачапури.
— Знаешь, я все ждал подходящего момента, чтобы тебе сказать, — перебил Гийом. — Вообще-то я планировал сделать это на Рождество, когда мы должны были бы гостить у моих родителей… Я не хочу, чтобы ты думала, что это из-за всяких бюрократических проблем… Поэтому, думаю, именно сейчас, когда непонятно, дадут Кьяре эту чертову визу или нет, момент самый подходящий… — Он набрал в легкие воздуха. — Я так изменился с тех пор, как мы вместе. Теперь, когда я думаю, то употребляю не «я», а «мы». Раньше я не думал вообще, а теперь думаю сразу за троих — себя, тебя и Кьяру. Вы для меня все, без вас я бы ничего не делал, ничего не хотел и ни к чему не стремился. И вот я хочу тебя спросить, серьезно, без оглядки на эти дурацкие визы: согласилась бы ты стать мадам Мийе?
Весь монолог я думала, зачем он держит мою правую руку, когда она мне так нужна для разделывания прибывшего десерта. Отрезвили меня только словосочетание «мадам Мийе» и коробочка из красного картона, поставленная на белую скатерть. Я проглотила недожеванный кусок хачапури.
— Ты что, делаешь мне предложение? — ошарашенно спросила я.
Он кивнул, и только тут я поняла, что его глаза увлажнились не от сигаретного дыма.
— Тут? Вот так?!
Снова кивок.
Господи, я была совершенно не подготовлена к такому повороту сюжета. Я даже не отрепетировала речь на эту тему, а между тем в домашних заготовках у меня имелись самые разные речи, от объяснения, почему Кьяра на него не похожа, до ликбеза о вреде прививок в первый год жизни.
Я осторожно взяла коробочку. Мне делают предложение, а у меня нет слов. Как будто каждая девочка тысячу раз не проговаривает перед зеркалом, что и, главное, как она ответит на этот главный в жизни вопрос. Но если рассуждать здраво, разве, встречаясь с французом, я не заслужила предложения с видом на Эйфелеву башню под переливы аккордеона, а не стенания этого пианиста-неудачника?
— Да, я понимаю, ты не так себе это представляла, — подхватил мои мысли Гийом. — Мы должны были бы сидеть в «Лё Тур д’Аржан»[25], смотреть на собор Парижской Богоматери, и потом должна была бы заиграть музыка из «Амели», но… — он наклонился ближе и понизил голос, — у этого пианиста нет нот «Амели», я уже спрашивал.
— Оно красивое, — загипнотизированно ответила я, рассматривая кольцо.
Повисла пауза.
— Я э-э-э… рассчитываю на какой-то ответ, — тихонько напомнил Гийом.
— Это же столько бумаг опять оформлять… Гийом сидел не шелохнувшись.
— Знаешь, — встрепенулась я, — можно мне подумать? Тем более что по французской традиции, как я понимаю, у меня в запасе есть минимум два года?
— Конечно, подумай, — как-то сразу обмяк он. — Но я настроился сыграть свадьбу этим летом.
— Так скоропалительно? — делано удивилась я. — Закрадываются подозрения, что это из-за визы.
— Послушай, даже если бы ты была стопроцентной француженкой, я бы все равно хотел на тебе жениться. Когда-нибудь. В один прекрасный день, когда смог бы подарить тебе кольцо с бриллиантами. А так пришлось немножко ускорить события и обойтись циркониями.
Я вертела колечко на безымянном пальце правой руки:
— Если бы я была француженкой, тебе было бы со мной скучно. Копи на бриллиантовое, это мне великовато. — И улыбнулась.