Мадемуазель Шанель Гортнер Кристофер
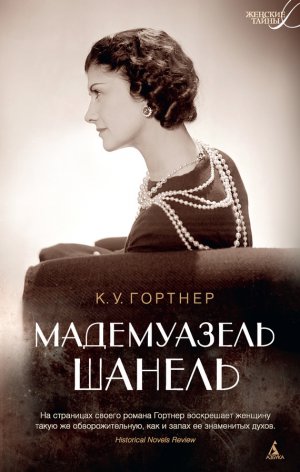
Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. Нет, я могла себе это представить, но не очень хотелось, хотя, когда мы уже добрались до Вандомской площади и увидели внушительное здание отеля «Риц», трудно было не заметить жуткого флага над перекрытым мешками с песком входом и часовыми с нарукавными повязками со свастикой, охранявшими вход внутри.
Мари-Луиза похлопала меня по плечу:
— Коко, вы уверены, что хотите здесь жить? Если они захватили отель… Может, поедем со мной, остановимся у моих друзей?
— Нет-нет, все будет отлично… — Я выдавила улыбку. Молодой человек выскочил из машины, чтобы достать чемодан и помочь мне выйти. Я повернулась к Мари-Луизе. — Позвоните мне как-нибудь, хорошо? Я буду в своем номере.
Она скептически вздернула брови: похоже, была уверена, что в свой номер я не попаду, но это лишь укрепило мою решимость. Я вышла из машины, взяла чемодан и направилась к отелю, но тут за спиной раздался голос нашего водителя.
— Так вы и есть та самая Коко Шанель?
Я остановилась, повернула голову и искоса посмотрела на него:
— Да, та самая.
Он сорвал с головы берет:
— Какая для меня честь, мадемуазель! Моя мама только про вас и говорила, какая вы стильная, прогрессивно мыслящая. Она обожала ваши платья, хотя так и не смогла позволить себе купить что-нибудь. А ваши духи! Я купил ей однажды флакончик на распродаже в «Галери Лафайет». Она пользовалась ими понемногу, экономила… До самой смерти хватило. Говорила, что даже любовь не живет так долго, как «Шанель № 5».
Повинуясь внезапному порыву, я шагнула к нему и поцеловала в щеку. От него пахло потом и табаком, а еще неиссякаемым оптимизмом юности. Он сразу покраснел.
— Ваша мать была права, — прошептала я.
— Нужно предъявить аусвайс, — повторил немецкий часовой, преграждая мне дорогу в гостиницу. — Пропуск, — добавил он на ломаном французском.
За его спиной, в холле, виднелись силуэты офицеров в немецкой форме и нескольких гражданских. Я изо всех сил напрягала зрение, чтобы увидеть хоть кого-нибудь из знакомых. Часовой уже начал оттеснять меня, как вдруг я увидела метрдотеля, который приходил ко мне в номер, чтобы сообщить о вторжении немцев. Сейчас он смотрел в мою сторону. Узнав меня, он застыл на месте, а его обычно непроницаемое лицо сморщилось.
Я пережила страшное мгновение: неужели он сделает вид, что не заметил меня? Но вот метрдотель быстро зашагал к выходу.
— Это наша почетная гостья, мадемуазель Коко Шанель, — обратился он к часовому. — Прошу вас, пропустите ее.
Немец, которому, похоже, не было еще и двадцати, воинственно расправил плечи:
— У нее нет пропуска. Она должна сначала обратиться в комендатуру.
— Вот прямо так, с ног до головы грязная? — резко возразила я.
Метрдотель согласно кивнул:
— Да-да, я обо всем позабочусь, все будет сделано, я вам обещаю.
И он схватился за ручку моего чемодана. Насквозь мокрая от пота, немытая, измученная от многодневной дороги, с подгибающимися от усталости ногами, я прошла мимо часового и не смогла не бросить взгляд на пистолет в кобуре у него на поясе. До последней секунды я боялась, что он меня все-таки не пропустит, как и ту престарелую пару у Орлеанских ворот, но юнец явно растерялся, не знал, что делать, и метрдотель ловко воспользовался его нерешительностью, подхватил меня под локоток и аккуратно подтолкнул внутрь.
— Боже мой, — пробормотала я, когда он уже вел меня к стойке администратора. — Неужели они все здесь такие?
— Да-да, — кивнул он, — везде нужен аусвайс. Я позабочусь об этом, мадемуазель, не беспокойтесь. Для нас вы всегда желанная гостья. Ваши вещи в целости и сохранности, я отправил их в камеру хранения. Прикажете прислать их в ваш номер? — Он ужом вертелся за стойкой, выбирая ключ. Наконец вручил, но, оказалось, совсем не от моего номера. Он поймал мой недоуменный взгляд. — Увы, мадемуазель, боюсь, ваш номер занят, хотя и не был зарезервирован. Всю вашу мебель я приказал перевезти в вашу квартиру над ателье. Могу предложить вам номер поменьше на третьем этаже, окна выходят на улицу Камбон, совсем рядом с ателье, если вы не возражаете.
— Нет, конечно. Благодарю вас.
Мне было все равно. Комната или чердак, главное, чтобы была ванна и водопровод, остальное не важно. Метрдотель нажал кнопку звонка. Тут же явился коридорный, чтобы сопровождать меня в номер.
— Ваши вещи будут доставлены сию минуту, — заверил метрдотель. — Желаю приятного пребывания в отеле «Риц», мадемуазель.
Он говорил так, как всегда, уверенным, ровным голосом, что свидетельствовало о его профессионализме, но я видела, что взгляд его так и скачет в сторону немецких офицеров, и мне был понятен этот невысказанный сигнал. Надо вести себя как можно более скромно, не высовываться, и дай бог мне способности делать это.
Номер оказался крошечным по сравнению с моими просторными апартаментами, но здесь имелась крепкая кровать, знаменитый встроенный шкаф — основатель отеля приказал установить их в каждом номере — и отделанная плиткой смежная ванная комната.
Я сбросила грязный наряд, блаженно погрузилась в горячую, окутанную паром ванну и наслаждалась, пока не надоело, а потом улеглась в постель и уснула крепким сном. Проснувшись, позвонила, чтобы принесли чай, облачилась в роскошный белый халат, позвонила Мисе, чтобы сообщить о своем возвращении в Париж. Она подошла к аппарату не сразу. А когда сняла трубку, мне показалось, что я слышу ее тяжелое дыхание. Помехи на линии были столь сильными, что я едва разбирала, что она говорит.
— Я в Париже! — кричала я в трубку. — Остановилась в «Рице»!
— В «Рице»? — Помехи заглушили несколько ее слов, но не смысл: интонация была возмущенная. — Но почему… Там полно нацистов… Ты должна… Мы с Жожо… Настаиваю!
— Какая тебе разница, где я остановилась? — резко ответила я. — Все отели заняты.
Меньше всего мне хотелось жить с ней и с ее Жожо в этом вечно переполненном людьми доме на улице Риволи, страдать, выслушивая их бесконечные ссоры, и испытывать волчий голод. После смерти любовницы Жожо вернулся к Мисе, но я сомневалась в том, что их воссоединение протянется долго и не оставит за собой неприятных последствий. Кроме того, если я хочу узнать что-нибудь об Андре, мне надо быть в гуще событий, а судя по знакам различия и наградам, которыми были увешаны немецкие шишки, встреченные мной в холле отеля, «Риц» был как раз таким местом, лучше не придумаешь.
— Это не патриотично! — Мися так и кипела от злости. — Жить в одном доме с захватчиками! Ты должна немедленно переехать к нам!
Я опасалась, что линия прослушивается, поэтому ответила кратко:
— Я уже здесь устроилась. Заплатила вперед, а кроме того, должна приглядывать за ателье. Через пару дней встретимся и поговорим. — И повесила трубку.
Я очень разозлилась, впрочем, так было всегда: даже в самые трудные времена Мися не желала прислушиватся к голосу разума. Чтобы успокоиться, я занялась чемоданами и сундуками. Все оказалось на месте. Мои шприцы и флаконы с успокоительным хранились в потайном отделении под сложенным нижним бельем. Ничего не тронули. Я выбрала черное вечернее платье, одно из самых скромных, нитку жемчуга, радуясь как ребенок, что мои вещи снова со мной. Сегодня мне просто необходимо произвести впечатление, и лучше всего выглядеть, как всегда, безукоризненно элегантной.
Нынче вечером я буду обедать у всех на виду: пусть Париж знает, что Коко Шанель вернулась домой.
Ресторан отеля был, как обычно, полон, хотя на этот раз за столиками сидели не обычные завсегдатаи: богатые постояльцы, бедные писатели, которые спят со скучающими женами аристократов, или капризные, вечно чем-то недовольные жители, давно поселившиеся где-нибудь поблизости. Впрочем, кое-кого я узнала и любезно улыбнулась им, проходя к своему столику: наследница огромного состояния, уже успевшая развестись с мужем, американка Лора Мей Корриган, которая уже несколько лет занимает здесь многокомнатный номер, французская киноактриса и моя постоянная клиентка Арлетти и еще несколько элегантных дам со своими спутниками. Но больше всего было немцев в прекрасно сшитых костюмах и даже в смокингах, с прилизанными бриллиантином волосами и в дорогой обуви, начищенной до такого блеска, что хоть смотрись в них, как в зеркало; их румяные, довольные лица вторили торжествующему блеску в глазах.
— Мадемуазель будет обедать одна? — спросил официант, наполняя бокал водой и кладя передо мной вечернее меню с позолоченными краями.
Я кивнула в ответ, развернула крахмальную салфетку с монограммой отеля, положила ее на колени и незаметно оглядела зал. Как могло так все измениться за столь короткое время, просто поразительно, хотя внешне как будто все оставалось как прежде: тихая мелодия скрипки где-то на заднем плане, звон тонких бокалов, звяканье серебряных или фарфоровых тарелок, официанты в черных костюмах, бесшумно снующие между столиками и разносящие на подносах деликатесы. Устрицы на льду, стейк с кровью с pomme-frites и бобами, омары, крабы и другие fruits de mer[46] — все прославленные фирменные блюда, благодаря которым ресторан отеля «Риц» считался одним из самых престижных мест, где можно хорошо пообедать.
Я заказала коктейль из креветок и луковый суп. Во время обратного путешествия я питалась кое-как, ела шоколадные батончики и гнилые апельсины, которые нам удавалось добыть по дороге, и платье на мне сейчас висело как на вешалке. Но странное дело, у меня почему-то не было аппетита. В голове звучали обвинения Миси, со злостью брошенные в мой адрес: «Это не патриотично! Жить вместе с захватчиками!» Я даже начала сомневаться, права ли я, решив остаться здесь. Возможно, лучше было бы, или, по крайней мере, благоразумнее — упаковать вещи и переехать на улицу Риволи. Наверняка я там буду несчастна, зато ни один человек не станет меня упрекать в равнодушии к несчастному положению нашего народа и в том, что я вожу компанию с шайкой нацистов.
И тут я почувствовала на себе чей-то взгляд.
Сначала ощущение было странным — легкое покалывание в затылке. Я не обратила на это внимания, сосредоточившись на еде и даже обменявшись несколькими любезными фразами с Арлетти, жутко накрашенной, как всегда, словно вокруг нее постоянно стрекочут кинокамеры, и к тому же довольно пьяной от шампанского. Арлетти представила меня своему «конвоиру», как она назвала его, хотя это был лишь немецкий офицер, крепкий молодой человек, который лихо щелкнул каблуками, склоняясь к моей руке. Демонстрируя совершенно нелепую галантность, он поцеловал кончики моих пальцев и заявил, что для него большая честь познакомиться с несравненной Шанель.
— Ваш магазин, — поведал он мне, — вызвал колоссальное воодушевление, да что там — безумный восторг моих товарищей по оружию. Буквально каждому хочется привезти в Германию в подарок жене или сестре какой-нибудь символ великолепного Парижа, и нет более ценного символа, чем «Шанель № 5».
Должно быть, я вздрогнула от изумления, впрочем, скорее всего, так оно и было, поскольку Арлетти хихикнула:
— Дорогая, разве вы не знаете, что ваш бутик снова открылся? Жизнь должна в конце концов войти в нормальное русло, и ваши сотрудники делают вам на продажах состояние. Вам следует туда завтра заглянуть. Ваши духи пользуются бешеным успехом.
— Хорошо, загляну, — ответила я, и они, слава богу, распрощались и отошли.
Я бросила взгляд через плечо: они направились к столику, за которым сидел еще один нацист, потный и здоровенный как боров, он жадно пожирал свою еду, а рядом со столиком по стойке «смирно» стоял женоподобный юнец с салфеткой.
— Это рейхсмаршал Герман Геринг, — услышала я за спиной тихий голос. — Правая рука фюрера, главнокомандующий военно-воздушными силами.
Я повернулась на стуле и увидела устремленные на меня пронзительные голубые, как лед, глаза.
Он был по-настоящему красив, это я сразу отметила, и, хотя стоял он, наклонившись над моим стулом, видно было, что и роста немаленького. Длинные конечности, наверняка хороший наездник, темно-синий костюм, из нагрудного кармашка торчит кончик красного шелкового платка в тон галстуку, светлые волосы напомажены и блестят, тонкие губы, орлиный нос, острые скулы — все это неожиданно напомнило мне горделивый аристократизм Бендора и одновременно дерзкую притягательность Боя.
Я смотрела на него, не отрывая глаз. Он сделал шаг назад.
— Позвольте представиться, — на безукоризненном французском произнес он, — барон Ханс Гюнтер фон Динклаге. Друзья зовут меня Шпатц, в переводе с немецкого «воробышек». А ваше имя, вероятно…
— Думаю, вы прекрасно знаете, кто я такая, — более резко, чем следовало, ответила я.
Надо же, и дня не прошло, как я вернулась в Париж, а рядом со мной уже топчется немец — красивый, да и, похоже, гораздо моложе меня, но ведь немец, черт возьми!
— Да, конечно. — Он приложил руку к груди, и на указательном пальце сверкнуло серебряное кольцо. — Я знаю, кто вы. Вообще-то, должен признаться, я вижу вас не впервые. Мы с вами уже однажды встречались.
— Разве? — Я внимательно всмотрелась в его лицо, пытаясь вспомнить. — Не думаю, месье. Что-то не припоминаю.
Я уже собралась вернуться к своей тарелке, как он произнес:
— Несколько лет назад в Монте-Карло. На вас было черное платье, вот как сейчас, а на шее нитка жемчуга. Я не посмел тогда подойти к вам, поскольку вы, кажется, были очень увлечены неким русским князем.
Я так и похолодела. И сразу, стараясь не выдавать внезапно охватившего меня страха, я снова повернулась к нему. Он улыбался! Внезапно память моя прояснилась, и я увидела его стоящим на палубе яхты, которую арендовала для празднования своего сорокалетия. Да, это тот самый человек, который тогда, разговаривая с Верой Бейт, смотрел на меня, не отрывая глаз.
— Ага! — Он улыбнулся еще шире. — Вижу, вы вспомнили меня.
— Вы были у меня на празднике. В тот вечер, когда я познакомилась… — Но тут я вовремя остановилась.
Не стоит рекламировать свои отношения с Бендором. Хотя в прошлом он и был горячим сторонником Гитлера, но оставался англичанином, значит может рассматриваться как потенциальный враг Третьего рейха.
— Да, был. — Он посмотрел на пустой стул напротив меня. — Вы разрешите присесть за ваш столик?
Ну как я могла отказаться? Зал был полон немцев, совсем рядом, через несколько столиков, сидел один из самых главных приспешников Гитлера. Я кивнула. Он сел. К нам сразу поспешил официант. Шпатц заказал бутылку вина, очень дорогого. Мы сидели и ждали, когда его откроют и разольют по бокалам.
— Позвольте спросить, почему вы в Париже? — небрежно спросил он. — Я слышал, вы закрыли ателье и уехали.
Я подперла подбородок рукой, демонстрируя беззаботность и безразличие. Неужели я уже под подозрением? Спокойствие, только спокойствие. Я ничего такого не сделала.
— Я ведь живу в Париже, здесь, в «Рице». Мой магазин снова открылся и работает. Я что, не могу заниматься своими делами, обязательно надо задавать вопросы?
— Естественно, можете. — Он взял у официанта бутылку, налил вина в мой пустой бокал. Сначала потянул над ним носом, чтобы оценить букет, потом попробовал. — О да. Превосходное. Лучше французов вино делать никто не умеет.
— У вас в Германии нет своего вина? — с сарказмом спросила я и снова внутренне вздрогнула: мне мой тон не понравился. Полегче, если так пойдет дальше, еще до утра меня арестуют.
— Отчего же, есть, но… — он наклонился ко мне с мальчишеской улыбкой, и в уголках глаз его расцвели мелкие морщинки, — не такое хорошее. Сохраняет вкус винограда. А кроме того, — добавил он, откинувшись на спинку стула, — я больше прожил здесь, чем там. Я атташе германского посольства на улице Лилль, живу в Париже с двадцать восьмого года. Я не чистокровный немец, моя мать — англичанка, а родился я в Ганновере. И в Довиле однажды даже играл в поло. — Он помолчал, его бледно-голубые глаза оценивающе глядели на меня. — Надеюсь, вы знакомы с этой игрой?
— Да, знакома, — ответила я.
Что же делать: извиниться и поскорей удрать отсюда или снисходительно продолжать его слушать? Он заинтересовал меня хотя бы тем, что, похоже, знает обо мне больше, чем я думала.
— Сейчас я служу в министерстве иностранных дел под началом фон Риббентропа, которому фюрер поручил проследить исполнение кое-каких важных дел в Париже, — пояснил он, хотя я его об этом не просила. — Мне поручили вести кое-какие дела в нашей военной администрации, касающиеся текстильной промышленности. А ваш род занятий ведь тоже имеет отношение к текстилю, верно?
— Вы прекрасно знаете, что я модельер. Так что да, можно и так выразиться.
Вино ударило мне в голову: я несколько недель не пила ни капли. А почему бы с ним не пофлиртовать? Желание необъяснимое с точки зрения разума, минутный порыв, импульс, и, как бы сказала Мися, непозволительный. Он был один из них, захватчик. Тем не менее меня почему-то влекло к нему; в его манерах, словах было что-то саркастически-ироничное, в тоне почти открытая и явная насмешка, но не по отношению ко мне, а по отношению к ситуации, в которой мы оказались, словно он понимал, что весь мир вокруг нас перевернулся с ног на голову.
— У вас, должно быть, хорошие связи, — наконец заметила я.
Я полезла в свою вышитую бисером сумочку, чтобы достать портсигар. Потом подняла глаза: он уже протягивал зажигалку. От Картье, как и моя. Щелкнул, улыбаясь, дал мне прикурить, в то время как я не сводила с него глаз.
— Наверное, вы знакомы со многими влиятельными людьми, — продолжала я.
Я прощупывала его, и он это прекрасно понимал. Видно было по глазам, в которых плясали огоньки, озорные и любопытные, словно приглашая продолжать нашу игру.
Он снова наклонился ко мне поближе:
— Я, например, знаю, что рейхсмаршал Геринг — морфинист, и здешний управляющий вынужден был поставить в его номер огромную новую ванну, потому что тот считает, будто горячие ванны притупляют действие его порока.
Я чуть не ахнула вслух. Глядя через мое плечо на жирного командующего люфтваффе, фон Динклаге снова наклонился ко мне.
— Но ванна уж точно никак не излечит его от страсти к бриллиантам и дамским платьям, что так удачно обнаружила мадам Корриган, — прошептал он совсем тихо, словно делился со мной какой-то важной государственной тайной. — Он, видите ли, выселил ее, а сам занял ее номер, и ей, чтобы хоть как-то прожить, приходится продавать ему кое-что из своей бесценной коллекции платьев. Геринг обожает в них наряжаться и, накинув на плечи прозрачный шелк, вальсировать со своими мальчиками.
Мне пришлось наклонить голову и прижать пальцы к губам, чтобы удержаться от смеха. Шпатц снова откинулся на спинку стула и с довольным видом улыбнулся.
— Наверное, все это не столь уж важно, — сказал он, поднимая бокал. — Тем не менее достаточно забавно, вы согласны?
Забавно, что и говорить. Впервые с тех пор, как нацисты вторглись в нашу страну, жуткий мрак оккупации несколько рассеялся, когда этот ужас свелся к курьезному образу Геринга, который кружится по комнатам в женском платье и с диадемой Лоры Мей Корриган на голове.
— Все мы люди, — прибавил Шпатц, словно читая мои мысли, мне даже стало не по себе. — Пока власть в наших руках. Но, — пожал он плечами, — кто скажет, надолго ли? Те из нас, кто между молотом и наковальней, мадемуазель… М-да, история показывает, что все мы должны учиться как-то выживать.
Я кивнула, а что еще оставалось делать?
— Да, — сказала я, — должны. Во всяком случае, я уж точно намерена выжить.
Шпатц самодовольно хмыкнул.
— У вас-то, думаю, все получится, — с обаятельной улыбкой промурлыкал он. — Ну так вот. Я выдал вам одну военную тайну. А теперь ваша очередь. Расскажите, например, зачем вы вернулись в Париж? Обещаю, это останется строго entre-nous.[47] Я человек чести. Мое слово — для меня все.
— Правда? — Я прикурила еще одну сигарету. — Ну что ж… Я действительно приехала не просто так. Я разыскиваю одного человека. Это мой племянник, если быть совсем точной. И если вы предлагаете мне дружбу, называйте меня Коко.
10
Шпатц жил не в отеле «Риц». В своей небрежной манере, когда все, что он говорит, кажется менее серьезным, чем есть на самом деле, он сообщил, что на улице Перголез у него квартира — трофей, который он получил в результате недавнего романа. «С весьма привлекательной и богатой парижанкой, которая, — прибавил он, озорно подмигнув мне, — не на все сто процентов арийской крови». Его любовница со своим любезным муженьком решила на всякий случай покинуть Париж, поручив свою квартиру его заботам.
Шпатц оказался гораздо более опытным обольстителем, чем пристало мужчине. Я чувствовала, что его интерес ко мне был искренним, как и предложение помощи, но у него на уме явно было кое-что еще, некая иная цель. Он дал мне это ясно понять, когда вечер уже подходил к концу и, настояв на оплате моего счета, он провожал меня до холла, где немецкие офицеры общались со своими спутницами, курили и попивали мятный аперитив.
— Хотите, я загляну к вам завтра, когда наведу кое-какие справки? — спросил он, когда мы закурили по послеобеденной сигарете.
Я старалась не хмуриться при виде Арлетти, развалившейся на кушетке возле окна и с обожанием глядевшей на своего юного офицера, который забавлял ее какими-то байками. Другие дамы были заняты тем же самым, их надушенные пальчики легко касались рук кавалеров в военной форме, обещая многое притворно застенчивыми, жеманными взглядами сквозь ресницы, густо намазанные тушью. Как сказала Арлетти, жизнь должна войти в нормальное русло, если, конечно, распростертые объятия для нацистов можно назвать нормальным явлением.
— Нет, завтра я занята, — ответила я. — Надо присмотреть за магазином, а потом хочу навестить кое-кого из друзей.
Чтобы как-то смягчить отказ, я одарила его ослепительной и ни к чему не обязывающей улыбкой. Его общество мне понравилось даже больше, чем я могла сама себе в этом признаться, но у меня не было намерений предоставлять ему возможности для дальнейшего сближения, пока он не выполнит своего обещания и не узнает, где Андре и что с ним.
— Вы же знаете телефон и гостиницы, и магазина, — прибавила я. — Звоните, если что узнаете.
— Но вечером вы все-таки не заняты?
Ну надо же, какой упорный! И говорит опять в своей непринужденной, если не сказать развязной манере, не видно, что он хоть сколько-нибудь обескуражен.
Я помолчала, погасила окурок в ближайшей пепельнице.
— Кто знает, что может случиться завтра?
Я протянула ему руку. Если бы он наклонился и поцеловал кончики моих пальцев или задержал мою руку в своей, я бы с благодарностью приняла информацию, которую он мог разнюхать у своих начальников, но не более того. Меня так просто не соблазнить. Подумаешь, какой-то атташе со связями захотел прибавить и меня к своему наверняка впечатляющему списку побед.
Но, к моему замешательству, Шпатц просто пожал мне руку.
— Доброй ночи, Коко, — сказал он, повернулся и ушел, а я осталась на месте, несколько озадаченная.
Да, он меня очень удивил. Теперь такое со мной случалось нечасто.
Спала я на этот раз лучше, чем прежде, с тех пор как немцы захватили страну и заняли город, — все благодаря инъекции. Мне давно уже вполне хватало небольшой дозы лауданума, которая со временем даже становилась все меньше. Проснулась я посвежевшая, без той мрачной неразберихи в голове, к которой уже успела привыкнуть, и мне сразу пришло в голову, что с этой зависимостью пора кончать. Невеселые мысли про лежащего в горячей ванне Геринга только укрепили решимость. Тем более что неизвестно, можно ли в оккупированном городе достать седативные препараты, а к услугам спекулянтов черного рынка прибегать не хотелось.
Едва я успела одеться, зазвонил телефон. Трубку я сняла не сразу, подумала, это, наверное, Шпатц — хочет воспользоваться своим преимуществом. Если так, пусть оставит записку внизу, у администратора, поскольку я сомневалась, что он успел обнаружить хоть что-то за такой короткий срок. Трезвон прекратился, но потом телефон затрещал снова, и я подняла трубку.
— Дорогая, — послышался в трубке голос Миси, — у тебя еще остались наши голубые капли?
Она снова говорила так, словно задыхалась, голос был совершенно безумный. Я все поняла. Из Парижа она не уехала. Изолированная в одном доме с Жожо и его язвительным юмором, глядя, как немцев в городе становится все больше, она стала употреблять наркотик чуть ли не круглосуточно и очень страдала, когда начинались ломки.
— Да, зайду сегодня днем и занесу, — ответила я, стиснув зубы.
Теперь другого выхода у меня не было, только твердый самоконтроль, поскольку, раз уж Мися решила, что я могу обеспечивать ее вожделенным наркотиком, она будет ненасытна.
— Ох, ну слава богу! — вздохнула она. — А то я совсем отчаялась. Жожо ничего не воспринимает серьезно. Хочет пригласить их к нам домой — сюда, представляешь, вот в эту гостиную! Говорит, нам нужны деньги. Они объявили Пикассо и других художников дегенератами, но втихаря скупают все, любые картины. Он думает, мы сможем заработать на комиссионных, если…
Я перебила ее:
— Да-да, Мися, я все поняла. Поговорим об этом после. Мне надо идти, у меня магазин.
Она замолчала. Потом снова заговорила, с явным недоверием:
— Магазин? А я думала, ты его закрыла. Уж не собираешься ли ты продавать свои модели этим варварам?
— Мися! — Я старалась говорить как можно более мягко, меня беспокоило, что наша линия могла прослушиваться. — Они приказали открыть все магазины и снова торговать. И не только магазины — все, понимаешь? Универмаги, кино, театры, издательства и салоны модной одежды. Люсьен Лелонг, Мадам Гре, Баленсиага, да и другие модельеры, даже сейчас, когда мы с тобой говорим, готовят свои коллекции к показу. Я просто не могу…
— А вот Скьяпарелли отказалась! Уехала в Америку, и все. И Мейнбохер тоже. Вионне закрыла ателье, а Молине в Лондоне. — Она громко вздохнула. — Коко, это же будет скандал, — продолжила она. — Национальный позор. Ведь никто из них не знаменит, как ты. И откуда, черт возьми, ты знаешь, что другие модельеры работают? Ты только вчера вернулась.
Я молчала. В трубке трещали и хрипели помехи. Шпатц сообщил мне о распоряжении министерства иностранных дел, обязывающем все предприятия, фирмы и компании в Париже возобновить свою деятельность, за исключением газет и радиостанций, которые теперь подвергались строгой цензуре.
— Ты не посмеешь потакать… — начала было Мися, но потом, видно, передумала посылать на мою голову излишние проклятия, понимая, что уж если я отказалась ей отвечать, то запросто могу бросить трубку. — Прекрасно, — сказала она. — Делай что хочешь. Ты всегда все делаешь по-своему, что бы я ни говорила.
— Это касается только духов, — сказала я. — Больше ничего. Мои сотрудники сами вынуждены были открыть магазин. Они продают «Шанель № 5» и некоторые другие духи, и это все. Ателье остается закрытым.
— А-а… — Она несколько секунд молчала. — Ну ладно. Тут уж, я думаю, ничего не попишешь.
— Да, ничего не попишешь. Послушай, Мися, ей-богу, мне надо идти. Жди, я скоро забегу. Главное, не волнуйся. У меня все хорошо, честное слово. Я просто должна это делать. Андре, он… он… — Голос у меня вдруг прервался.
Слава богу, я не успела проболтаться о таких вещах, о которых по телефону говорить нельзя ни в коем случае, и положила трубку.
Достала чемодан, вынула три шприца и три ампулы. Я, конечно, помогу ей, насколько смогу в сложившихся обстоятельствах, думала я, выходя из дому, но прежде всего надо помочь самой себе.
Элен и мадам Обер были счастливы видеть меня, особенно после того, как я успокоила их и сказала, что все понимаю, они ни в чем не виноваты и не могли не открыть магазин. У нас ведь живое дело, немецкие солдаты в увольнении стоят возле моего бутика на первом этаже в очередь, чтобы купить духи. Я вошла через черный ход, и Элен показала мне пустые полки на складе:
— Скупают даже то, что стоит на витрине, мадемуазель. Все хотят, вернувшись домой, похвастаться вашим фирменным знаком, чтобы доказать, что они были не где-нибудь, а в самом Париже. И вовсе они не такие невежественные и грубые, но нам уже просто нечем торговать, все запасы закончились. Пришлось снова взять на работу бывших наших работниц, чтобы как-то удовлетворить спрос. Так было каждый день. Осталось что-то около сотни флаконов. К завтрашнему дню, в крайнем случае к послезавтрашнему, все будет продано.
Проверив бухгалтерские книги, я убедилась, что она права.
— А как насчет флаконов, которые мы перенесли в квартиру?
— Все продали, — ответила она. — Простите, но выбора не было.
— Нет-нет, все в порядке. Им нужны духи, и нам приказали их продавать. Тут уж ничего не попишешь, — сказала я, повторяя слова Миси. — Дайте-ка я позвоню Полю Вертхаймеру. Ему лишь придется увеличить постоянное поручение оптовому торговцу. После всех неприятностей, которые я пережила благодаря ему, это самое меньшее, что он может для меня сделать.
— Мы уже пробовали, — сказала мадам Обер. — До месье Вертхаймера не дозвониться.
— Это еще почему? — нахмурилась я.
— Его нет во Франции. Они с братом отправились в Нью-Йорк. Когда мы позвонили оптовому торговцу, нам сказали, что фирма «Буржуа» и ее филиалы были поручены их кузену Раймону Боллаку. Но он не захотел с нами разговаривать. Сказал, что будет говорить только с вами.
— Отлично! — Я сгребла бухгалтерские книги и направилась к лестнице. — Позвоню из квартиры. Продавайте все, что осталось, а я постараюсь достать еще.
Остаток дня я посвятила пререканиям по телефону с Раймоном Боллаком, недавно назначенным инспектором дочерней компании «Духи Шанель». Он оказался упрямым, как только может быть всякий, у кого в жилах течет кровь Вертхаймеров. Он привел меня в бешенство, когда стал ссылаться на возросшие расходы на транспорт и другие препятствия, которые немцы чинят для того, чтобы вымогать дополнительные проценты за увеличение поставок моих духов. Расхаживая по комнате с телефонной трубкой и таская за собой провод, я в конце концов не выдержала, разоралась на него в трубку и чуть не выдернула провод из стены. Пришлось признать, что его на кривой кобыле не объедешь, но в результате этой ругани с ним я еще раз твердо убедилась: надо поскорее избавляться от мертвой хватки Вертхаймеров, держащих меня за горло своим партнерством уже восемнадцать лет. Судебные тяжбы и судебные запреты на них не действовали, я потеряла свое кресло в правлении собственной компании, и это после того, как потратилась на огромные гонорары своим адвокатам. Сколько можно терпеть такое безобразие?
Отзвуки моей горячей дискуссии, должно быть, были слышны внизу: когда я снова спустилась в бутик, уже заполненный немцами, мадам Обер вопросительно посмотрела на меня.
— С ним невозможно разговаривать! — выпалила я в ответ. — Ждите меня завтра.
Я выскочила на улицу, поймала такси и помчалась на улицу Риволи настолько злая, что, если бы не начинающийся вечер и народ кругом, я бы точно достала шприц и всадила себе дозу прямо здесь, на заднем сиденье машины.
У Миси я несколько успокоилась. Жожо пребывал в своем обычном саркастическом настроении, рассуждал о том, что в конце концов немцы заставят его полюбить свиные сардельки. Мы с Мисей отправились в спальню, где я сделала ей укол — у нее самой руки тряслись. После этого ей сразу стало лучше, и она рассказала, что Кокто со своим любовником, актером Жаном Маре, сбежали на Лазурный Берег, воспользовавшись гостеприимством писательницы по имени Колетт и ее мужа-еврея.
— Они уехали к Колетт? — фыркнула я. — С чего это вдруг, черт возьми? Она же всегда терпеть не могла людей нашего сорта. Разве она тебе не рассказывала, в какой пришла ужас, когда узнала, что я собираюсь замуж за Ириба?
— Да, это правда, я знаю.
В глазах Миси появился хищный блеск. Ей до смерти надоело сидеть в четырех стенах в обществе своего Жожо и его ядовитых сигар, она жаждала поскорее предаться своему любимому занятию — сплетням — и, не тратя времени даром, тут же принялась передавать мне самые последние подробности жизни нашего капризного и непредсказуемого драматурга.
— Разумеется, как только Колетт увидела нашего Жана — Жан, натурально, принял приличную дозу опиума, словно назавтра объявили конец света, и выпил у нее все, что можно пить, кроме морской воды, — то заявила, чтобы они немедленно убирались из ее дома. Они там откалывали такие номера… В общем, она страшно перепугалась, что это привлечет внимание нацистских шпионов и ее мужа арестуют.
— Не понимаю. Ей-то чего беспокоиться? На юге ведь немцев нет.
Мися бросила взгляд на Жожо, храпевшего на диване после целой бутылки дешевого столового вина и тарелки какой-то отвратительной еды.
— Ходят слухи, что правительство в Виши пляшет под их дудку, — сказала она, снова поворачиваясь ко мне. — Отто Абец, посол рейха, ненавидит евреев. Всем известно, что у него, как и у Гитлера, это пунктик, оба настоящие параноики.
Интересно. Меня всегда поражало, каким образом, находясь, как она утверждает, в полной изоляции, Мися умудряется держать нос по ветру и знать все, что происходит за стенами ее дома. Еще я подумала, что довольно страшно слушать рассуждения вслух про политику нацистов, когда они ходят по улицам под окнами этого самого дома.
— А что Лифарь? — спросила я, меняя тему. — Я еще не сообщила ему, что вернулась. Он все еще танцует?
— А что ему сделается? — Она скорчила гримасу. — Даже додумался пригласить лично Гитлера, когда фюрер прибыл сюда с визитом. Провел с ним экскурсию по «Гранд-опера». Заявил, что Гитлер ему очень понравился. Говорит, никто так с ним хорошо не обходился со времен Дяги.
— Да, ну что поделаешь, тщеславен. Думает, он так красив, что ни один мужчина не устоит.
Мися самодовольно улыбнулась:
— Кто его знает, может, и правда. Гитлер, говорят, большой оригинал. Во всяком случае, Лифарь сам превратил себя в удобную мишень. Ему бы надо поостеречься. В Париже ни один человек, кроме него, так горячо не приветствует приход немцев. — Она помолчала, так пристально глядя на меня, что я смутилась. — Ну а ты, дорогая, каковы у тебя планы? Ты уже успела произвести впечатление хоть на парочку нацистов?
— Прошу тебя… — Я закатила глаза к потолку, но она, как всегда, видела меня насквозь.
— Признавайся, кто он? — потребовала она ответа. — Ну скажи, что это не какая-нибудь высокопоставленная свинья типа Геринга.
— Геринга? — Я рассмеялась. — Слушай, что я тебе расскажу про этого страшного рейхсмаршала…
Слушая мой рассказ про эксцентричные забавы Геринга, Мися так гоготала, что я было успокоилась, подумала, что она забыла про предпринятое ею только что расследование. Но когда я уже приготовилась уходить, не дожидаясь комендантского часа — немцы установили его с девяти вечера, и не хотелось попасться им в лапы на улице, — она, помогая мне надеть пальто, снова заговорила:
— Слушай, будь осторожна. Помочь племяннику — это прекрасно, конечно, но когда все закончится, ты можешь пострадать. Хвастовство Лифаря доказало это. Люди из «Свободной Франции» начеку, смотри, как бы тебе не вляпаться, потом не отмоешься, когда мы вышвырнем отсюда этих свиней.
Я кивнула и поцеловала ее.
— Сейчас я невинна, как монашенка, — поддразнила я ее, но, спустившись на улицу, чтобы поймать такси, все думала про ее предостережение, и оно терзало мне душу.
Возможно, лучше всего прикинуться, будто я никогда не знакомилась со Шпатцем фон Динклаге. Так безопасней.
Следующие несколько недель, когда жаркий сентябрь неторопливо подбирался к октябрю, я занималась своим бутиком, а по вечерам бывала на непринужденных сборищах у Сертов. Меня навестил Лифарь. Худой и загорелый, он как дитя радовался моему возвращению: горячо расцеловал и угостил жуткими байками о своих встречах с немецкими офицерами, которые приводили французских любовниц или толстых жен посмотреть, как он танцует, а потом являлись за кулисы, чтобы поласкать его, как какую-нибудь шлюху.
— А ты и есть шлюха, — проворчала я, и он рассмеялся.
— Что я могу поделать? Они все такие блондины, такие мускулистые, такие все арийцы. Говорю тебе, — продолжал он, с похотливой улыбочкой на порочных губах склоняясь к моему уху, — мы просто обязаны убедить Кокто вернуться. В этом году в Париже не жизнь, а малина!
Это был треп, конечно, только в случае с Лифарем за этим трепом что-то стояло. Его пригласили на гастроли с «Русским балетом» в Берлин, и, услышав об этом, Мися сердито нахмурилась:
— Да как ты смеешь?! Неужели будешь прыгать как кузнечик перед самим Гитлером?
— А я уже прыгал, — ухмыльнулся Лифарь. — Поэтому меня и пригласили.
Мари-Луиза, тоже посещавшая наши посиделки, тут же вставила, что она устраивает званые чаепития, на которых бывают вполне приятные немцы, говорящие по-французски, — например, глава отдела пропаганды Геллер явился, чтобы отведать ее деликатесов с черного рынка, послушать поэтов и насладиться искусством танцовщицы Кариатис.
— Ты же когда-то брала у нее уроки, помнишь? — сказала она; я как раз сидела за пианино и наигрывала старую песенку, еще из моего прошлого в Мулене. — На днях она рассказывала нам, как одержима ты была танцами. Что ты даже хотела стать профессиональной танцовщицей — так она утверждает.
— Никогда я не хотела стать танцовщицей, — усмехнулась я. — А как это Элиза выступает, в ее-то возрасте? Ей сейчас небось не меньше семидесяти. Сомневаюсь, что это приятное зрелище.
— Вообще-то, — сказала Мари-Луиза, — мне кажется, вы с ней почти одного возраста, дорогая Коко.
Я бросила на нее сердитый взгляд. Путешествовать с ней по Франции — уже достаточно суровое испытание, а теперь я еще и здесь должна терпеть ее глупые разговоры. Но она заговорила, что немцы собираются выпустить из концлагерей большую часть из трехсот тысяч французских военнопленных, ведь с правительством в Виши заключили перемирие и военные действия прекратились. Я воспользовалась этим и постаралась вытащить из нее как можно больше интересующей меня информации.
— А кто руководит освобождением пленных? — спросила я. — И куда их потом отправят?
Она скорчила недовольную гримасу, удивление пополам с презрением.
— Мне-то откуда знать? А тебе зачем?
— Да так, — ответила я, перехватив быстрый взгляд Миси, — просто любопытно.
Уже потом Мися отозвала меня в сторонку:
— Мари-Луиза и ее шайка дружат с нацистами. Ей нельзя доверять. За стейк она на собственную мать настучит.
В тот вечер в «Риц» я вернулась расстроенная, все раздумывала, не позвонить ли Шпатцу. От него давненько не было ни слуху ни духу, если не считать одного звонка в магазин, когда он сказал, что он все еще изучает проблему, которую мы с ним обсуждали. Шпатц не делал никаких попыток со мною встретиться, и это огорчало меня даже больше, чем я сама ожидала: во мне пробуждался дух моей уходящей молодости. Я узнала, что ему сорок пять, то ест он почти на тринадцать лет моложе меня. Было бы лучше, если бы он держался на почтительном расстоянии, говорила я себе. В конце концов, не важно, что у него мать британка, что он всего лишь атташе, а не военный, все равно Шпатц — один из них, а у Сертов я наслушалась достаточно сплетен. Мне уже успели напеть в уши, что кое-кто из моих друзей ведет себя не только неблагоразумно, но и безответственно и беспечно. Конечно, все мы теперь зависим от милости чужой власти, но Арлетти сама постаралась, чтобы стать позорищем Парижа, когда завела интрижку с нацистом, а те, кто шумно призывал к сопротивлению, заклеймили Лифаря предателем и жаждали его крови. Хотя это их не слишком волновало. Лифарь частенько шутил, что если бы ему пришлось подняться на эшафот, то он бы хотел надеть белый парик, как у Марии Антуанетты, — но, как говорила Мися, если война обернется поражением немцев, возмездие не заставит себя ждать.
И все же я не могла не чувствовать обиду и тайный стыд, что Шпатц не проявлял особой настойчивости заманить меня в постель.
Неужели я окончательно потеряла свою женскую привлекательность?
Через несколько недель, после долгого дня в магазине, я вошла в холл «Рица» и увидела поджидающего меня Шпатца.
При моем появлении он сразу встал. Шляпу Шпатц держал в руке, одет был в серый костюм, удачно оттеняющий его голубые глаза. Золотистые волосы взъерошены, на них не было и следа помады. Я так и застыла на месте. Сердце заколотилось.
Это ощущение мне очень не понравилось.
Я хотела было пройти мимо.
— У меня есть для вас новости, — произнес он.
Я остановилась и холодно посмотрела на него:
— Вы знаете, где мой номер. Только подождите минут десять.
Очутившись в номере, дрожащими руками я закрыла дверь на ключ и сразу прошла в ванную комнату к зеркалу. Ничего другого я увидеть и не ожидала: под глазами синие тени, уголки губ поникли от бесконечных пререканий по телефону с поставщиками. Утомительная работа, неустроенность жизни в этом маленьком помещении, где мало света и воздуха, — все это оставило свой след на моем лице.
Я взяла губную помаду, которой всегда пользовалась, слегка подкрасила губы, чтобы убрать бледность, тронула щеки, провела щеткой по волосам, морщась при виде седины у корней волос. Пора снова покраситься, а это означало рыскать по универмагам, где пустые полки, или умолять эту противную Мари-Луизу поискать на черном рынке нужный цвет краски для волос. Я уже собиралась прыснуть на себя духами, как вдруг раздался стук в дверь. Я поставила флакон на место. Он сразу учует запах, а мне не хотелось, чтобы он подумал, будто я сгораю от желания встретиться с ним.
Впустив Шпатца в комнату, я почувствовала, как в душе у меня что-то сломалось. Я смотрела на него, скрестив руки на груди; его силуэт неясно вырисовывался в проеме двери и казался больше, чем он был на самом деле. Похоже, он робеет даже больше, чем я, если такое возможно предположить.
— Ну? — начала я, стараясь говорить спокойно. — Вы сказали, что у вас есть новости.
Он кивнул, повертел в руках шляпу:
— Вашего племянника Андре Паласа в списках военнопленных, подлежащих освобождению, нет. Почему — я не знаю. Эта информация секретная, и допуска к ней у меня нет. Существуют вещи, которых мне не позволено видеть, и никто не может объяснить почему.






