Напролом Фрэнсис Дик
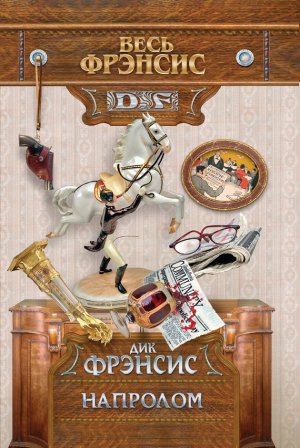
Крысеныш, то есть Бобби, любому постороннему показался бы самым обычным человеком с нормальным подбородком и довольно приятной улыбкой, но я промолчал. В доме Филдингов никогда не будут относиться беспристрастно к грехам и недостаткам Аллардеков.
Я провел у деда весь день и вечером вместе с ним обошел конюшни. Было всего половина пятого, но зимние дни коротки — на улице уже темнело, и в денниках горели желтые лампочки.
Конюхи, как всегда, суетились, выгребая навоз, разнося сено и воду, прибирая в денниках. Старый главный конюх (на которого, кстати, дед никогда не орал) обходил конюшни вместе с нами, обмениваясь с дедом короткими замечаниями по поводу каждой из пятидесяти или около того лошадей. Они беседовали тихо, серьезно и сосредоточенно. В их голосах слышалось некое сожаление.
Год со всеми его надеждами и триумфами подошел к концу, возбуждение улеглось…
Я очень боялся, что новый год для деда уже не наступит, что он заболеет или умрет. Он не хотел удаляться на покой, пока еще был в состоянии трудиться — ведь вся его жизнь была в работе, — но предполагалось, что в ближайшее время я поселюсь в этом доме и лицензия деда перейдет ко мне. Дед ожидал этого, владельцы были к этому готовы, мир скачек в целом полагал, что это дело решенное. Но я знал, что сам я к этому не готов. Я хотел еще хотя бы четыре-пять лет посвятить своему любимому занятию. До тех пор, пока у меня есть силы и есть владельцы, которые готовы мне платить, я хотел бы оставаться жокеем. Жокеи-стиплеры уходят раньше, чем те, кто участвует в гладких скачках, потому что падать с лошади на скорости тридцать миль в час тридцать раз за год — это забава для молодых, но я никогда не собирался бросать это дело раньше, чем в тридцать пять.
К тому времени, как мне исполнится тридцать пять, деду будет восемьдесят семь, а это даже для него многовато… Я передернул плечами — ветер был холодный, меня пробрала дрожь, — и прогнал эти мысли. Я готов был встретить будущее лицом к лицу, но ведь пока оно еще не наступило.
К большому неудовольствию деда, я расстался с ним у конюшен и вернулся в дом его врага, где застал конец того же вечернего ритуала обхода конюшен.
Лошади Грейвса все еще стояли в других денниках, а Бобби заметно повеселел: Найгель сказал ему, что когда Грейвс по воскресеньям заходил проведать лошадей, он по меньшей мере дважды принимал чужих за своих.
Я смотрел, как Бобби возится с лошадьми. Он ощупывал ноги, чтобы проверить, не воспалились ли связки, смотрел, как заживают мелкие царапины, дружески хлопал их по крупу. Бобби, несомненно, был прирожденным лошадником, и чувствовалось, что лошадям с ним хорошо и спокойно.
Временами Бобби казался мне слишком нерешительным, и умом он не блистал, но на самом деле он был вполне приятным парнем, и я понимал, почему Холли в него влюбилась. К тому же и сам он любил ее достаточно, чтобы забыть о старинной вражде и рассориться со своим могущественным отцом. А на это нужно было немало сил и мужества.
Он закончил ощупывать ногу лошади, выпрямился, увидел, что я смотрю на него, и инстинктивно вытянулся и враждебно уставился на меня.
— Филдинг! — сказал он так, словно это слово само по себе было обвинением и проклятием. Война продолжалась.
— Аллардек! — ответил я тем же тоном и слегка улыбнулся. — На самом деле я сейчас думал, что ты мне нравишься.
— А-а! — Он расслабился так же быстро, как напрягся, и немного смутился. — Я не знал… мне вдруг показалось… Я почувствовал…
— Ненависть, — закончил я. — Я знаю.
— Твоих глаз было не видно. У тебя был такой вид, словно ты в капюшоне…
Это было достаточно убедительное объяснение, и его можно было принять.
Я подумал о том, как же быстро темные иррациональные предрассудки всплывают на поверхность. Ведь и со мной временами бывает такое, хотя я усердно стараюсь это подавлять.
Он молча закончил осматривать лошадей, мы пошли к дому.
— Извини, — сказал он несколько неловко. Там… — он махнул рукой в сторону конюшен. — Я не хотел…
— Скажи, — с любопытством спросил я, — а о Холли ты когда-нибудь так думаешь? Как об одной из Филдингов? Она тоже кажется угрожающей, когда ее глаз не видно?
— Нет, конечно! Она совсем другая.
— В чем?
Он посмотрел мне в лицо и решил, что не будет ничего страшного, если он объяснит.
— Ты сильный, — сказал он. — Не только телом, но и духом тоже. Когда с тобой разговариваешь, это сразу заметно. Ты… я не знаю, как объяснить… Ты заметный. Тебя сразу видно. В весовой, где угодно. Ты не стараешься, чтобы тебя заметили, но люди всегда знают, к примеру, участвовал ли ты в той или иной скачке. Наверно это все чепуха… Это то, благодаря чему ты ста одним из лучших жокеев. И это свойство Филдингов. А Холли не такая. Она тихая, спокойна и в ней нет ни грамма этой агрессивности и честолюбия. Она совершенно не стремится быть на виду и кого-то побеждать. Она не Филдинг душе.
— Гх-мм.
Я ничего не сказал, только откашлялся. Бобби снова покосился на меня.
— Да нет, все в порядке, — сказал я. — Должно быть, дело действительно в моей наследственности, и я готов допустить, что Холли ею не запятнана. Но честолюбие в ней есть.
— Нет! — Бобби решительно покачал головой. — Она хочет, чтобы ты добился успеха. Чтобы вы оба добились успеха. Чтобы доказать, что вы были правы, когда поженились.
Он уже взялся за ручку двери, ведущей со двора в кухню, но остановился.
— Ты был против, как и все остальные.
— Да. По многим причинам. Но теперь я думаю иначе.
— Да, — честно признал Бобби. — И ты был единственным, кто пришел на свадьбу.
— Ну не могла же она ехать в церковь одна-одинешенька, верно? Надо же было кому-то ее проводить!
Он улыбнулся так же естественно, как перед тем проявил свою ненависть.
— Филдинг отдает руку своей сестры Аллардеку! — сказал он. — Я думал, уж не настал ли конец света.
Он отворил дверь, и мы вошли в дом. Холли, объединившая нас, растопила камин в гостиной и добросовестно пыталась выглядеть веселой.
Мы уселись в кресла, и я рассказал им о своих утренних поисках и заверил, что дед здесь ни при чем.
— Номера «Знамени» подбросили самое позднее часов в шесть, — сказал я, — и куплены они не в Ньюмаркете. Не знаю, в какое время поступает почта в Кембридж, но, думаю, ненамного раньше пяти утра. Так что вряд ли кто-то мог успеть купить в Кембридже штук двадцать газет, раскрыть их на нужной странице, обвести статью и разнести газеты по всему Ньюмаркету до того, как на улицах появятся почтальоны. Тут все-таки двадцать миль.
— Так ты думаешь, — спросила Холли, — что кто-то мог привезти их прямо из Лондона?
— Думаю, что да, — кивнул я. — Хотя, конечно, не значит, что это устроил кто-то не из здешних. Так что мы ни на шаг не продвинулись.
— Это все так бессмысленно! — сказала Холли.
— Похоже, никто из окна в шесть утра не выглядывал, — продолжал я.
— Хотя в нашем городе вполне мог бы. Но никто из тех, кого я расспрашивал, не видел, чтобы кто-то подходил в это время к его дому с газетой. Хотя, конечно, в шесть утра еще совсем темно. Мне говорили, что зимой и почтальонов-то почти не видно.
Телефон, стоявший на столике рядом с креслом Бобби, зазвонил. Бобби опасливо поднял трубку.
— Да… А, привет, Себ! — голос Бобби повеселел, но не очень.
— Это наш приятель, — пояснила Холли. — У нас его лошадь стоит.
— Видел, да? — Бобби скривился. — Тебе тоже прислали… — Некоторое время он слушал то, что ему говорили, потом сказал: — Нет, конечно, я не знаю, кто это сделал. Кто-то нас очень сильно не любит… Нет, конечно, это не правда! Я не собираюсь бросать дело. Ты не беспокойся, с кобылой твоей все в порядке. Я как раз сейчас щупал ей связку. Она холодная и крепкая. Так что все нормально. Что? Отец? Он мне и пенни не даст. Он сам сказал. Да, бессердечная свинья, ты совершенно прав… Нет-нет, не стоит и надеяться. Наоборот, он пытается выжать из меня деньги, которые одолжил мне на покупку машины лет четырнадцать назад. Ну да… Наверно, именно благодаря этому он и разбогател… Что? Нет, не состояние — это была подержанная развалюха, но у меня эта машина была первая. Наверно, в конце концов я ему заплачу — просто затем, чтобы отвязаться от его адвокатов. Ну да, я же говорю, все нормально. Не обращай ты внимания на это «Знамя»!
Он положил трубку. Вид у него был далеко не такой уверенный, как тон, которым он разговаривал по телефону.
— Еще один предусмотрительный владелец. У-у, крысы! Половина из них норовит сбежать, не дожидаясь, пока корабль пойдет ко дну. И половина еще не оплатила счета за прошлый месяц.
— А Себ оплатил? — спросила Холли. Бобби покачал головой.
— И хватает же наглости!..
— Он говорит, что получил заметку только вчера. Не всю газету, а только вырезку со статьей. Она пришла по почте. В обычном буром конверте.
Адрес напечатан на машинке. Конверт пришел из Лондона, как и все прочие.
— А что, всем владельцам прислали вырезки? — спросил я.
— Похоже, что да. Большинство из них звонили по телефону. Остальным я звонить не стал, так что не знаю.
Мы некоторое время посидели у камина. Я одолжил телефон, чтобы позвонить домой и получить сообщения с автоответчика, и перезвонил двум тренерам, которые предлагали мне участвовать в скачках на следующей неделе. Потом я позвонил двум жокеям, жившим в Ньюмаркете, и попросил подвезти меня завтра до Пламптона в Суссексе.
Они сказали, что уже договорились ехать вдвоем, и обещали подбросить.
— Ты сюда вернешься? — спросила Холли, когда я обо всем договорился.
Я посмотрел на ее обеспокоенное лицо. Бобби, похоже, тоже не имел ничего против. Я думал, что он вообще не хотел меня видеть с самого начала, но, похоже, ошибался.
— Останься, — коротко сказал он, и в его голосе звучала просьба, а не вражда.
— Да много ли с меня толку?
— Нам спокойнее, когда ты здесь, — ответила Холли.
Мне не особенно хотелось оставаться здесь из практических соображений.
Во вторник мне предстояли скачки в Девоне. Я предпочел поселиться в Ламборне, в частности, потому, что оттуда можно было доехать до любого ипподрома Англии и в тот же день вернуться домой. Ламборн был расположен в самом центре. Я виновато сказал:
— Мне все равно придется попросить кого-нибудь подвезти меня до Ламборна, потому что мне понадобится моя машина, чтобы во вторник доехать до Девона. Вот когда я во вторник вернусь в Ламборн, мы посмотрим, как будут обстоять дела, и тогда…
— Ладно, — сказала Холли упавшим голосом, даже не попытавшись меня уговорить.
Я посмотрел на ее унылое лицо. В печали она казалась красивее, чем в радости. Такое с ней часто бывало. Внезапно мне в голову пришла одна мысль, и я, не раздумывая, напрямик спросил:
— Холли, ты что, беременна?
Глава 5
Бобби был ошарашен.
Холли пронзила меня взглядом своих светло-карих глаз, в которых читались тревога и возбуждение.
— С чего ты взял? — спросил Бобби.
— Не знаю.
— У нее только небольшая задержка. Мы еще не делали никаких анализов, — сказал Бобби. — Ты ему, наверно, сказала! — с упреком обратился он к Холли.
— Нет, я ему не говорила. — Холли покачала головой. — Я просто как раз подумала, как я была счастлива, когда проснулась в пятницу и почувствовала, что меня тошнит. И подумала — какая ирония судьбы! Мы столько времени хотели зачать ребенка, и вот, когда нам, наверно, наконец удалось, это случилось в такое время, когда нам только ребенка и не хватало.
Бобби нахмурился.
— Ты ему, наверно, сказала! — повторил он. Голос у него был раздраженный. Что он, ревнует, что ли?
— Да нет, я ему не говорила… — неуверенно сказала Холли.
— Ну да, вчера, когда вы ехали сюда! — настойчиво сказал Бобби.
— Послушай, — вмешался я. — Забудь о том, что я это сказал. Какое это имеет значение?
Бобби взглянул на меня с негодованием и, уже мягче, на Холли. Похоже, ему внезапно пришла в голову новая мысль.
— Это вроде того, о чем ты мне когда-то говорила? — недоверчиво спросил он. — Что вы с Китом читали мысли друг друга, когда были детьми?
Она неохотно кивнула.
— Но этого не было уже много лет.
— Да, теперь этого не бывает, — согласился я. — В смысле то, что было сейчас, — это случайность. Возврат к прошлому, так сказать. Наверно, больше этого не повторится.
«Ну а если и повторится, — подумал я, — буду думать, что говорю. Случайные мысли следует просеивать».
Я прекрасно понимал ревность Бобби, потому что сам почувствовал нечто подобное, когда Холли впервые сообщила мне, что влюбилась. Когда Холли призналась мне, в кого именно она влюбилась, ревность быстро сменилась более объяснимой тревогой, но я хорошо помню острое нежелание делить ее с кем бы то ни было. Как это так: мое место ближайшего друга займет какой-то чужак!
Честно говоря, эта внезапная ревность меня самого немного шокировала.
Я никогда раньше не задумывался о природе чувств, которые я испытываю к своей сестре, но тут принялся копаться в себе и сделал успокоившее меня, хотя и несколько печальное открытие, что Холли может сколько угодно спать с Бобби, меня это не волнует; я боялся утратить духовную близость с ней.
У меня, разумеется, были женщины и до того, как Холли вышла замуж, и после; но все это были просто недолговечные романчики, куда менее серьезные, чем то, что было у Холли и Бобби. «Ничего, — думал я, — у меня еще все впереди; может быть, когда-нибудь…» и прочие банальности в том же духе.
Бобби поверил — или, по крайней мере, сделал вид, что поверил, — что обмен мыслями между нами с Холли не повторится, но нам с нею стоило переглянуться, как мы сразу поняли, что это не так. Если мы захотим, так сказать, настроиться друг на друга, старая привычка вернется.
Весь вечер мы старались не возвращаться к главной теме: кто и зачем это сделал, и в конце концов устало легли спать, так и не найдя толкового ответа. Я снова лег спать одетым, на случай, если появится Грейвс. Впрочем, я был уверен, что даже если он и хотел вернуться, то уже передумал. Я ошибался.
Звон колокольчика разбудил меня в половине четвертого ночи, и не успел он перестать звонить, как я уже натянул ботинки, выскочил из дома и побежал по дорожке, следуя плану, который мы с Бобби разработали накануне вечером.
Я выбежал в ворота — они были открыты, — и в самом деле, на придорожном лугу, где время от времени останавливался цыганский табор, стоял грузовик. На этот раз это была обычная машина с прицепом на двух лошадей. Пандус прицепа был опущен, но лошадей там пока не было.
Я подбежал прямо к кабине и рывком распахнул дверцу водителя, собираясь застать его врасплох, но внутри никого не было. И ключи торчали в зажигании — просто невероятно!
Я поднял пандус и запер двери прицепа, потом сел в машину, завел мотор и отогнал ее на пару сотен ярдов, на боковую улицу. Свернул туда, проехал немного, остановил машину, оставил ключи в зажигании, как было, и бегом побежал обратно к Бобби.
Сцена почти полностью повторяла позавчерашнюю. По крайней мере, во дворе точно так же горели огни и слышались крик и ругань. Бобби и Джермин Грейвс стояли у пустого денника, к которому была подведена сигнализация, и, похоже, готовы были наброситься друг на друга с кулаками. Неподалеку с несчастным видом переминался с ноги на ногу паренек лет шестнадцати, державший в руке большую сумку.
— Верните мне мое имущество! — орал Грейвс. — Это воровство!
— Это не воровство, — сказал я прямо ему в ухо. — Воровством называется преднамеренное бессрочное отчуждение собственности.
— Чего?! — Он развернулся и уставился на меня. — Опять ты!
— Если уж говорить о законности, — продолжал я, — закон дает право кредитору удерживать собственность должника, пока долг не будет оплачен.
— Я вас разорю! — мстительно выпалил он. — Обоих разорю!
— Мистер Грейвс, — сказал я, — будьте благоразумны! Вы не правы.
— Да срать я хотел!.. Я не позволю, чтобы какой-то презренный жокеишка и разорившийся тренеришка одержали надо мной верх! Поняли?
— Дядя… — нервно начал топтавшийся рядом мальчик.
— Заткнись ты! — оборвал его Грейвс. Парень выронил сумку и бросился поднимать ее.
— Поезжайте, мистер Грейвс, — сказал я. — Успокойтесь. Подумайте хорошенько. А когда ваш чек будет оплачен, приезжайте и заберите лошадей, и дело с концом.
— Не допущу!..
— Ну, дело ваше, — сказал я, пожав плечами. Мы с Бобби наблюдали, как Грейвс мучительно ищет способ выпутаться из этой истории, не теряя лица.
Но вряд ли это было возможно. Он бросил нам еще несколько громогласных угроз, потом раздраженно сказал своему племяннику: «Пошли, чего встал!», и потопал к дороге.
— Что ты сделали с его фургоном? — спросил Бобби.
— Там была машина с прицепом, и ключи в зажигании. Я отогнал ее за угол. Интересно, найдут или нет?
— Вряд ли стоило возиться, — сказал Бобби. — Грейвс с самого начала сунулся в денник с сигнализацией.
Мы боялись, что он сперва полезет в другой денник, обнаружит, что он пуст, подумает, что перепутал, и уведет одну из лошадей, стоящих в соседних денниках. Мы боялись, что он явится с большой шайкой. Как оказалось, опасения наши были напрасны. Но все равно, лишняя предосторожность никогда не помешает.
Мы заперли пустой денник. Бобби споткнулся обо что-то, валяющееся на земле. Он наклонился, поднял и показал мне толстый кусок войлока с пришитыми «липучками». «Глушитель» для копыт. Наверняка выпал из сумки.
— Резиновыми башмаками он не запасся, — мрачно заметил Бобби. — Решил обойтись самодельными.
Он выключил свет во дворе, и мы некоторое время стояли у двери кухни и ждали. Мы решили, что в ночной тишине шум мотора будет слышен издалека. Но вместо этого мы вскоре услышали во дворе нерешительные шаги. Бобби снова включил свет. Посреди двора, жмурясь, стоял тот самый мальчишка, очень смущенный.
— Кто-то украл дядину машину, — объяснил он.
— Как тебя зовут?
— Джаспер.
— Грейвс?
Он кивнул и сглотнул.
— Дядя хочет, чтобы я позвонил в полицию и вызвал такси.
— На твоем месте, — сказал я, — я бы вышел из ворот, повернул налево, прошел вдоль улицы, свернул в первый переулок налево, и там будет телефон-автомат.
— О-о, — сказал мальчишка. — Ладно…
Он посмотрел на нас почти умоляюще.
— Дядя говорил, это все равно как игра… — сказал он. — А вышло вон как…
Мы не спешили его утешать. Через некоторое время он повернулся и побрел обратно. Его шаги постепенно затихали в отдалении.
— Ну и что теперь? — спросил Бобби. — Наверно, теперь стоит привязать колокольчик так, чтобы сигнализация срабатывала, если кто-то подойдет к воротам.
— Да, я тоже так думаю. А утром первым делом отсоединю его.
Мы принялись натягивать начерненную углем веревку через дорожку на уровне колена, когда услышали, как вдалеке завелась машина Грейвса.
— Нашел! — сказал Бобби и улыбнулся. — Кстати, телефона-автомата в том переулке нет. Ты в курсе?
Мы закончили устанавливать свою примитивную сигнализацию и, зевая, вернулись в дом, чтобы поспать еще пару часов. Когда я лег в постель, подумал, что вот так и начинается семейная вражда, которая потом тянется веками, как между Аллардеками и Филдингами, а на уровне наций может обернуться политическими и религиозными преследованиями, и постепенно превращается в привычку, предрассудок, разрушительную ненависть, вошедшую в привычку. «Что ж, — насмешливо подумал я, — начнем с себя. Надо заставить свое подсознание полюбить Аллардеков. Ведь теперь моя сестра — одна из них, помоги ей бог».
А утром людская злоба снова подняла свою уродливую голову.
Телефон зазвонил в половине девятого. Трубку снял я, потому что Бобби был на Поле с лошадьми, а Холли опять тошнило. Это был торговец кормами, который со своим безупречным итонским произношением сообщил мне, что он снова получил номер «Ежедневного знамени».
— Только что нашел ее у двери, — сказал он. — Газета сегодняшняя, за понедельник. И в ней еще одна заметка, обведенная красным карандашом.
— А… а что в ней говорится? — спросил я с упавшим сердцем: — Я думаю… ну… если она вам нужна, приезжайте и заберите ее. Она длиннее, чем в прошлый раз. И тут фотография Бобби.
— Сейчас приеду.
Я поехал к нему в машине Холли. Торговец, как и в прошлый раз, был у себя в офисе. Он молча вручил мне газету, и я с растущей тревогой увидел фотографию, на которой Бобби выглядел ухмыляющимся идиотом, и заметку в «Частной жизни».
«На Робертсона (Бобби) Аллардека (32 года) продолжают сыпаться денежные неурядицы. Он все еще содержит нескольких скаковых лошадей в некогда полных конюшнях в Ньюмаркете, принадлежавших его деду. Местные торговцы угрожают ему подать в суд за неоплату счетов. Бобби пытается заверить владельцев оставшихся лошадей, что беспокоиться не о чем, хотя торговец кормами прекратил поставки. Чем-то все это кончится? „Денежный мешок“ Мейнард Аллардек (50 лет) на помощь не явится. Он зол на Бобби за неудачную женитьбу. Мейнард, как известно, добивается рыцарского титула и потому все деньги тратит на благотворительность. А каково мнение несчастного Бобби? Это непечатно. Ждите новых сообщений на этой полосе».
— Ну если Бобби не подаст в суд за клевету, — заметил я, — это сделает его отец.
— Клевета тем хуже, чем больше в ней правды, — сухо заметил торговец и добавил: — Скажите Бобби, что его кредит по-прежнему действителен. Я передумал. Он всегда платил мне регулярно, хотя и задерживал оплату. И я не желаю, чтобы мною манипулировала какая-то дрянная газетенка. Так что скажите Бобби, что я буду снабжать его кормами, как раньше. Пусть передаст это своим владельцам.
Я поблагодарил его, вернулся в дом Бобби и еще раз перечитал статейку за чашкой кофе на кухне. Подумал немного и позвонил торговцу формами.
— Скажите, — спросил я, — вы кому-нибудь говорили, что собираетесь прекратить поставлять корма Бобби?
— Я говорил об этом самому Бобби. — Он тоже призадумался. — Больше никому.
— Точно?
— Совершенно точно.
— Вы не говорили ни своему секретарю, ни домашним?
— Должен признаться, в пятницу я был очень встревожен и хотел немедленно получить свои деньги, но подслушать, как я говорил об этом Бобби, никто не мог, в этом я уверен. По пятницам мой секретарь приходит только в одиннадцать, а офис у меня не в доме, а в пристройке, вы сами видели. Так что могу вас заверить, что, когда я звонил ему, этого никто не слышал.
— Ну спасибо, — сказал я.
— Так что информация могла просочиться только через Бобби, — настойчиво сказал он.
— Да, пожалуй, вы правы.
Положив трубку, я решил прочесть «Ежедневное знамя» от корки до корки. До сих пор это не приходило мне в голову — но вдруг мне удастся найти какое-то объяснение тому, с чего эта газетенка вдруг взъелась на совершенно безобидного человека и старается его разорить.
Я обнаружил, что «Знамени» вообще свойствен высокомерный и пренебрежительный тон, что основное его содержание составляют насмешки и издевки и что, прочитав его, человек должен исполниться воинственности, злобы и обиды на весь мир.
Любое происшествие, которое позволяло выставить кого-то в дурном свете, приветствовалось. Похвалы же — отнюдь. «Снижение» сделалось своего рода искусством. Например, женщина, сколь бы преуспевающей и замечательной она ни была, никогда ничего не «говорила»: она могла «прочирикать», «пискнуть» или «простонать». Мужчина же либо «прогремит», либо «прошипит», либо «проскулит».
Слово «ярость» появлялось на каждой странице. Вещами непременно «швырялись». Когда о человеке говорили, что он что-то «отрицал», это звучало так, что он «виноват, но не желает признаться»; а слово «заявить» в словаре «Знамени» было синонимом слова «соврать»: если о ком-то говорилось: «Он заявляет, что…», это явно означало: «Он говорит, что… но, разумеется, врет».
С точки зрения «Знамени» уважение и почтительность были чем-то бесполезным, зависть — чем-то нормальным, все людские побуждения были грязными, и любить можно было только собак. И, видимо, публике это нравилось — по крайней мере, по словам «Знамени», число подписчиков росло с каждым днем.
Если предположить, что тон газеты отражает личность своего владельца, как, например, тон «Глашатая» отражал личность лорда Вонли, то владелец «Ежедневного знамени» должен был быть низменным, мелочным, расчетливым и опасным человеком с явными садистскими наклонностями. М-да, перспективы мрачные. Это означало, что вряд ли можно было надеяться, что, воззвав к лучшим чувствам «Знамени», нам удастся уговорить его оставить Бобби в покое, потому что лучших чувств у «Знамени» не было.
Холли спустилась вниз. Она выглядела бледной, но повеселевшей. Бобби вернулся с Поля бодрый и веселый. И необходимость разрушить их хрупкую радость заставила меня еще больше возненавидеть «Знамя».
Холли тихо заплакала, а Бобби принялся расхаживать по комнате, ища, что бы расколотить. А вопрос «Зачем?» все еще оставался без ответа.
— Вы знаете, — сказал я, — на этот раз вам стоит посоветоваться с адвокатом. К черту расходы! Нужно немедленно оплатить все серьезные счета и взять у всех кредиторов расписки в том, что им уплачено, размножить их на ксероксе и разослать всем, кто получил копию «Знамени», и в само «Знамя», издателю Сэму Леггату, заказным письмом, и еще всем владельцам, и вообще всем, с кем ты имеешь дело, и приложить к этому твое письмо, в котором должно быть сказано, что нападки «Знамени» беспочвенны, и что ты не понимаешь, на чем они основаны, и что конюшня процветает и ты вовсе не собираешься бросать свое дело.
— Но банк не оплатит наши чеки! — всхлипнула Холли.
— Давай сюда самые крупные счета, — сказал я Бобби. — И в первую очередь счета кузнеца, ветеринара и за перевозку лошадей. Надо заплатить им и всем прочим, кому вы должны крупные суммы.
— Чем?! — сердито осведомился Бобби.
— Я заплачу.
Оба они внезапно умолкли, словно мои слова потрясли их до глубины души. Я с удовольствием отметил, что этот простой выход даже не приходят им в голову. Да, эти двое не привыкли сидеть на чужой шее.
Холли не могла скрыть вспыхнувшей в ней надежды, но все же с сомнением спросила:
— А как же твой новый дом? На него ведь должно быть, ушли все твои сбережения! А за старый коттедж тебе еще не заплатили.
— Ничего, денег у меня хватит, — заверил я ее. — А теперь давайте займемся делом. Мне скоро отправляться в Пламптон.
— Но мы не можем… — начал Бобби. — Придется. Так что не спорьте.
У Бобби был такой вид, точно его огрели обухом. Но он все же принес пачку счетов, и я выписал несколько чеков.
— Вот, — сказал я. — Отвези их сегодня лично и возьми расписки в получении по всей форме. Сейчас напишем письмо, которое ты отправишь вместе с ними. И смотри, отксерь их и обрежь так, чтобы они влезали в конверт. Это надо успеть сделать к сегодняшней дневной почте. Конечно, тебе придется потрудиться, но чем быстрее ты с этим управишься, тем лучше, верно?
— И Грейвсу тоже? — спросил Бобби.
— Непременно!
— Прямо сейчас и начнем, — сказала Холли.
— И не забудьте про торговца кормами, — сказал я. — Он вам напишет что-нибудь хорошее. Ему не понравилось, что «Знамя» пытается им вертеть.
— Мне не хочется об этом говорить, — медленно начала Холли, — но…
— Банк? — спросил я. Она кивнула.
— С банком пока подождем. Может быть, завтра вам стоит сходить к директору с этим письмом и расписками. Возможно, вам удастся уговорить его восстановить ваш счет. На самом деле, ему стоит это сделать. Банк получает с вас достаточно много процентов, особенно с тех долгов за жеребят. К тому же у тебя есть сами жеребята. Это тоже гарантия.
— Увы… — сказал Бобби.
— Не все сразу, — сказал я.
— Позвоню своему адвокату. Прямо сейчас, — сказал Бобби, взяв трубку и посмотрев на часы. — Он уже должен быть на месте.
— А я бы не стал, — сказал я.
— Но ты же сам сказал…
— У тебя в доме доносчик, — сказал я.
— Что ты имеешь в виду?
— Твой телефон, — сказал я.
Он понял. На лице у него появилось отвращение, и он наполовину простонал:
— О господи!
— Такое часто делается, — сказал я. В Ламборне и в самом деле было время, когда у людей развилась настоящая телефонофобия: все боялись, что их подслушивают. Иногда люди ходили звонить за несколько кварталов, чтобы не пользоваться своим домашним телефоном. Конечно, прослушивать чужие телефонные разговоры — дело незаконное, но тем не менее всем известно, что такое бывает сплошь и рядом.
Так что мы без долгих разговоров развинтили все телефоны в доме, но ничего похожего на «жучки» не обнаружили. Однако все мы лучше разбирались в лошадях, чем в электронике. Поэтому Бобби сказал, что сходит к автомату, позвонит в телефонную компанию и попросит приехать и проверить.
Бобби стоял на коленях у стены кухни и ставил на место телефонную розетку, а мы с Холли стояли рядом посреди кухни и смотрели на него. Поэтому первыми, кого увидел внезапно явившийся посетитель, были мы с сестрой. Высокий мужчина со светлыми, начинающими седеть волосами, уложенными в безукоризненную прическу. Правильные, приятные черты, гладко выбритый округлый подбородок; подтянутая фигура веером деловом костюме, весьма породистом. Человек лет пятидесяти, сильный и властный, казалось сразу заполнивший собой всю кухню. В руке у него был сложенный номер «Ежедневного знамени». Увидев нас с Холли, он уставился на нас с нескрываемым отвращением. Мейнард Аллардек. Отец Бобби. Я всегда помнил, что он мой враг, и он тоже его помнил. Мы знали друг друга в лицо. Поскольку оба вращались в одних и тех же кругах лошадников. Мы знали друг друга всегда — но предпочли бы никогда не встречаться.
— Филдинги! — с ненавистью бросил Мейнард и спросил меня: — Кой черт принес вас в этот дом?
— Это я его пригласил, — ответил Бобби, выпрямляясь.
Мейнард резко развернулся в его сторону, и отец с сыном впервые за четыре года посмотрели друг другу в глаза.
Они долго стояли, застыв на месте, словно заново изучая знакомые черты. Возможно, они впервые увидели друг друга как чужих, новых людей. Но если кто-то из нас и надеялся на примирение, как оказалось, что у Мейнарда было на уме совсем другое. Он пришел не помочь и даже не посочувствовать, а выразить свое негодование. Он взмахнул номером «Знамени» и, не здороваясь, воскликнул:
— Да как ты смеешь втягивать меня в свои дрязги! Я не потерплю, чтобы ты жаловался на меня всяким репортерам! Ты сам во всем виноват! Если тебе было угодно породниться с этой бандой, так будь любезен сам отвечать за последствия и не вмешивай меня во все это!
Бобби растерянно заморгал. Наверно, и мы с Холли тоже. Нас поразила ярость Мейнарда и его внезапная атака, но больше всего — его странная логика.
— Но я ничего не делал! — ответил Бобби. Он едва не упал. — В смысле, я вообще не разговаривал с репортерами! Я бы не стал жаловаться. Они сами все это написали.






