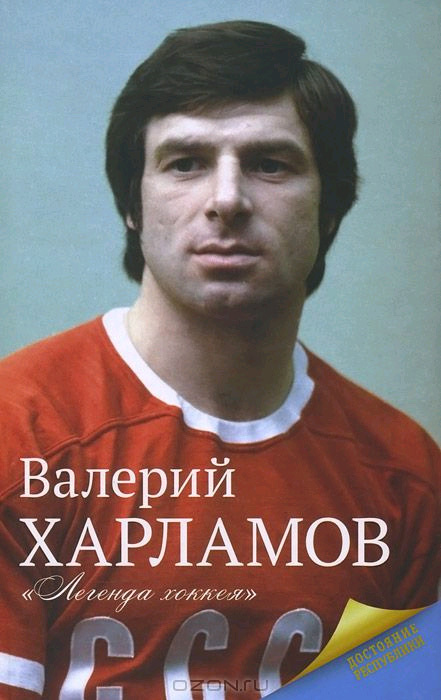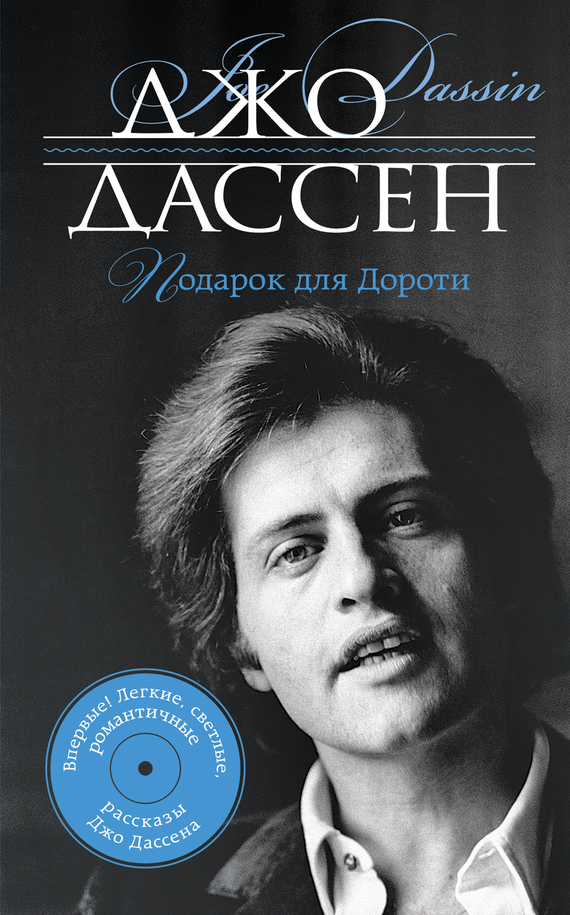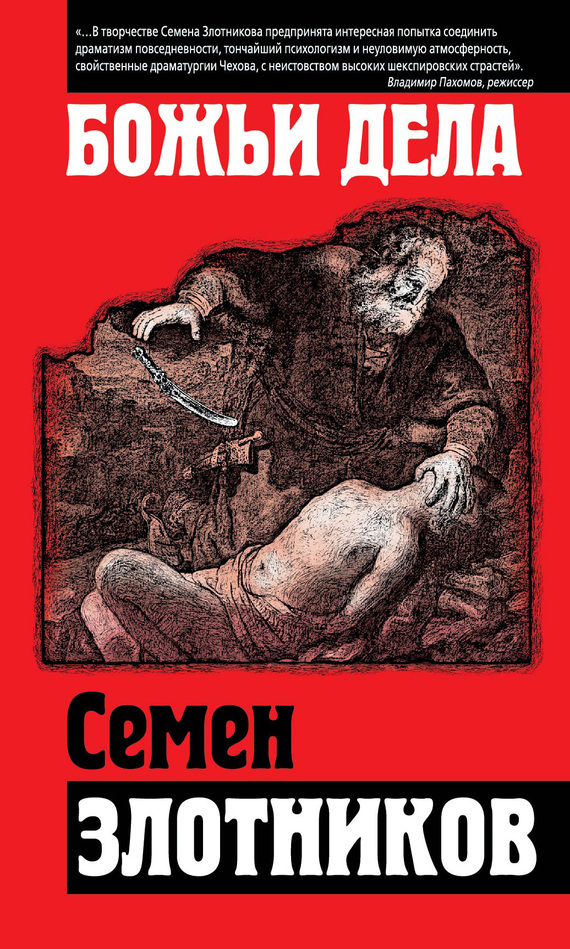Тайна в его глазах Сачери Эдуардо

Фраза Баеса превратила меня в соляной столп. С чего это вдруг такие мрачные прогнозы? Я постарался с самым спокойным видом дождаться, когда уйдет полицейский, и потом спросил, почти вопя:
— Как это «уже испарился»? Почему? — Его фаталистичность настолько застала меня врасплох, что я сумел только ухватиться за его последние слова, вернув их ему в качестве вопроса, хотя у меня даже и близко не получилось выразить то возмущение, которое распирало меня. От мечты предстать перед Баесом зоркой ищейкой не осталось и следа.
Он, видимо потому, что все же меня уважал, постарался проявить терпение.
— Смотрите, Чапарро… — Он сделал паузу, закурил, отодвинул чашку в сторону, словно его слова могли натолкнуться на нее, как на препятствие. — Если это тот тип, которого мы ищем (и судя по тому, что вы мне рассказали, это он и есть), будет совсем не легко поймать его, даже и не думайте. Он может быть какой угодно сукин сын, но совсем не тот, который делает что-то сгоряча, без башки. Осторожно, есть и такие, кто так и делает. Есть придурки, которых ловишь, потому что они успевают натворить столько глупостей, что им остается только повесить себе на грудь плакат: «Это сделал я, сажайте меня». Но этот парень…
Полицейский замолчал на минуту, словно еще раз представил себе интеллектуальные возможности подозреваемого и в конце концов нашел их достойными уважения. Он выдохнул сигаретный дым через нос. Этот черный табак жутко вонял. Мне защипало ноздри, однако обостренная гордость запретила мне чихнуть и проморгаться, как бы мне ни хотелось это сделать.
— Девка, в которую он до бесконечности влюблен, уезжает в Буэнос-Айрес. Он не думает ехать за ней. Слабо. Или не слабо, но нужно время, чтобы оторваться от дома. — Баес сооружал свою гипотезу, пока говорил со мной. По мере продвижения некоторые моменты он оставлял без внимания, тогда как на других останавливался, чтобы дополнить их конкретными причинами и следствиями. — Кроме того, он, может, уже поговорил с ней еще там, в Тукумане. А она — ничего. Ему от этого, наверно, стало ужасно стыдно, желал, чтобы земля его поглотила. Предполагаю, что поэтому и остался, и ее не остановил, нечем было, и за ней не поехал. Зачем ему теперь было пробовать?
Баес взвесил собственные аргументы. Наконец снова продолжил:
— Да. Точно, он вызвал ее на разговор и отскочил от нее как резиновый мячик. Поэтому он сдался, залег на дно. Но вдруг узнал, что она выходит замуж. Он к этому не готов, но и ответить ему опять нечем. Что для него значит ответить? Как это сделать? Он ждет. Но напрасно. Забыть ее не получается. Наоборот. Накапливается злоба, накапливается гнев. Начинает чувствовать себя обманутым. Как это «его Лилиана» собирается замуж за столичного, с которым только что познакомилась? А как же он? Он что, нарисованный, ничего не значит? Проводит дни, раздумывая об этом, как вы мне об этом и рассказали. Или как его мать рассказала тому типу, которого вы к ней послали. Целый день валяется в кровати и пялится в потолок. И в конце концов принимает решение. В конце концов или начинает с этого? Проходят месяцы в раздумьях о том, разделаться с ней или нет, или же он с самого начала решает убить ее, но медлит, собирается с силами, чтобы довести дело до конца? Я без понятия, и не знаю, пойму ли. Но дело в том, что когда он для себя все решает, то садится в «Северную звезду» по направлению к Буэнос-Айресу.
Баес снял телефонную трубку и несколько раз прочистил горло. Зашел секретарь, и он попросил еще кофе.
— А знаете что? Я готов поспорить, что этот парень, если это, конечно, он, не торопится, обустраивается. Ищет какое-нибудь общежитие, жилье. Находит работу. И только потом начинает заниматься девчонкой. Пару дней проводит на углу около ее дома, чтобы изучить расписание молодоженов. Хотя бы то, что видит снаружи, потому что то, что происходит внутри, он и так чувствует, и его каждый раз пробирает до кишок, когда он думает о том, что, может, стоит разделаться с обоими. Вы представляете, что может чувствовать один тип, когда видит, как другой выходит счастливый каждое утро прямиком из постели женщины, по которой тот с ума сходит? Вот так он и идет туда однажды утром, когда все и произошло. Видит, как выходит Моралес, ждет пять минут и направляется в коридор дома. Дверь, выходящая на улицу, почти все время открыта, потому что рабочие из третьей квартиры вывозят тележкой строительный мусор. Ах нет. Я ерунду говорю. В этот день рабочие не работали. Так что он звонит, и она отвечает через домофон. Как же она не пойдет и не откроет ему, сюрприз же? Разве это не друг детства из родного района? Не было ли у них общего прошлого? Может, поворачивая ключ в замке, она, со слегка виноватым лицом, вспоминает, как ей пришлось отвергнуть его, когда он ей признался, несколько лет назад. Конечно же это странно, что он вот так вот свалился как снег на голову, без предупреждения, его же и на свадьбе не было, но не оставит же она его из-за этого стоять под дверями. Да, она еще в ночной рубашке, только халат сверху накинут. Но она молоденькая. Женщина постарше посчитала бы невозможным открыть дверь в таком виде. Но она не такая формальная. Незачем. В любом случае, ему же неважно. В итоге она открывает, говорит: «Какой сюрприз, Исидоро», приглашает его войти, приветственный поцелуй в щеку. Поэтому соседка не слышала стука в дверь квартиры, которая рядом. Потому что Лилиана сама открыла ему входную дверь и проводила внутрь. Бедняжка.
Баес затушил сигарету и, видимо, сомневался, закуривать ли сразу же следующую. Но передумал.
— Он уже шел с намерением изнасиловать ее или так, сымпровизировал? И опять — не знаю. Хотя склоняюсь к тому, что он пережевывал эту идею уже давно. Он ни в чем не валяет дурака и с ума не сходит. Решил, что ему задолжали и это расплата. Не более и не менее того. Да к тому же еще и трахнуть ее против ее воли, прямо там, на полу спальни, как расплата за старый должок. И придушить ее своими руками — это месть за все то отчаяние, которое он пережил из-за того, что она его не замечала, что бросила его в печали одного, в этом их районе, что друзья и враги трепались у него за спиной. Здесь предположу еще раз, мне так кажется, что этот Исидоро не выносит, когда над ним смеются. Это всегда заставляет его выходить из себя. А потом? А потом ничего. Сколько времени у него ушло на все про все? Минут пять… десять. Он не оставил нигде своих отпечатков. Только несколько царапин на паркете, вокруг тела женщины, с которой он постарался разделаться до того, как выдохся. Но и над этими царапинами он потрудился, вытер наволочкой, которую нашел на полке, так чтобы ничего не осталось (он-то не знает, что жеребцы из федеральной полиции, перед тем как начать расследование, топают везде, где только можно, вытаптывая последние следы улик, которые не замечают с самого начала). И дверную ручку он не вытирает, потому что помнит, что не трогал ее. Знаете, почему я все это говорю? Чтобы вы обратили внимание, что за тип этот парень. На дверной ручке мы нашли отпечатки супругов Моралес, и изнутри, и снаружи. Это значит, что он был настолько спокоен или циничен (называйте как хотите), пока ходил с наволочкой в руках по квартире, выбирая, что протереть, а что нет: пол вокруг того места, где на нее набросился, — да; а вот дверную ручку — нет, помнил, что ее не трогал. И знаете, что он делает потом?
Баес остановился, будто действительно меня спрашивал, но не в этом было дело. И не в том, чтобы покрасоваться. Ничего подобного. Баес не тратил свой ум на подобные глупости.
— Знаете, что мне было тяжелее всего представить смолоду, когда я только влез в эту милонгу в Отдел Убийств? Не сами преступления. Не сам грубый акт, раздавливающий жизнь. К этому я быстро привык. А вот действие после преступления… Я не имею в виду всю остальную жизнь преступника. Нет. Но, скажем, последующие два или три часа. Я представлял себе, что убийцы должны дрожать, быть в отчаянии от содеянного, от того, что память не может оторваться от того момента, когда они вырвали из жизни другого человека. — Баес засопел, на его лице появилось некое подобие улыбки, словно воспоминание о чем-то смешном. — Приблизительно как этот паренек у Достоевского. Понимаете, о котором я? Из «Преступления и наказания». Которого потом грызет совесть: «Убил старушку. Как мне теперь жить?» — Баес посмотрел на меня так, словно вдруг что-то вспомнил. — Извините, Чапарро, я чересчур залез в дидактику. Я уверен, что вы все это и сами читали. Просто это привычка находиться в окружении тупиц, понимаете? Представьте себе, например, этого олигофрена Сикору, рассуждающего о литературе. Нет. Не напрягайтесь. Бесполезно. Но я не об этом. Я хочу сказать, что чувство вины и угрызения совести не такое уж обычное дело. Отнюдь. Хотя не думайте, и такие бывают, которые от вины стреляются. Но перевешивают те, которые покупают пиццу и идут в кино. Ну вот. Мне кажется, что этот тип из второй группы. Так как это утро вторника, то он идет на работу как ни в чем не бывало. Идет до остановки и садится в автобус. Может, покупает Хронику, когда выходит. А почему бы нет?
Вот теперь Баес закурил снова. Чуть выше я говорил о колебаниях в моем настроении и о том, что на беседу к полицейскому я пришел в эйфории. За двадцать минут от этой эйфории не осталось и следа. Я не просто чувствовал себя побежденным, такое со мной случалось часто. Я чувствовал себя виноватым. Вместо того чтобы, как только у меня появились предположения, позвонить Баесу, который бы, несомненно, тут же нашел подонка и сделал бы все наилучшим образом, я пошел на поводу у своих желаний: решил проявить глупую инициативу, припахал бедного вдовца или его несчастного тестя и заставил их копаться голыми руками в муравейнике.
Несмотря на все это, я все же попытался успокоиться. Может, Баес преувеличивает? А если Гомес не столь уж блестящ, как он предполагает? И если за эти месяцы он потерял бдительность? В конце концов, какие доказательства были у гипотез Баеса? Ни больше ни меньше, лишь то, что я ему рассказал.
И еще: а если этот Гомес был ни при чем? С детской досадой я желал, чтобы все эти гипотезы оказались лишь миражом. Я встал. Баес последовал моему примеру, мы протянули друг другу руки.
— Полагаю, что завтра получим какие-нибудь новости.
— Хорошо. — Я ответил, видимо, с излишней сухостью.
— Я вам позвоню.
Я вышел почти ослепленный, во всяком случае, явно ощущал неудобство. В Суд вернулся пешком. И хотя я был разбит, меня охватывало волнение: не оказаться полным идиотом и все же поймать этого сукина сына, будь то Гомес или какой-либо другой беглец.
Без чего-то семь в Секретариате раздался телефонный звонок. Это был Баес.
— Тут у меня вернулся с задания Легизамон.
— Я вас слушаю. — Моя детская обида была смешной, но все же я никак не мог от нее отделаться. К тому же я еще не был готов к звонку. Думал, что они протянут до завтра.
— Значит так. Начнем с плохой новости. Исидоро Гомес три дня назад исчез из общежития, на Флорес, в котором проживал с конца марта. Исчез, это я так сказал, на самом деле оплатил все до последнего дня и уехал, не оповестив о своем последующем месте пребывания. На работе то же самое. Мы нашли эту стройку: пятнадцатиэтажное здание, по Ривадавии, в самом центре Кабачито. Прораб рассказал Легизамону, что парень был отменный. Ну, молчаливый, иногда даже неприятный, но обязательный, аккуратный и не пьющий. Сокровище. Но несколько дней назад пришел с утра и сказал, что возвращается в Тукуман, потому что мать сильно заболела. Прораб выплатил ему все за эти полмесяца и сказал, что если по возвращении он захочет вернуться на работу, то может обращаться, потому что им остались очень довольны.
Баес замолчал. И хотя у меня было огромное желание разбить вдребезги пишущую машинку, и пенал рядом с ней, и телефон, а также порвать дело, над которым я работал, я закусил губы и подождал.
— И наконец, хорошая новость заключается в том, что теперь у нас есть основания полагать, что это он. И свалил он, потому что узнал, что за ним идут. Легизамон принес мне ценные сведения: у прораба сохранились карточки с отметками о времени выхода на работу всего персонала со стройки. Знаете, сколько раз он опоздал за восемь месяцев работы там? Два. Один раз на десять минут. И другой — на два с половиной часа. Знаете когда? В день убийства.
— Я вас понял. — Наконец я смог хоть что-то ответить. Мой тон уже не был таким отрывистым. Я всегда умел сделать хорошую мину при плохой игре. — Я благодарю вас за информацию, Баес. Сейчас я займусь приведением дела в порядок согласно поступившей информации и предупрежу, какие бумаги мне от вас понадобятся.
— Хорошо, Чапарро. Хорошего дня.
— Хорошего дня. И спасибо, — добавил я, как бы стараясь загладить вину.
Я уже собирался вешать трубку, как вдруг снова услышал его голос:
— Ах да, один вопрос. — В голосе Баеса чувствовалось сомнение. — Как вам пришло в голову, что это может быть он? Я знаю, что идея возникла из-за фотографий, но почему вы остановились именно на нем? Я хочу сказать, что это очень хорошая догадка, я вам это честно говорю. Кто знает, может, так мы и выудим виновного.
Он и вправду был хорошим типом. Это на самом деле была похвала или он хотел облегчить мою вину и избавить меня от чувства неловкости? Я как следует подумал над тем, что ему ответить.
— Не знаю, Баес. Думаю, что мое внимание привлекло то, как он на нее смотрел, так смотрят на женщину, которую обожают на расстоянии. Не знаю… — повторил я. — Думаю, что, когда нельзя высказаться вслух, взгляды тяжелеют от слов.
Баес ответил не сразу.
— Понимаю. У меня бы не получилось выразиться лучше. У вас хорошо получается пользоваться словами, Чапарро. Знаете, вам нужно стать писателем.
— Не шутите надо мной, Баес.
— А я и не шучу. Серьезно. Ну ладно, я вам позвоню на днях, когда получу ваш запрос.
Я повесил трубку, и звук нажимаемого рычага гулом отозвался в тишине здания Суда. Посмотрел на часы. Было уже очень поздно. Я опять взял трубку и набрал номер банка, в котором работал Моралес. Попросил охранника: пожалуйста, как только Моралес появится с утра, пусть срочно зайдет в Суд, чтобы подписать заявление. Мне пообещали все передать.
Опять гул от рычага. Я подошел к полкам, на которых на самой верхотуре несколько месяцев назад было спрятано дело Моралеса. Я встал на цыпочки, потянулся, потащил папку на себя, она рухнула мне в руки, обдав меня пылью. Я вернулся к столу. Я не стал пролистывать с начала. Сразу взял последнюю страницу. Она была датирована июнем: приказ о приложении к делу полного отчета об аутопсии, в частности об исследовании внутренних органов. Я посмотрел на квадратик на циферблате моих наручных часов, чтобы проверить дату. Вставил в пишущую машинку лист с формуляром Национального Суда и вбил ложную дату за август месяц.
Я не обманул Баеса, отвечая на его вопрос, но и не сказал ему всей правды. Мое внимание привлекло то, как смотрел Гомес — это было его молчаливое и жалкое послание женщине, которая не могла или не хотела понять его. А не сказал я Баесу, что остановился на этом взгляде именно потому, что сам точно так же рассматриваю другую женщину. Это был вечер жаркого декабря 1968 года, и сколько раз за этот год я успел отчаянно пожалеть о том, что не был на ней женат.
16
«Единственное, о чем молю сейчас Бога, так это чтобы Сандоваль не пришел на рогах», — думал я про себя, заходя этим утром в здание Суда. Я почти не спал всю ночь. Вернулся поздно домой, чувствуя себя виноватым, потому что Марсела ждала меня и не спала, да еще долго не мог заснуть. Что случится, если судья поймет, что я обвожу его вокруг пальца, как идиота? Стоило ли подвергать себя такому риску? На нервах, я вскочил с утра очень рано. Видимо, выражение лица у меня было соответствующее, и жена заметила, что со мной что-то происходит, и за завтраком спросила об этом.
Сегодня, тридцать лет спустя, когда я вспоминаю все это, мне трудно представить, что я стал автором такого плана. Что заставило меня влезть во все это? Думаю, чувство вины. И неопределенность: а если Гомес ни при чем, зачем я затеял всю эту суматоху? Но если убийцей был он, как с этого момента и до конца своей жизни я смогу смотреть на себя в зеркало, зная, что струсил и поставил свою работу и безопасность превыше всего?
На самом деле моя проблема брала свое начало не с бесплодных поисков Исидоро Гомеса, а гораздо раньше: с того момента, как я свалял дурака и не подшил дело в архив несколько месяцев назад. Тогда-то я думал, что, как только задержат виновного, судья будет доволен и не станет досаждать вопросами о неясных обстоятельствах, из-за которых дело пролежало в ящике столько времени. Напротив. Немного фиглярского и притворного заискивания, когда ты отдаешь ему лавры победителя — и это заставит его забыть обо всех претензиях.
Но сейчас моя задумка не выгорела. И вот именно сейчас мне нужен был Сандоваль, но Сандоваль на высоте, вдохновенный, быстрый, прозорливый и неустрашимый. Если мне сегодня выпадет пьяный Сандоваль, я пропал. К счастью, пока я был погружен в эти размышления, он вошел свежий, благоухающий, словно майское утро, надушенный чем-то с примесью лаванды и светящийся, словно солнце. Я перехватил его по пути к столу и быстро обрисовал свой план. Это определенно был гениальный тип. Просек все сразу. И к тому же был лоялен: принялся участвовать в заварушке без малейшего колебания.
Рано явился и сам Моралес. Я дал ему на подпись дополнение к его прежним свидетельским показаниям, не вдаваясь в детали, и побежал оформлять, уже на ходу говоря, что потом все ему объясню. Когда через некоторое время судья Фортуна Лакаче предстал собственной персоной в Секретариате, я обратился к Святому Духу с бесполезными причитаниями, перенятыми от матери, чтобы унять беспокойство. Как обычно, Лакаче выглядел безупречно. Темный костюм, неброский галстук в комплекте с платочком для нагрудного кармана, аккуратно уложенные на прямой пробор волосы, легкий загар. Разглядывая его, я пришел к выводу, что глупцы лучше сохраняются физически, потому что их не разъедают тревоги бытия, от которых страдают люди более или менее думающие. У меня нет достаточных примеров для доказательства своей теории, но в случае Фортуны Лакаче у меня не возникало ни малейших сомнений.
Он сел на мой стул, величественный, прямо как наследный принц, вытащил ручку «Паркер» из внутреннего кармана пиджака. Театральными жестами я начал раскладывать бумаги перед ним на столе, как бы давая понять этим действом, что следующие два или три часа жизни ему придется провести за подписыванием приказов и других осуществлением формальностей. Слава богу, это был четверг, день его шестичасового тенниса, и начиная с трех его начинало разбирать капризное нетерпение: его раздражало все, что отвлекало от приятных мыслей. Количество бумаг его впечатлило. Он широко раскрыл глаза и бросил комментарий, претендовавший на звание шутки, что-то о том, как быстро работают подчиненные в этом Секретариате. С улыбкой я начал подкладывать ему дела на подпись, расцвечивая каждый документ сочным комментарием. Это была бесполезная информация, точнее, поверхностная и повторяющаяся, но магистрат был слишком туп, чтобы понять, что его разводят.
И в этот момент Сандоваль впервые выглянул из-за стеллажей, которые отделяли его стол от моего.
— Скажите, доктор, — начал он, обращаясь к Фортуне, его тон был наполнен иронией и лестью, но не столь очевидно, так чтобы собеседник чувствовал себя не жертвой, а соучастником, — когда же мы увидим вас за рулем «Додж Коронадо», как у вашего коллеги Молинари, а?
Судья воспринял вопрос с настороженностью. Несмотря на весь свой идиотизм, в нем был заложен сдерживающий инстинкт, с помощью которого люди, подобные ему, действовали в сложных ситуациях, и Сандоваль со всем его воображением был сейчас основной частью этого сложного и враждебного мира. «Он переспросит. Он попросит повторить вопрос», — сказал я сам себе. Быстрым движением руки я подсунул дело Моралеса. Открыл прямо на двести восьмой странице, которая была у меня помечена.
— Что вы говорите, Сандоваль? — Фортуна заморгал и посмотрел внимательнее обычного, так что мне срочно нужно было дать пояснение бумаге, которая была перед его глазами.
— Декрет, приказывающий сформировать второй том дела, доктор, — проговорил я тихо, словно не хотел отрывать его от беседы с Сандовалем, которая сейчас была для него гораздо важнее.
— Да, да, — пробормотал он, не взглянув на меня.
— Нет, ничего, доктор. — Сандоваль хитро улыбнулся. — Я думал, что вы уже видели новую машину доктора Молинари. Разве не видели?
Фортуна тужился, чтобы ответить быстро и умно. Хотя и по одной эти задачи были для него невыполнимы. А обе одновременно — абсолютно невозможны, хотя, похоже, он был способен на попытку, и на это усилие ушла вся его интеллектуальная энергия. Поэтому уделять внимание тому, что он там подписывал, уже лежало за пределами его возможностей. Так он подписал приказ от 2 июля — создать второй том дела, начиная со страницы двести один, — а также подписал приказ о взятии у Рикардо Моралеса дополнительных показаний. Я вытащил бумагу у него из-под носа, как только он ее подписал, чтобы он чудом не заметил, как только что завизировал документ, датированный четырьмя месяцами ранее.
— Нет, не знал… «Коронадо»?
— «Коронадо», доктор. Синий металлик… — Сандоваль улыбался с отсутствующим взглядом, словно смакуя воспоминание. — Словно подарок небес. Салон — черная кожа. Хромированные детали… Вы правда не видели, доктор?
— Нет. Ну, на самом деле мы уже давно не обедали с Абелем.
«Замечательно, — подумал я, — он его как следует подвесил на ниточках». Сандоваль мог быть жесток с теми, кого не любил, но применял свою жестокость поистине блестяще — его противники сами топили себя в своих слабостях. Я уже устал повторять, что Фортуна Лакаче был идиотом с тщеславием юриста, но сильнее его любви к самому себе была его зависть к достойным судьям, которые по праву занимали свои места. Молинари был одним из них, и жестом утопающего Лакаче хватался за его имя, словно их и вправду что-то объединяло, словно пытаясь поддержать себя наличием дружественных связей, которых на самом деле не существует. Все это только еще раз показывало, что он с ума сходит от зависти.
Я решил перейти ко второму действию: прикрепив в конец какого-то другого дела, я подсунул ему показания Моралеса, в которых он указывал на свои подозрения по отношению к Гомесу, основанные на неких посланных отчаявшимся обожателем письмах с угрозами в адрес его жены, которые, предположительно, она получила перед убийством и, к сожалению, уничтожила. Я отредактировал все это прошлой ночью, а Моралес подписал сегодня рано утром.
— Это свидетельские показания по делу Муньеса, эти — о подлогах, — соврал я.
— А… и как продвигается дело?
«Все пропало», — сказал я сам себе. Именно сейчас ему приспичило поинтересоваться. И что мне сейчас придумать? Мне еще не доводилось перемешивать одно дело с другим. И как мне обосновать это заявление, взявшееся ниоткуда?
— А у вас все еще «Фалькон», доктор? — Сандоваль пришел мне на помощь.
— Да, так точно, — натянуто ответил Фортуна.
— А… ну да, ну да… ведь… это какого года модель? Шестьдесят третьего? Шестьдесят четвертого?
— Шестьдесят первого, — попытавшись смягчить ответ, тем не менее почти рявкнул Фортуна. — Дело в том, что машина мне попалась такая удачная, что до сих пор не хочется ее менять.
Все же Сандоваль был артистом. Мы тысячи раз смеялись за спиной судьи, но не над его «Фальконом» 1961 года (в конце концов, мы с Сандовалем принадлежали к категории вечных пешеходов), а над тем, что для Фортуны Лакаче эта машина всегда была чем-то вроде креста, который приходится влачить. Он бы дал отрезать себе ухо за новую машину (если представить себе, что какой-нибудь сумасшедший принял бы такую плату). Его зарплата позволяла. Но не столько его жена, сколько дочери с замашками принцесс доводили бедного Фортуну до того, что в конце каждого месяца к нему начинали являться призраки неплатежеспособности. Прозрачное лицо судьи говорило мне о том, что он сейчас охвачен подсчетами всего того, что мог бы приобрести, если бы его жена и дочери не скупали бы без разбору все понравившиеся им вещи. И полагаю, «Додж Коронадо» значился первым в этом списке.
Я быстро перевернул страницу. Это были приказы в федеральную полицию и полицию Тукумана о задержании Гомеса и их копии. Они были датированы октябрем и оформлены ноябрем (с Баесом я договорился об этом вынужденном шаге). Фортуна их подписал, словно платежки из прачечной.
— А знаете что, — Сандоваль был на подъеме, — хочу сказать, не знаю, правильно ли доктор Молинари поступил с «Доджем». — Он развел руками, словно и правда рассуждал о дилемме. — Вы-то разбираетесь в этом, доктор… — Сыграл так, словно решил довериться честности, знаниям и интеллектуальным возможностям своего собеседника. — Вы бы что выбрали? «Додж Коронадо» или «Форд Фэирлейн»?
«Вы-то разбираетесь в этом, доктор…» — повторил я про себя. Сандоваль был гением. Фортуна на самом деле не понимал ничего: ни в машинах, ни в праве, ни вообще в чем бы то ни было. Но так как он также не понимал, что ничего не понимает, то с энтузиазмом принялся расписывать бесчисленные преимущества «Форд Фэирлейн» перед непростительными недоработками «Додж Коронадо». К тому же подспудно это был непрямой способ показать, что доктор Молинари не был столь совершенным. У Фортуны на это ушло минут десять, включая нарисованный график, который, если я правильно понял, изображал работу трансмиссии в коробке передач одного и другого автомобиля.
Это было великолепно! Когда он закончил болтать свои глупости, он успел подписать полицейский рапорт (который Баес отредактировал для меня сегодня утром, работая быстрее стрелок часов), согласно которому местонахождение Исидоро Антонио Гомеса не было известно. Также подписал декрет для федеральной полиции, приказывающий продолжать выяснение настоящего местонахождения Гомеса, после чего задержать его и допросить. Сандоваль, который стоял, облокотившись на книжные полки, и всем своим видом выражал интерес к речам Его Чести, уловил мой жест облегчения — миссия выполнена. Однако, так как он был чувствительным парнем, то не хотел сразу прерывать разглагольствования судьи и позволил Фортуне Лакаче растянуть речь еще на две или три минуты, а потом поблагодарил его за уделенное время.
— Ну, доктор, я вас оставляю, надо продолжать работать. — И, встряхнув головой, обожающим тоном добавил: — Смотрите-ка, доктор во всех машинах разбирается.
Тот прикрыл глаза и улыбнулся — жест, который был призван показать скромное принятие должного. А чтобы доканать его, я подсунул ему еще штук двадцать или двадцать пять бестолковых бумаг на подпись.
Когда Фортуна вернулся в свой кабинет, я отсортировал все документы по делу от остальных бумаг, с которыми они были перетасованы, и сложил их в папку Моралеса в правильном порядке. Они были подписаны судьей, но теперь их должен был заверить секретарь. Здесь была невозможна та же стратегия. Они были приблизительно одинаковыми дураками, но не настолько, чтобы продолжать до предела натягивать струну моей удачи. Так что я решил довериться основной черте Переса: он был малодушен, а потому без малейшего возражения заверил бы все, что несет на себе подпись его шефа. Поэтому я в тот же день отнес к нему дело, сдобренное стопкой других бумаг, которые мне сегодня подписал Фортуна. Однако могло случиться так, что он догадался бы о моем маневре. Как в одном деле оказалось столько документов задним числом, если это только не заговор за их с судьей спинами?
Поэтому на всякий случай я спрятал в рукаве туза. Если бы он вдруг начал сомневаться в моей доброй воле, заподозрил бы что-то неладное в этой череде весьма сомнительных документов, к которым Фортуна Лакаче только что пририсовал свою закорючку, я перешел бы к прямому шантажу: что растреплю половине Суда о том, что он свил гнездышко, скрываемое с завидной тщательностью, с сеньоритой официальной защитницей № 3 из Отдела по Исправительным Заведениям, которая не являлась ни его законной супругой, ни любящей матерью двух очаровательных малышей, личики которых красовались на фотографиях на его столе. Но, к счастью, этого не понадобилось. Ничего не спросив, он подписал каждое «мною заверено» под подписью Фортуны Лакаче, автомобильного эксперта. Закончив, я развалился в своем кресле, изможденный до предела — слишком уж велико было нервное напряжение последних часов. Ко мне подошел улыбающийся Сандоваль и выдал философскую фразу, которую применял только в исключительных и торжественных случаях, таких как этот:
— Как я всегда повторяю в подобных случаях, уважаемый друг Бенжамин, в тот день, когда все придурки мира закатят пирушку, эти будут встречать остальных в дверях, предлагать им напитки, тортики, возглавят все тосты и будут стряхивать крошечки с чужих губ.
Имя и фамилия
Чапарро вытаскивает лист бумаги, с силой, но достаточно аккуратно, чтобы извлечь его из ролика и не порвать, и перечитывает написанное. Последние слова вызывают у него улыбку. Ему приятно было поупражнять память, он думал, что совсем уже забыл фразу, которой завершил главу: «…когда все придурки мира закатят пирушку…» Но сейчас она всплыла в памяти вместе с массой других воспоминаний о прошлом и о людях, с которыми он делил это прошлое.
Он откидывается на стуле и затем встает с жестом (его самой стойкой привычкой): указательным и большим пальцами сжимает переносицу до тех пор, пока она не начинает слегка болеть. Он полжизни так делал, поднимаясь со стула, после того как проводил долгие часы сидя, склонившись над столом в Секретариате Суда, а сейчас он поднимается так со своего стула здесь, у себя дома, после часов и часов работы с собственной памятью, уже отошедшей от того, во что он когда-то вмешался. Чапарро думает о том, что все мы довольно предсказуемы, грубы и извечно верны самим себе. Этот жест и многие другие всегда при нем, продолжают его сопровождать и останутся с ним до тех пор, пока он не ляжет в землю на вечный отдых.
Он думает об Ирене. Почему именно сейчас она приходит ему на ум, после того как он подумал о собственной смерти? Или для него они связаны? Нет. Совсем наоборот. Ирене привязывает его к жизни. Она словно должок, который есть у него перед жизнью или который жизнь задолжала ему. Он не может умереть, чувствуя то, что чувствует по отношению к Ирене. Словно было бы чрезмерным мотовством, чтобы такая любовь обратилась в пыль, как его собственные плоть и кости.
Но как вырвать эту любовь из себя? Нет никакой возможности. Он об этом уже думал и передумывал, но нет такой возможности. Письмо? У этого варианта есть своя привлекательность — расстояние, не видеть после прочтения выражение недоверия на ее лице, или, еще хуже, обиды, или, что еще хуже, сострадания. Предстать перед ней и все выложить — такой вариант даже не значится в списке Чапарро. Любовь «взрослых людей» — это звучит смешно, во всяком случае для него. Но признаться в любви женщине, которая вот уже тридцать лет как замужем, кажется ему не просто смешным, но оскорбительным.
Здравый смысл, который Чапарро иногда нащупывает внутри себя, говорит о том, что не стоит быть столь победоносно однозначным. Какая проблема в том, чтобы завести интрижку с замужней женщиной? Он будет не первым и не последним, кто предложит это. И что? И именно что ничего. Ведь то, что Чапарро хочет ей сказать, совсем не значит, что он мечтает завести с ней какую-то интрижку. То, что ему необходимо ей сказать, одновременно повергает его в ужас самим фактом того, что она может об этом узнать: он хочет иметь ее рядом с собой, навсегда, повсеместно и ежечасно, ну или почти ежечасно, потому что его поглотила пучина обожания, и он ничего не признает в этой жизни, кроме нее. Но когда Чапарро доходит до этих мыслей, он останавливается, сдувается. Потому что в его мечтах лицо Ирене, которая выслушивает его исповедь об отчаянной любви, принимает такое же выражение, как если бы она прочла все это в письме (а его он, в любом случае, не станет писать): удивление, или негодование, или жалость.
А потом больше ничего не будет. Потому что после того, как он будет отвергнут, не останется места даже для тех коротких моментов, которые он крадет для своей жизни, — кофе у Ирены в кабинете и болтовня об ушедших деньках, словно это ничего не значащие беседы между добрыми друзьями, бывшими коллегами по работе. Кажется, Ирене нравятся эти встречи время от времени. Но если он однажды пересечет границу дружеской вежливости, для него не останется другого пути, лишь просить ее больше не встречаться с ним.
Чапарро, пока готовит мате, вдруг понимает, что погрузился в то же самое желание, которое уже столько раз вызывало у него чувство вины и которое он всякий раз пытается засунуть поглубже. Ирене, внезапно овдовевшая… могла бы полюбить его? Ничто в этой нелепице не вселяет в него уверенности. Так что оставим в покое бедного инженера, пусть наслаждается своей жизнью и своей супругой, разрази его гром.
Чапарро укладывает последнюю отпечатанную страницу поверх остальных и созерцает всю стопку. Не так уж и мало для первого месяца работы. Или уже полтора? Может быть. Время летит быстрее благодаря этой задумке. Вдруг на него нападет внезапное сомнение: а какое название он даст своему роману? Он не знает. Никаких идей. Он чувствует, что слабоват в том, чтобы давать названия. Поначалу собирался называть каждую главу, но сейчас уже отказался от таких притязаний. Если у него не получается придумать название для всего произведения целиком, то тем более он не осилит такую задачу для каждой главы. А их уже шестнадцать, и впереди еще много.
И еще одно беспокоит — его имя под заголовком. «Бенжамин Мигель Чапарро». Выглядит словно пинок, с какой стороны ни посмотри. Для начала, разве его родителям было невдомек, что последний слог его первого имени и первый слог второго собираются в нечто ужасно несозвучное? Мин-ми. Ужасно. А еще и это, про значение имен, да еще двух. Только «Бенжамин» уже словно камень на шее. «Бенжамин» для жизни вообще не годится. Для мальчика — еще куда ни шло, тем более, например, для младшего из нескольких братьев. Но зачем было его давать единственному сыну? И что касается возраста, то это основное. Одно дело быть Бенжамином семи-восьми лет от роду, но Бенжамин в шестьдесят? Это смешно. Но и это не все. Потому что называть Чапарро человека в метр восемьдесят пять над уровнем пола — это вообще лишено всякого смысла. Так что имя автора Бенжамин Чапарро (даже убрав это какофоническое Мигель) может звучать для невнимательной публики так, словно книга написана молоденьким низкорослым парнем. Или же он уж слишком завернул и люди на самом деле проще? Ну, может, какой-то читатель именно так это и воспримет. А потом появится он сам. И окажется, что Бенжамин Чапарро — это увалень внушающего уважение роста и шестидесяти годков от роду. Звучит противоречиво.
Может, подписать роман псевдонимом? Нет. Ни в коем случае, отвечает он себе незамедлительно. Если он все же опубликует книгу, даже если это будет экономная версия, оплаченная из собственного кармана, он хочет, чтобы его имя появилось на обложке, каким бы смешным оно ни было. Мотив прост. Чтобы его увидела Ирене.
17
Как только я поставил печать под приказом о выяснении настоящего местонахождения Исидоро Антонио Гомеса, как только я опять запрятал дело в тайный ящик, как только ввел Моралеса в курс последних событий, сразу почувствовал удовлетворение от собственного смелого поступка и смог вернуться к повседневной рутине спокойного начальника, мужа «в семь — дома», с чтением газеты по вечерам, и аккуратного сотрудника Суда. И почти забыл об этом деле.
А несколько месяцев спустя получил хорошенький пинок от этого дела. Мне пришлось давать показания против Романо и полицейского Сикоры в расследовании противоправных действий с их стороны по отношению к тем двум рабочим. Сами показания не были таким уж большим делом: подтверждение ранее сказанного и выяснение пары дополнительных обстоятельств. Мне показалось странным (и совсем не понравилось), что ратификацию моего заявления принимал какой-то сопляк: плохой знак, говорящий о том, что Суд прикрывает дело, словно оно и так течет по давно высохшему руслу, и поэтому они ограничиваются в своих действиях. Что еще им было нужно, чтобы провести по делу этих двух беспредельщиков? У них было мое заявление, заявления еще пары полицейских, медицинское обследование о травмах, нанесенных этим двум бедолагам. И хотя меня начали грызть сомнения, я решил подождать. Судьей выступал Батиста, тип, которого я считал честным, я его немного знал, так как нам пришлось поработать вместе в один из январских отпускных периодов. Кроме того, как я уже сказал, первоначальный порыв праведного гнева у меня уже прошел.
Спустя некоторое время сам Батиста назначил мне встречу у себя в кабинете. Встретил меня с улыбкой, сердечно пожал руку и, когда мы сели, заявил: то, что он сейчас собирается мне сказать, — это совершенно конфиденциально, и, пожалуйста, чтобы я соблюдал молчание, иначе мы оба рискуем нашими должностями. «Ничего себе», — подумал я про себя. Это может быть настолько серьезно? Полагаю, что судья чувствовал себя несколько неудобно, потому что, немного помявшись, он в считаные минуты вывалил на меня всю информацию о деле, словно хотел как можно быстрее избавиться от чего-то назойливого и грязного. Так что без всяких оконечностей я узнал о том, что ему был дан приказ «сверху» (он подчеркнул свои слова, показав указательным пальцем в потолок своего кабинета, говоря как бы… о чем? об Отделе? о Верховном Суде? о правительстве?), согласно которому дело надо приостановить и в конце концов закрыть, не назначая виновных. Добавил, что не может объяснить больше, но кажется, что у этого парня, Романо, моего коллеги, есть очень влиятельные покровители, крыша одним словом. Сказав про «крышу», Батиста дотронулся двумя пальцами правой руки до левого плеча. Значит, это не Отдел и не Верховный Суд. Жест — здесь ошибки быть не может — означал «высокий военный чин». Тут-то в моей памяти и всплыл тесть, полковник инфантерии, и я все понял. Какой глупостью было с моей стороны не подумать об этих семейных узах в тот момент, когда я писал на Романо донесение. Ну и дела. Если мне и не хватало чего-то для ощущения полного отвращения по отношению к Онгании и его балету, так именно этого.
— Хотите, я еще кое-что вам расскажу? — спросил у меня Батиста.
Я ответил утвердительно, к тому же у судьи было выражение лица человека, которому очень хочется о чем-то рассказать.
— Нужно было назначить ему допрос, вы знаете… — Я согласился. — И так как меня уже предупредили, — Батиста вновь посмотрел наверх, — я предпочел сам допросить его.
«Все мы трусы, — подумал я, — вопрос только в том, чтобы запугать нас как следует». Ратификацию моего заявления принимал пацаненок с лицом подростка. А у этого выродка, зятя полковника, показания принимал лично судейский магистрат, обильно потея от страха за свое место.
— Вы и не представляете, Чапарро, сколько тщеславия! Сколько тщеславия у этого типа! Вошел в кабинет так, словно делал мне одолжение, словно одаривал меня частичкой своего драгоценного времени. Когда я начал спрашивать о деле, нес ахинею, и только тогда, когда у него возникало желание говорить. И не столько против вас, не думайте. В основном он злился на этих бедолаг, которых разделал под орех. Что тут, мол, черномазые, что там, мол, воры, и так далее. Что надо замочить их всех и закрыть границы. Скажу вам честно: почти всю ту мерзость, что он нес, если не сказать жестче, — все это я не занес в протокол, иначе мне не оставалось бы ничего другого, как засадить его за все сказанное. Вот оно как.
Сейчас в голове у меня вертелся вопрос: «И почему вы этого не сделали, доктор?» Но я не задал его вслух. Меня выворачивало наизнанку от того, что этому ублюдку все сойдет с рук, но и я сам после всего, по-хорошему, оказался малодушным молчуном.
— И когда я спросил его конкретно про этих двух рабочих, он все отрицал, на том дело и застопорилось. Единственное, что мне пришлось ему сказать: если уголовное дело будет прекращено, то, скорее всего, и все внутреннее делопроизводство будет приостановлено, и Отдел Апелляций поднимет вопрос о его восстановлении в должности.
«Отлично, — подумал я, — и он опять будет моим приятелем по работе».
— Но, к моему удивлению, он этому совсем не обрадовался, и ответил, что вряд ли сочтет возможным вернуться и посвятить себя бумажным делам. Что сейчас те времена, когда надо переходить к действиям, потому что родина в опасности, вокруг одни враги, атеисты, коммунисты и не знаю, кто там еще. В конце концов я его оборвал, заставил подписать показания и отправил восвояси. И мне совсем не хотелось интересоваться, каковы его планы на будущее.
Разговор с Батистой оставил у меня горькое послевкусие из-за ощущения несправедливости, ужасной безнаказанности для того, кто плевать хотел на всех и все. Но я еще даже не подозревал, я был еще бесконечно далек от последствий этой истории, которую я рассказываю.
Перечитываю «от последствий этой истории». Но какой же была моя собственная жизнь в 1969-м? Марсела мне тогда предложила завести ребенка. Она меня не спросила, а так, словно вслух, высказала свои собственные размышления. «Мы могли бы завести ребенка», — выскочило у нее как-то за ужином. Мы смотрели новости по 13-му каналу. Я посмотрел на нее и понял, что она говорит серьезно, встал и выключил телевизор — мне всегда казалось, что такие разговоры заслуживают другой обстановки, другого обрамления. Но что-то не срабатывало. В чем была проблема с ней? Почему меня не привлекала идея стать отцом? «Мы уже четыре года как женаты. И за квартиру закончим расплачиваться в следующем месяце», — добавила она, увидев выражение моего лица.
Марсела говорила убийственно логично. Мы познакомились в гостях у моей двоюродной сестры Эльбы. Два года встречались. Кредит Ипотечного банка, двушка в Рамос Мехийа, медовый месяц в Мардель-Плата, красивый сервиз из Эмпорио де ла Лоза. Следующим шагом было то, что она мне и предлагала, если только эту фразу, сказанную безучастным тоном, можно принять за предложение. Я растерялся. Она была права.
Я смог ответить только какими-то отговорками. Марсела отнеслась с уважением к моему страху. Не знаю, из-за чего — из-за послушания, из-за холодности или по привычке. Остановилась на том, что я отвечу, когда сочту нужным. И до сих пор время от времени на меня нападает беспокойство, что я потерял возможность иметь ребенка. Я почти написал «иметь свое продолжение в ребенке» или «увековечить себя». Это значит иметь ребенка? Я никогда этого не узнаю. Это еще один вопрос, который я унесу неразрешенным в могилу.
18
Тем августовским вечером 1969-го, когда я встретил Рикардо Моралеса, я оттягивал свое возвращение домой, в основном из-за того, чтобы не пришлось отвечать на вопрос (или предложение, или инициативу, или что там еще может быть) жены о «завести ребенка». Я не знал, что ей ответить, потому что, прежде всего, не знал, что ответить себе самому. Выйдя в тот день из здания Суда, я сел на 115-й на ближайшей остановке, которая находилась на Талькауано. Пешком пересек Лаваче, присел ненадолго под огромным каучуковым деревом, и только когда стало холодать, я встал и пошел на остановку на проспекте Кордоба. Доехал до станции «Онсе» в семичасовой давке. Меня это не беспокоило, наоборот, у меня была причина пропустить несколько поездов и поехать только на том, где уже можно было присесть.
Я шел не спеша, гораздо медленнее остальных пассажиров, и, чтобы избежать толчков, шел по краю, в самой близи от витрин всех этих киосков и магазинчиков, которых полно на вокзале. Иногда я останавливался, разглядывая всякие рукописные афиши и объявления, подчас полные орфографических ошибок, терпеливое ожидание чистильщиков обуви, яркие помады двух шлюх, которые только начинали свой вечерний променад. Когда никуда не торопишься, начинаешь замечать множество вещей. И вдруг я увидел его.
Рикардо Агустин Моралес сидел на высоком круглом табурете одной из забегаловок, руки опущены на колени, взгляд прикован к проходящим мимо людям, торопящимся к поездам. Я подошел к нему ближе. Он, наверное, сначала меня не узнал, потому что вскинул левую руку, словно останавливая кого-то, подошедшего слишком близко. Наверное, не узнал. Как я уже сказал, моя совесть успокоилась, и на мое уважение к самому себе, как к сотруднику Суда, были наложены заплатки после того шустрого маневра под носом у судьи и секретаря. И без каких-либо угрызений совести я вернулся к будничной рутине. Видеть Моралеса где-то вне привычного окружения, то есть, я хочу сказать, вне Банка Провинции, где он работает, или кафе на улице Тукуман, было странно и даже, я бы сказал, страшновато.
Но он меня разглядел. Протянул руку и состроил что-то наподобие улыбки. Поэтому я подошел ближе, протянул руку в ответ и уселся на табурет рядом с ним.
— Что скажете? Столько времени… — Так он меня поприветствовал.
Был ли какой-то упрек в этом «столько времени…»? Внутри я запротестовал, что, мол, это несправедливо. Зачем мне было с ним связываться? Что мне ему сообщить, что Гомес, который на самом деле мог оказаться замечательным парнем, нигде не появлялся и я сделал уже все, что было в моих силах? Я посмотрел на него. Нет. Он ни в чем меня не упрекал. Он так и сидел, лицом к вокзалу, ноги на перекладине табуретки, замерший взгляд, пустая и холодная чашка на барной стойке у него за спиной, то же ощущение нескончаемого одиночества, как и при остальных наших встречах.
— Так, потихоньку, — ответил я с ощущением того, что он особо не ждал моего ответа. — А вы как? — По крайней мере было удобно, что беседа продолжается этими пустыми, но уверенными формальными фразами.
— Ничего нового. — Он моргнул, слегка развернулся назад, удостоверился, что кофе уже не осталось, и опять повернулся спиной к стойке. Посмотрел на запыленные часы, висевшие на стене напротив. — Мне осталось полчаса, и я закончу.
Я посмотрел — было половина восьмого. Какое дело он собирался закончить в восемь?
— Этот полицейский был прав, — сказал он после долгого молчания. — Он не вернулся в Тукуман. Мой тесть уверен в этом.
Слова Моралеса текли с той непринужденностью, когда человек знает, что его никогда не прервут, потому что собеседники прекрасно знают, о чем идет речь, и в этом нет необходимости. «Этим полицейским» был Баес, «мой тесть» — отец покойной, «он не вернулся в Тукуман» — это про Гомеса.
— По четвергам я здесь. По понедельникам и средам — на Конститусьон. По вторникам и пятницам — на Ретиро. — Время от времени его взгляд задерживался на ком-то из прохожих. — В этом месяце такой график. В мае поменяю. Я его каждый месяц меняю.
По громкой связи хриплый голос, растягивающий слова и глотающий «с», объявил об отправлении скорого до Морона в 19.40 с четвертого пути. Хотя я и не собирался на нем ехать — не хотелось стоять всю дорогу, — мне это показалось удобным предлогом, чтобы встать и попрощаться. Меня остановил голос Моралеса, который без всяких преамбул продолжил свою речь:
— В тот день, когда он ее убил, Лилиана мне приготовила чай с лимоном. — Я заметил, что глагол «убивать» он теперь склонял в единственном числе, а не во множественном, как раньше, — «ее убили», потому что теперь у него в голове убийца имел лицо и имя. — «От кофе тебе будет плохо, тебе нужно его пить меньше», — сказала она мне. Я ей ответил, что она права. Мне нравилось, как она обо мне заботилась.
Я заподозрил, что опоздаю не только на поезд со всеми остановками до Кастеляра, который отходил без десяти, но и на многие другие.
— И кроме того, если бы вы ее видели. — Он внимательно посмотрел на низкорослого юнца, который проходил мимо витрины напротив, но быстро отклонил его кандидатуру и приступил к поискам новой цели. — Каждый раз, когда мой отец смотрел какое-нибудь дефиле моделей или конкурс красоты, всегда говорил, что этих девушек, чтобы проверить, что они действительно красивы, надо бы увидеть с утра, как только они проснулись, без макияжа. Я никогда ей этого не говорил, но всегда первое, что я делал, проснувшись, это смотрел на нее, чтобы проверить теорию моего старика. И вы знаете? Он был прав. По крайней мере, по поводу Лилианы.
Ужасный голос объявил об отправлении поезда в 19.55 до Кастеляра, со всеми остановками. Я вспомнил черты лица девушки — и подумал о том, что Моралес ни капли не преувеличивал, говоря о ее красоте. Уже действительно было поздно, но теперь у меня пропало желание подниматься с табурета. По крайней мере до тех пор, пока я не найду название для того чувства, которое зарождалось у меня внутри. Сострадание? Грусть? Нет. Это было что-то другое, но я никак не мог определить что именно.
— И знаете, что самое ужасное?
Я посмотрел на него и не знал, что сказать.
— То, что я начинаю забывать ее.
Его голос потеплел. Я не поступил безрассудно и не прервал его.
— Я думаю о ней, и думаю, и думаю целый день. Просыпаюсь среди ночи от бессонницы и вспоминаю ее. Но я вспоминаю постоянно одни и те же вещи. Те же самые картинки. Так что же я помню в итоге? Ее или все эти воспоминания, которые я сам соорудил за этот год с лишним, с тех пор как она погибла?
Бедняга. Почему в своих мыслях я не мог продвинуться дальше этого «бедняга», которое было словно этикетка без цены.
— Вы знаете, я хотел покончить с собой. Иногда встаю с утра и думаю о том, какого черта я жив.
К этому моменту я сам уже начал спрашивать себя, какого черта живу. Что я мог ему ответить? Но, с другой стороны, имел ли я право молчать после такой исповеди, после того страдания, которое он выплеснул на меня? Я сказал первое и единственное, что пришло мне в голову:
— Может, вы продолжаете жить, чтобы все-таки поймать этого сукиного сына, который ее убил… — Я подумал и почувствовал себя обязанным добавить, дистанцируясь от его фанатичной уверенности: — Гомеса или кто бы он ни был.
Моралес обдумывал мой ответ. По привычке или же следуя своему методу, продолжал разглядывать людей, торопившихся по направлению к платформам. Наконец ответил:
— Думаю, что да. Думаю, что поэтому.
И замолчал. Я тоже. Если поиски заставляли его продолжать жить, то это было уже что-то. В любом случае, его усилия уже заранее были безрезультатными. Если Гомес был невиновен, то невозможно его в чем-то обвинить. А если убийцей все же был он, то сложно представить, как мы сможем его задержать. Этот тип знал, что его ищут, — и как найти его в этом океане людей? Если рассматривать дело с этой точки зрения, то навязчивые выслеживания Рикардо Агустина Моралеса на вокзалах города выглядели до умиления наивными.
— Вы все еще живете в Палермо? — спросил я, только лишь бы спросить хоть что-то.
— Нет. Квартира все еще за мной, но я живу в общежитии в Сан-Тельмо. Мне ближе к работе и… ко всему этому, — добавил он так, словно ему было сложно дать название этой странной охоте.
Я попрощался, сказав, что, если будут какие-либо новости, я сразу же свяжусь с ним. Протягивая мне руку, он посмотрел на часы и увидел, что ему тоже пора. Вытащил из кармана помятую банкноту и оставил ее на барной стойке. Мы вышли вместе, но через несколько шагов он дал мне понять, что ему в противоположную сторону. Мы вновь пожали руки друг другу.
Я направился в сторону поездов. Контролер пробил мой билет. Один из поездов собирался отходить — Флорес, Линьерс, Морон, потом со всеми остановками. Мест не было. Все равно я вошел. Я только что решил, что мне как можно раньше нужно домой. Хотя и не целиком, но мне все же удалось дать определение тому, что я почувствовал, пока слушал Моралеса. Это была зависть. Любовь, которую переживал этот человек, будила во мне непомерную зависть, несмотря на то что трагедия, в которой потонула эта любовь, несомненно, вызывала сострадание. Я стоял неудобно и держался за одно из колец в проходе, и меня мотало из стороны в сторону в такт движению поезда, и я знал, что сейчас с остановки дойду пешком до дома, скажу Марселе, что нам надо поговорить, и сообщу ей о своем решении развестись. Скорее всего, она посмотрит на меня с удивлением. Без сомнения, такая программа никак не входит в логическую цепочку этапов, по которым она распланировала свою жизнь. Я скажу, что сожалею, потому что мне никогда не нравилось причинять другим боль, но я только что понял, что причиню ей гораздо больше боли, оставшись с нею.
Когда я пришел домой, Марсела ждала меня с накрытым столом. Мы проговорили до двух утра. На следующий день я собрал кое-какие вещи и пошел искать общежитие, постаравшись, чтобы это было не в Сан-Тельмо.
19
Прошло больше двух с половиной лет до 16.45 понедельника, 23 апреля 1972 года, когда двери остановившегося на втором пути поезда на станции Вича Люро, находившиеся под присмотром контролера Сатурнино Петруччи, захлопнулись перед самым носом толстой и пожилой сеньоры. Высунувшись из вагона, контролер погладил кнопку «свистка», но не стал ее нажимать. Вместо этого нажал «открыть». Все двери состава вновь с лязгом открылись, и женщина, радостная, впрыгнула с платформы в вагон и тут же плюхнулась на пустое место на лавочке.
Контролер Сатурнино Петруччи — в серой униформе, с густыми усами с проседью, с приличным животом — обрадовался тому, что позволил себе впустить толстуху и взять с нее штраф уже в поезде. Как ему могла прийти в голову такая подлость? Пришла в виде способа мщения. Но не толстухе, которой он даже не знал, а всему миру в целом. Он страстно жаждал отомстить всему свету, потому что обвинял весь свет в своем мрачном настроении, в котором он пребывал с позапрошлого вечера, точнее, с воскресенья. И своим мрачным настроением он был обязан, не более и не менее, поражению клуба «Расинг» с Авечанеды. То есть он собирался омрачить вечер бедной женщине, и все из-за футбола. Этот проклятый, этот вечный футбол.
Петруччи чувствовал себя идиотом из-за того, что результаты его команды способны так испортить ему настроение. Но чувствовать себя идиотом не означало избавиться от горечи. Почти наоборот: чувствовать себя идиотом означало еще более отвратительное настроение. Огромная боль, которая была такой же реальной, как и физическая, грязная боль, несправедливая, она была слишком большой, чтобы взгромоздиться на его широкие плечи матерого футбольного болельщика. Разве больше никогда не вернутся светлые годы его молодости, когда «Расинг» уставал от побед? Он считал себя человеком терпеливым и благодарным. Не хотел быть таким, как эти невыносимые болельщики из лож, которые требовали успеха за успехом, чтобы чувствовать себя удовлетворенными. Для него хватало и меньшего. Но даже «команда Хосе» уже становилась всего лишь воспоминанием. Сколько лет уже прошло после гола, забитого Карденас, и того чемпионата мира? Пять. Пять долгих лет. А если пройдет еще пять? А потом еще десять без звания чемпиона для «Расинг»? Боже милостивый. Ему даже думать не хотелось об этом, словно он мог навлечь еще больше неудач.
Этот понедельник начался со всех признаков поражения: заголовки газет, шутки в офисе контролеров, насмешливые взгляды пары машинистов. Это была сдержанная злоба, медленно сочившаяся, которая почти превратила толстуху в его жертву. Он посмотрел в окно двери следующего вагона. Он доезжал с этим составом до Онсе и возвращался скорым. Он вздохнул и прочистил горло. Кажется, он набрал достаточную дозу спокойствия, чтобы освободить женщину от своей бесполезной мести, но мстительное настроение еще его не покинуло. Он не хотел возвращаться домой со всей этой злобой, потому что он был хорошим отцом и хорошим мужем. Тогда он решил выместить это зло самым честным образом, преследуя «зайцев».
Быстрым жестом он вытащил из кармана машинку для пробивания билетов. «Проездные документы и билееееты…» — слегка растягивая слова, с ударением на последнем, он развернулся к немногим занятым местам в вагоне. Опытный в своем деле, одним взглядом он проверил всех мужчин, потому что вряд ли женщины были без билетов. Мужчин было человек шесть-семь, рассеянных по сиденьям, обтянутым зеленой искусственной кожей. Несколько человек сразу полезли в карманы, тогда как остальные встали и направились в следующий вагон. Не спеша контролер проколол желтоватый билет у одной молоденькой мамаши. Ему и не нужно было высматривать беглецов. Одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы запомнить, что один был в пальто, а другой, низкорослый и с темными волосами, в синей куртке. Поезд начал замедлять ход. Он поблагодарил старика, который показал ему свой льготный, и прошел к дверям. Единственное, что его интересовало на станции Флореста, это найти двух «зайцев», которые смылись, словно крысы. Одного он нашел сразу: тот, который был в пальто, сошел с поезда, прикинулся дурачком и облокотился на дерево. Петруччи его простил. Ему хватило того, что он сошел с его поезда. А второй? Этот мелкий в синей куртке, куда он запропастился? Петруччи почувствовал, что гнев, который он сдерживал весь день, вновь давал о себе знать. Он что, собрался его обдурить? Ему что, было мало свирепого вида опытного контролера? Он что, решил, что спасся, просто перейдя в другой вагон? Он его принимал за дурака? Отлично.
Он закрыл двери, нажал «свисток», подождал, когда поезд наберет ход, и отпустил дверь, которую придерживал ногой. Потом убрал в карман машинку для пробивания билетов, как будто предчувствовал, что лучше освободить руки. Набирая скорость, направился вперед по проходу, покачиваясь вместе с поездом. В следующем вагоне он не остановился, с одного взгляда определив, что беглеца здесь нет. Перешел в другой — там его тоже не было. Он улыбнулся. Этот придурок ушел в последний вагон. Дверь взвизгнула, когда он раскрыл ее одним толчком. А вот и он: сидит слева, с бестолковым выражением лица, смотрит в окно, словно никого не замечая. Петруччи прошел вперед, выпятив грудь и балансируя плечами. Остановился рядом и прогремел на ухо:
— Билет.
С чего вдруг этот придурок посчитал его за идиота? И с чего это он так вздрогнул с удивленным лицом? Эти поиски в кармане, в другом, этот вздох: «Ох, не могу найти», — раздосадованное и тревожное цыканье языком. Он что, думает, его не заметили, когда он дал деру из пятого вагона?
— Не могу его найти, сеньор.
«Сеньор, мать твою», — подумал Петруччи. Терпеливо выслушав, он сказал ему тоном грозного отца:
— Придется заплатить штраф, малек.
И вдруг что-то случилось. Ну на самом деле что-то случается всегда, а здесь «что-то случилось» означало, что последующее поведение одного из участников этой перебранки повлекло за собой значительные последствия в развитии той истории, которую Чапарро потом опишет в своей книге. Парень встал, выпятил грудь, нахмурил брови и выпалил в лицо кондуктору:
— Тогда спроси денег с Магочи, сраный жирдяй. Потому что у меня нет ни копейки.
Петруччи удивился, и это удивление было окрашено радостью. Этот парень послан ему небом. Прославленная Академия потерпела поражение накануне. Его знакомые рубили на дрова древо его печали в течение всего этого времени. А этот парень, неотесанный сквернослов, давал ему возможность проветрить все закоулки его души, потемневшие от горя. Он протянул руку и тяжело положил ее на плечо парня:
— Не прикидывайся дурачком. Сейчас ты сойдешь со мной во Флорес, и посмотрим, как ты будешь выкручиваться, карлик.
— В штанах твоих карлик, — выпалил парень с гневом.
Позже Петруччи сказал бы, что он застал его врасплох, но это было не совсем так. Контролер предчувствовал, ощущал, почти жаждал, чтобы тот накинулся на него. Но удар, которым его наградил этот сопляк, был таким быстрым и таким точным, что пришелся ему прямо в нос и ослепил на мгновение. Парень встряхнул руку от боли. Позже медики поставят ему диагноз «перелом кисти». Он быстро развернулся, чтобы попытаться удрать через проход, избежав столкновения с громадной тушей контролера. Но когда у него это почти получилось, он почувствовал, что грубая рука схватила его за воротник куртки и ловко швырнула спиной в стенку прохода. Потом он ощутил, как другая рука схватила его сзади за ремень и его оторвали от пола. В конце концов он увидел, что летит прямо в алюминиевую раму окна, которая врезалась ему в лоб. Он был крепышом, и хотя был оглушен, все же удержался на ногах и, освободившись от захвата контролера, развернулся к нему и занял оборонительную позицию. Наверное, если бы сеньор в серой униформе был бы полегче, или если бы в молодости он не состоял в Федерации бокса, или если бы «Расинг» победил накануне, то парню без билета удалось бы удачно выпутаться из драки. Но не получилось. Поэтому он получил грубый удар кулаком под дых, заставивший его согнуться пополам, затем прямой в челюсть, который свалил его с ног. И на десерт Петруччи подал ему сбоку в живот, отчего у парня слезы хлынули из глаз.
В этот момент поезд остановился. Гордый и счастливый, Петруччи заслужил аплодисменты немногочисленной публики, собравшейся на отрезке между Флореста и Флорес, открыл двери и почти волоком вытащил «зайца» из поезда. Дошел до офиса почти на другом конце платформы. Несколько любопытных, наблюдавших, как он тащил оглушенного парня, высунулись в открытые двери. Петруччи позвал младшего офицера, находящегося на посту, кивком поздоровался с ним и кратко рассказал о произошедшем. Офицер занялся парнем.
— Давай сделаем так, — сказал он, приковывая парня наручниками к спинке деревянного стула с вертикальными перекладинами, — я переведу его в отделение, пусть проверят, есть ли что-то на него. Скорее всего, ничего нет, но так, чтобы помотать поганца. Там он быстро научится не строить из себя дурачка, чертов засранец.
— Отлично, — ответил Петруччи, впервые ощупывая нос, который теперь и вправду начинал болеть.
— Может, покажешься врачу? — спросил полицейский. — А то выглядит паршиво.
— Да, приложил он меня крепко, выродок.
Они говорили прямо перед парнем, который сидел, уставившись в пол. Полицейский проводил его до дверей. Поезд продолжал стоять.
— И все из-за того, чтобы повыпендриваться, кусок дерьма. — Петруччи было необходимо выговориться. — Если бы просто сказал, что нет денег, попросил бы оставить, пожалуйста, я бы, может, ничего бы и не сказал, знаете ли?
— И что с него взять? Многим таким вот, как он, море по колено, сами знаете.
— Вот ведь… — заключил контролер.
Махнул рукой, закрыл двери и нажал на «свисток». Поезд еще секунду не трогался, потому что моторист отвлекся из-за столь долгого ожидания. Когда Петруччи доехал до Онсе, нос распух и продолжал кровоточить. Его отправили в железнодорожный госпиталь на рентген и на осмотр врача. «Перелом носовой перегородки, — сказал врач, принявшей его в травмпункте. — Вы не теряли сознание? — Петруччи отрицательно покачал головой, словно перелом носовой перегородки был самой обычной вещью в этом мире. — Езжайте домой. Назначаю вам четыре дня отдыха. Придите ко мне в пятницу, и там посмотрим, как пойдут дела».
Петруччи подумал, что теперь будет устраивать мордобой с «зайцами» хотя бы раз в месяц, раз это обеспечивает его такими благами. Он праздновал. На Онсе сел на поезд, пройдя мимо контроля. Нужно было сдать бумаги в конторе в Кастеляре. К тому же он уже действительно устал. Когда он прибыл со справками из больницы, некоторые сослуживцы вышли ему навстречу.
— А вот и шериф, всем посторониться, — сказал один из них, строя из себя шутника.
— Не полоскай мозги, Авалос, — оборвал его Петруччи.
— Да серьезно, мужик. Ты что, еще не знаешь?
— Что?
— Парень, которого ты скрутил… Ну тот, который полез драться с тобой…
— Ну. И что?
— Помнишь, он остался во Флорес для проверки…
— Ну и что? Только не говори, что за этим придурком что-нибудь всплыло.
— Что-нибудь?! Да на нем приказ об аресте или что-то в этом роде, и не какой-нибудь! Из столичного суда, за убийство и не знаю, что там еще…
— Так что теперь ты вроде как страж закона, вот видишь? — вмешался другой.
— Не валяй дурака, Зиммерман. С этой тупой рожей — и с приказом об аресте за убийство? Он что, из этих парней из Монтонерос или вроде того? Я пошел домой. Сил моих больше нет.
Его ненавязчиво поприветствовало несколько человек. Пока шел до остановки 644-го, Петруччи подумал о том, что в конце концов день закончился не так уж и плохо. Он выплеснул зло на этого придурка, получил четыре дня отдыха, которые как раз нужны, чтобы закончить стяжку на полу в задней комнате. Нос слегка побаливал: как сказал врач, ему дали несколько обезболивающих, которые подходят разве что лошадям. Да и «Расинг» рано или поздно опять станет чемпионом. Сколько до этого осталось?
Он сел в автобус. В кармане нащупал бумажку, которую ему дал Авалос. «Имя того парня», — сказал он тогда ему. В тот момент он не обратил внимания, а сейчас стало любопытно. Он развернул листок: «Исидоро Антонио Гомес». Петруччи смял бумагу в комок и позволил ей упасть на замусоренный пол автобуса. Потом устроился поудобнее подремать несколько минут, осторожно, чтобы не уткнуться носом в стекло, а то звезды из глаз посыплются или кровь опять пойдет.
20
Он сидел передо мной, и ко мне опять вернулись сомнения: а не соорудил ли я тут замки на песке? Ну мог ли быть виновным этот парень с приятным выражением лица, который стоял передо мной, слегка расставив ноги, расслабленно, как будто его совсем не беспокоило то, что руки его были скованы наручниками за спиной?
Многие задержанные после двух или трех дней почти без движения и без общения, изнывающие от отвращения к тюремной еде и грязи, все больше и больше накручивают себя и принимают в конце концов облик жертвы, послушной капризной воле своих охранников. А Исидоро Антонио Гомес — нет. Конечно же заточение, длившееся с понедельника, оставило свои следы: успевший уже впитаться в кожу запах немытого тела, тень от щетины, кеды без шнурков. И это не считая гипса на правой руке и позеленевшей гематомы над правой бровью, оставшейся после стычки с агрессивным контролером железной дороги Сармиенто.
Мои сомнения становились все сильнее. Может ли человек оставаться таким спокойным, зная, что его обвиняют в убийстве? Он даже не обращал внимания на причину, по которой его задержали и доставили в Суд для дачи показаний. Ведь еще существовала вероятность, что он верил, будто все это — лишь раздутое донельзя дело о безбилетном проезде и драке с официальным лицом. Я сказал себе «нет»: за милю было видно, что малый смышленый. И должен знать, что он здесь по другой причине. Но как тогда объяснить, что он оказался втянутым в такой скандальный инцидент? Поэтому я заключил: или он невиновен, или же он вероломный сукин сын.
Мои мозги работали со скоростью тысяча оборотов в час: если он был невиновен, почему тогда слинял в конце 1968-го; а если был виновен, почему позволил себя задержать из-за такого глупого инцидента?
На следующий день новость о задержании Гомеса ждала меня в Секретариате. Баес лично подтвердил мне это по телефону. Мы решили помариновать его пару дней, до четверга, в основном для того, чтобы дать мне время подумать: как же, мать его, построить этот допрос? Это мы долго и со всех сторон обмусоливали с Сандовалем. Был ли у меня под рукой кто-то еще, хотя бы с половиной его способностей к дознанию?
За эти три года в Суде мало что изменилось. Мы избавились от этого недоумка секретаря Переса (его повысили до официального защитника), хотя потеря нашего шефа оставила нам горькое послевкусие, подтверждая ту истину, что врожденная глупость, которую он нес, как знамя, видимо, способствовала продвижению со скоростью метеора по служебной лестнице. С доктором Фортуной Лакаче нам так не повезло. Он все еще был нашим судьей и продолжал оставаться придурком. Что еще хуже, шел уже 1972-й, и быть знакомым Онгании уже означало отсутствие эффективной поддержки на пути продвижения в Апелляционную Палату. Да уж, в самый звездный час усатого генерала (Онгании. — Пер.) Фортуна не смог совершить решающий прыжок, а теперь это уже стало практически невозможным. Поэтому он и остался, словно овощ на грядке, на своем обычном месте. Хорошей новостью было то, что его склонность к позерству, особенно перед лицом насилия, пропала без следа. Мы могли спокойно работать, он подписывал там, где ему указывали, и перестал бессмысленно гонять своих просекретарей на все места преступлений по делам об убийствах. Это было удачей, потому что к тому времени Аргентина уже оказалась заваленной трупами.
Из-за всего этого, что Сандоваль в шутку называл «нашим сиротством вследствии отсутствия компетентных лидеров», мы смогли спокойно сесть и перечитать дело, которое застопорилось еще с декабря 1968-го, три с половиной года назад, сразу после выхода приказа о задержании. А он сработал только в прошлый понедельник на станции Флорес.
Сандоваль, в настоящий момент переживающий один из самых долгих периодов трезвости, о которых я только знал, заключил с железной логикой:
— Если он виновен… не знаю, Бенжамин… если он только сам затянет себе петлю на шее в своих показаниях, иначе мы пролетаем.
Это было больно, но это было правдой. Что у нас на самом деле было для того, чтобы проводить его по делу о квалифицированном убийстве? Вдовец обвинял его (подложно, так как эту фальшивку нам пришлось соорудить, чтобы Фортуна не завернул нас с подписанием приказов для полиции) в том, что он посылал его жене письма с угрозами, которых не существует. Некоторые данные о полицейских расследованиях, отправленные Баесом, в которых значилось, что Гомес покинул место своего пребывания и работу за несколько часов до проведения дознавательных действий полиции в этих местах. Карточка со стройки с отметкой о выходе персонала на работу, в которой значится, что в день смерти Лилианы Эммы Колотто де Моралес он сильно опоздал на работу. Все это было чушью. У нас не было совершенно ничего, и даже самый великий идиот среди адвокатов разнесет нас в пух и прах с нашей идеей временного задержания, как только подаст апелляцию в Палату. И все это в случае, если мы добьемся, чтобы Фортуна подписал нам резолюцию. Это так, заметив по ходу.
Наверное, поэтому я даже не потрудился позвонить Моралесу. Зачем его предупреждать? Чтобы он увидел, как мы освободим единственного подозреваемого, который появился у нас в течение этих трех лет? Того самого подозреваемого, которого он продолжал искать (а я в этом уверен) по всем вокзалам посменно, с понедельника по пятницу?
Я приказал привести Гомеса в кабинет секретаря, который был пуст. Нам еще не назвали преемника Переса, и сейчас все бумаги подписывал секретарь из 18-го отдела. Мне не хотелось свидетелей. Почему? Я сам не знал, но не хотел. Так что я приказал, чтобы меня не беспокоили и не прерывали. Я вошел в кабинет вслед за Гомесом и охранником, который вел его за руку. Я попросил охранника снять с него наручники. Гомес сел напротив стола, закинув правую ногу на левую. «Уверен в себе, твердолобый», — подумал я. Его спокойствие было нехорошим знаком.
В этот момент я услышал, как в соседнем кабинете открылась дверь, распевно прозвучало «добрый день», от чего у меня волосы встали дыбом. Не может быть. Не может. Сандоваль чуть приоткрыл дверь, заглянул в кабинет, в котором мы расположились, и повторил свое радостное приветствие в сопровождении широченной улыбки. И хотя он сразу же исчез в общей конторе, я замер на какое-то время, все еще продолжая смотреть на дверь, из-за которой он выглядывал. «Ну, мать твою, выродок», — сказал я про себя. Он был на рогах. Не причесан, не брит, одежда со вчерашнего дня, одна из пол рубашки выбилась из брюк. Хотя зачем-то он заглянул и поздоровался со мной. Я видел его всего лишь мгновение, но мне этого хватило, чтобы все понять — за столько лет работы вместе… Я попробовал вспомнить предыдущий вечер. Разве я не удостоверился, выглянув в окно и увидев, что он направляется домой, а не в бары Бахо? Или все мои мысли были заняты сегодняшним днем и у меня это вылетело из головы? Теперь уже неважно. Мы пропали.
Я заправил бумагу в печатную машинку, которую притащил сюда с моего стола. Не стоило изменять своим самым элементарным привычкам. «Город Буэнос-Айрес, двадцать шестого дня месяца апреля 1972 года…»
Я остановился. Сандоваль стоял в дверном проеме, словно ожидая меня. Я испепелил его взглядом. Он же не собирается в таком состоянии участвовать в допросе… Он был таким козлом, что перечеркнул все семь месяцев воздержания, а теперь ему еще наплевать и на то, что он загадит дело, которое так много для меня значит. Он был в состоянии, в котором не мог связать больше трех слов из двух слогов, так пусть хотя бы забьется куда подальше и даст мне сделать с Гомесом все, что будет в моих силах. Или он понял мой жест, или головокружение посоветовало ему сесть за свой письменный стол, но именно это он и сделал. Я взглянул на Гомеса и на охранника. Они не обращали внимания ни на мое растущее отчаяние, ни на ситуацию в целом. В любом случае, должен признать, что напивался Сандоваль благородно. Ничего такого вроде икоты или нетвердой походки, когда человек ходит зигзагами и все время наталкивается на мебель. Его внешний вид был как у достойного сеньора, который по причинам, далеким от его доброй воли, был вынужден спать на улице в непогоду.
Я решил покончить с хождениями вокруг да около и приступить к допросу Гомеса, при этом зайти с плохой стороны, предполагая, что он виновен. В любом случае, я проиграл. Самым холодным и спокойным тоном, на который я только был способен, я спросил его личные данные и сообщил причины, согласно которым у него берутся показания. Я объяснил ему его права и ввел в курс основных аспектов дела. Пока я говорил, я все фиксировал на пишущей машинке, на той же самой, на которой фиксирую сейчас свои воспоминания. Оформив протокол допроса по всем правилам, я остановился. Сейчас или никогда.