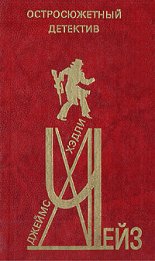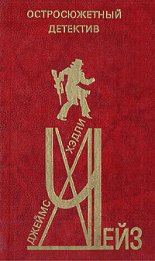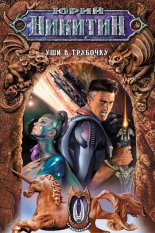Ключи к полуночи Кунц Дин

Оставшись наедине с Алексом, Джоанна подошла к нему поближе и почти шепотом произнесла:
— Ну, наконец-то мы сможем чудесно согрешить друг с другом.
Алекс рассмеялся.
— Как насчет того, чтобы совсем "развратиться"?
Он обнял ее, и, казалось, это было единственное правильное решение, которое он мог принять в данный момент.
— Осторожнее, — сказала она, поддразнивая, — а не то они позовут полицию и вышвырнут нас отсюда.
— Когда я заказывал этот номер, — сказал Алекс, — то забыл о местных нравах. Надеюсь, я не поставил тебя в неловкое положение.
Джоанна страстно обняла его. Начинаясь, как выражение симпатии, ее чувство вдруг быстро переросло в потребность чего-то большего. Алекс был теплый, надежный, повелительно мужественный. Ее руки лежали на его спине, и она могла чувствовать каменную твердость его мускулов.
— Джоанна...
Чтобы заставить его замолчать, она привстала на Цыпочки и поцеловала его сначала в левый уголок рта, затем — в правый.
Его руки медленно ползли вниз по ее спине, пока не оказались на ее талии.
Ее поцелуи стали более откровенными. Внезапно она как будто превратилась в женщину свободного поведения, что и думал о ней весь обслуживающий персонал отеля. Она лизала губы Алекса, и поцелуй становился глубже, сильнее. Ее руки были все еще на его спине, пальцы судорожно сжимались и разжимались, будто она хотела разорвать на нем одежду.
Он сжал ее так, что чуть не переломил, но вскоре его руки заскользили вниз, к ее ягодицам. Почти неуловимый трепет удовольствия прошел сквозь него и передался ей. Сквозь прохладную, шелковую ткань ее платья он похлопывал, и ласкал, и растирал ее тело. Любовно, самыми кончиками пальцев, он снова и снова прочерчивал глубокую выемку ее зада.
Она прервала поцелуй только, чтобы произнести его имя, которое как вздох сорвалось с ее губ. Джоанна была уверена, что, наконец-то, он принял решение.
Однако, через несколько секунд, казалось, Алекс взял себя в руки: он напрягся и оторвался от нее.
Прочистив горло, Алекс произнес:
— Давай не будем, Джоанна.
Пытаясь как можно лучше скрыть свое разочарование, Джоанна сказала:
— А ты не очень-то развращен.
Он улыбнулся, но его взгляд был какой-то беспокойный, затравленный.
— Ты, конечно, понимаешь, что это смешно, — сказала Джоанна. — Я имею в виду то, что ты играешь роль хрупкой, робкой девушки, а я — этакого резвого "жеребца". Разве это нормально?
— Пожалуй, нет.
— Я хочу тебя.
— И я хочу тебя, Джоанна. Больше всего на свете.
— Тогда возьми меня.
— Я хочу заниматься с тобой любовью. Любовью, Джоанна, а не сексом. Я мог бы лечь с тобой в постель и трахать тебя по-всякому. Но если при этом между нами не будет любви, то будет похоже на все прочие разы. И ты будешь, как все другие женщины. Если бы я сделал это без любви, не думая о нас, о будущем... ну, я мог бы только упустить самую лучшую для нас возможность стать счастливыми. — Он печально покачал головой. — Мне надо еще очень многое решить для себя, прежде чем я смогу сказать тебе "Я люблю тебя", никого не обманывая.
Она раскрыла навстречу ему объятия:
— Будь моим, а я буду твоей. Позволь мне помочь тебе.
Он отвернулся от нее, подошел к ближайшему окну и стал задумчиво смотреть на город. Он был сердит. Она могла судить по тому, как он стоял, как сутулил плечи. Но сердился он не на нее, а на себя.
— Мои родители чертовски хорошо поработали надо мной, не так ли? — спросил он с горечью в голосе. — Они здорово сокрушили меня. Они приучили меня думать о любви, как о чем-то предательском, за чем всегда следует боль — ужасная, неожиданная, калечащая боль. — Он отвернулся от окна и посмотрел ей в лицо. — Я знаю, почему так чувствую. Я знаю, почему так боюсь любить тебя. Я напуган до смерти, потому что внутри меня сидит червь, постоянно нашептывающий мне, что любовь значит боль, что любовь и агония — синонимы. Этот червь — единственное наследство, которое оставили мне мои родители. Я все это понял. Я сам себе психоаналитик. Я веду себя неразумно, но ничего не могу поделать. Я пытаюсь. Видит Бог, пытаюсь, Джоанна, но на это требуется время.
Она подошла к нему, взяла его руку в свои и прижала его пальцы к своим губам.
Он притянул ее к себе. Они целовались, но даже и наполовину не так страстно, как прежде.
Он был терпелив с ней. Теперь она должна быть терпелива с ним.
Несмотря ни на что, она твердо настроилась, что разделяющая их завеса будет убрана еще до утра, когда их самолет улетит в Лондон. Очертя голову, они ввязались в опасное столкновение с опасными людьми в опасные времена. Интуитивно Джоанна знала, что им легче будет спастись, если они будут связаны вместе душой и телом, вместе — в любом смысле этого слова. Джоанна была уверена, что безопаснее всего им будет, если они смогут действовать как единый организм. Любовь сильнее, чем ненависть и оружие, чем все правительства мира. Она была убеждена, что любовь — это сила, которая может сдвинуть горы. Возможно, это убеждение было глупым, возможно, оно было результатом ее долго сдерживаемого, полного тихого отчаяния желания любви, от которой до сегодняшнего дня она отказывалась, и, возможно, она преувеличивала важность такой абстрактной идеи в современном мире, который вкладывал свою веру только в конкретное. Но она была убеждена как никогда. Как любовники, сплетшиеся физически, они обнаружат свою силу более чем удвоенной, и она будет возрастать в геометрической прогрессии в сотни и даже в тысячи раз. Она знала и, как самый убежденный миссионер, не позволила бы никакому аргументу или свидетельству поколебать свою убежденность, что у них будет намного больше мужества и везения, если они будут думать, работать и мечтать как один организм. В грядущие дни любовь будет их источником силы и поэтому вопросом выживания.
— Как насчет суши на обед? — спросила Джоанна.
— Звучит хорошо.
— В "Озасе"?
— Ты знаешь Токио лучше, чем я. Куда скажешь.
Еще она чувствовала, что Алекс боролся, стараясь выбраться из того эмоционального корсета, в который он был заключен своими родителями, и что ему осталось развязать не так уж много завязок, и он будет свободен, а она должна была заботливо помочь ему.
Сегодня вечером.
Это должно случиться сегодня вечером.
Все началось с раннего обеда.
Декабрьский вечер был холодным, но в ресторане было тепло. И Алекс, не сводивший глаз с Джоанны, тоже излучал тепло. Сегодня ее волосы казались самого роскошного золотого оттенка, ее глаза были синее, а лицо еще красивее, чем всегда. На ней был одет облегающий зеленый вязаный костюм и белый свитер. И каждое движение — неважно, ходила она, стояла или сидела, — казалось, было рассчитано на то, чтобы представить в лучшем свете полный изгиб ее груди, узость ее талии или гладкую округлость бедер на его рассмотрение.
Джоанна выглядела прохладной, спокойной и величественной.
Ресторанчик назывался "Озаса" и находился в районе Гинза, прямо за углом от Центральной биржи гейш. Он располагался на верхнем этаже, тесный и шумный, но один из лучших, где подают суши. Один из лучших в Японии. Вдоль всего местечка тянулась чисто выскобленная деревянная стойка, за которой находились повара, одетые во все белое, и только их руки были красные от постоянной работы с водой. Когда Алекс и Джоанна вошли, повара закричали традиционное приветствие: "Irasshai!"
Комната омывалась поистине чудесными запахами: омлет, шипящий в растительном масле, соевый соус, различные горчичные соусы, приправленный уксусом рис, хрен, грибы, приготовленные в особом ароматном бульоне, и многое-многое другое. Но там не было ни малейшего запаха рыбы, несмотря на то, что несколько видов рыб использовались в качестве основного ингредиента в дежурном блюде этого заведения. Дары моря, более свежие, чем в "Озасе", были только те, что еще плавали в глубинах.
Одного из поваров Джоанна знала еще с тех времен, когда была певицей в Токио. Его звали Тошио. Она представила Алекса, и поклонам с обеих сторон не было конца.
Они сели к стойке, и Тошио поставил перед ними две большие чашки с чаем. Каждый из них получил ошибори, которыми они вытирали руки во время выбора рыбы, заполнявшей длинный стеклянный холодильник за стойкой.
В этот вечер уникальное и утонченное мучительное напряжение между Алексом и Джоанной превращало даже этот простой обед в редкое переживание, полное эротической энергии. Алекс заказал татаки, каждый кусочек которого был завернут в яркую желтую полоску омлета. Джоанна начала с заказа торо суши. Ее заказ был подан раньше. Тошио учился и учился годы, прежде чем ему разрешили обслужить его первого клиента, и теперь его долгое ученичество нашло себе применение в быстрой грации его кулинарного искусства. Итак, для торо он достал из холодильника жирного тунца мраморной окраски, и его руки начали двигаться как руки искусного фокусника, быстрее, чем может уследить глаз. Огромным ножом Тошио легко отрезал два кусочка тунца. Из большой посудины, стоявшей около него, он взял горсть риса, приправленного уксусом, ловко слепил из него две крошечные лепешечки, для вкуса добавил немного васаби. Тошио поместил кусочки рыбы на эти лепешечки и, сияя гордостью, поставил этот деликатес перед Джоанной. Все приготовление заняло не более тридцати секунд, начиная с того момента, когда повар открыл дверцу холодильника. Короткая церемония мытья рук, завершившая приготовление торо и предшествовавшая сотворению татаки, напомнила Алексу слова постгипнотического кода, который Оми Инамури применил к Джоанне: руки Тошио были как бабочки, порхающие в брачном танце. Новичку было бы трудно есть суши, но Джоанна не была новичком, и ей удалось остаться аккуратной и чувственной, когда она ела торо. Она взяла один кусочек, окунула рисовую часть в соевый соус, повернула так, чтобы не капнуть, и отправила все на язык. Джоанна закрыла глаза и жевала, сначала медленно, потом все более энергично. Зрелище ее наслаждения торо увеличивало удовольствие, которое Алекс получал от собственной еды. Она ела с тем особым сочетанием грации и жадного голода, которое он раньше видел у кошек. Ее медлительный, теплый розовый язык облизнул левый и правый уголки рта, почистил губы. Джоанна улыбалась, когда открыла глаза, чтобы взять второй кусок торо. Алекс произнес:
— Джоанна...
Она ответила:
— Да?
Он поколебался, а затем сказал:
— Ты красивая.
Это было не все, что он хотел сказать, и не все, что она хотела услышать от него. Она мысленно ухмыльнулась. Они допили чай и заказали другие виды суши из темно-красного постного тунца, кроваво-красных моллюсков акагаи, из щупальцев осьминога, из бледных креветок и икры. Между блюдами они жевали кусочки имбиря. Каждое суши состояло только из двух кусков, но Алекс и Джоанна ели медленно и от души, пробуя разные виды, а затем возвращаясь к понравившимся. (В Японии, объяснила Джоанна, сложная система этикета, жесткий кодекс поведения и обычай почти исключительной вежливости, — все это вносит свой вклад в сотворение особой чувствительности к иногда множественным значениям языка. Двухкусочковый метод подачи суши был одним из примеров такой чувствительности. Ничто из того, что можно было нарезать кусочками, никогда не подавалось в количестве одного или трех кусков, потому что один кусок был "хито кире", что также означало "убивать", а три куска было "ми кире", что также означало "убивать себя". Поэтому никакая еда в кусочках не могла быть представлена к потреблению в одном из этих количеств. Это было бы оскорблением покупателя и к тому же безвкусным напоминанием о неприятных вещах.) Итак, они ели суши, и, наблюдая за Джоанной, Алекс хотел ее все больше и больше. Они все время разговаривали, шутили с Тошио, а когда покончили с едой, слегка развернулись друг к другу, так что их колени соприкоснулись. Они жевали кусочки имбиря, и Алекс хотел ее. Он обливался потом, и не только потому что васаби в лепешечках суши был очень горячим. Это желание, эта надобность, как заноза, сидели в нем. Но этот жар, эта боль были такими желанными, такими стремительными, говорящими так о многом. Восхитительная боль.
Белые лица. Яркие губы. Глаза сильно подведены черной тушью. Сверхъестественные. Эротичные.
Нарядные кимоно. Мужчины одеты в темные цвета. Другие мужчины одеты как женщины — в яркие цвета, в париках, застенчиво передвигаются мелкими шажками.
И нож.
Огни гаснут. Внезапно сквозь тьму пробивается луч света.
В нем появляется нож, трепещущий в бледной руке. Нож резко опускается.
Ярко вспыхивает свет, расцвечивая все вокруг.
Убийца и его жертва связаны этим лезвием — пуповиной смерти.
Убийца поворачивает нож один, два, три раза, с ликующей свирепостью изображая из себя повивальную бабку этой смерти.
Зрители безмолвно, с благоговением наблюдают за сценой.
Жертва вскрикивает, отшатывается назад. Он произносит последние слова. Затем все действие завершается его падением.
Джоанна и Алекс стояли в темноте у самого выхода из зала.
Обычно в Токио, в театрах кабуки требовались заранее купленные билеты, но Джоанна знала менеджера этого театра.
Представление началось в одиннадцать часов утра и не закончится до десяти часов вечера. Как и другие постоянные посетители, Джоанна и Алекс остались только на один акт.
Кабуки был квинтэссенцией японской культуры, сущностью драматического искусства. Игра в высшей мере была стилизована. Все эмоции преувеличены. Сценические эффекты тщательно продуманы и ослепляли своим великолепием. Но в итоге, подумал Алекс, получалось нечто очень красочное и острое. В 1600 году женщина по имени О-Куни, служительница одной из усыпальниц, организовала труппу танцоров и представила постановку на берегах реки Камо в Киото. Так появился театр кабуки. В 1630 году правительство, пытаясь "улучшить нравы", запретило женщинам появляться на сцене. В результате этого появились "ояма" — актеры-мужчины, специализирующиеся на женских ролях в спектаклях кабуки. Со временем женщинам снова разрешили выходить на сцену, но к тому времени традиция чисто мужского кабуки уже твердо устоялась и считалась нерушимой. Несмотря на архаический язык, которого большинство зрителей не могло понять, и на неестественные ограничения, налагаемые трансвестизмом, популярность кабуки никогда не увядала, хотя бы потому что он представлял великолепное зрелище. Жизненность этого искусства была в большей степени свойственна тому, что оно исследовало, — комическому и трагическому, любви и ненависти, прощению и мести. В пьесах древних авторов эти чувства были больше и ярче, чем в жизни.
"Чувства универсальны", — думал Алекс, когда смотрел пьесу. Он понимал, что эта мысль не нова, но было в ней что-то такое, о чем он никогда не размышлял. Он вдруг осознал, что подтекст ее был ошеломляющим. Чувства изменялись не от города к городу, не от страны к стране, не от года к году и не от века к веку. Раздражители, на которые реагировало сердце, постепенно менялись по мере того, как человек взрослел. Ребенок, молодой человек и взрослый неодинаково воспринимают те же самые проявления радости и печали. Но эти чувства идентичны в каждом из них, потому что чувства сотканы так, чтобы образовывать одну истинную материю жизни, всегда и без исключения, материю с одним-единственным узором.
Внезапно, посредством кабуки, Алекс Хантер достиг понимания двух ценных истин.
Во-первых, если эмоции универсальны, тогда, в некотором смысле, он не был одинок, никогда не был одинок раньше и никогда не смог бы быть одиноким. Будучи ребенком, съеживающимся под тяжелой рукой пьяных родителей, он существовал в отчаянии, потому что представлял себя мальчиком в пузыре, запечатанном и пущенном плыть по воле волн за пределы понимания общества; мальчиком, плывущим вне нормального потока времени. Но теперь он осознал, что никогда не был действительно одиноким. Каждый вечер, когда его бил отец, другие дети во всех уголках мира страдали вместе с Алексом как жертвы своих больных родителей или чужих людей, и вместе они выдерживали. Они были братьями. Никакая боль или счастье не были единственными в своем роде. Все чувства вытекали из общего бассейна — огромного озера, из которого пило все человечество. И (он мог видеть это, видеть так ясно) через все это озеро тянулись сети жизненного опыта, невидимые, но тем не менее материальные нити, связывавшие всех пьющих друг с другом, так что все расы, религии, национальности и индивидуальности становились одним неделимым. Поэтому было не важно, какое расстояние разделяло его и его друзей, его и его возлюбленных, он никогда не подвергнется полной изоляции. Нравилось ему или нет, но жизнь подразумевает эмоциональное участие, а это участие значило рисковать.
Во-вторых, он увидел, что если эмоции универсальны и безвременны, они представляют величайшие истины, известные человечеству. Если миллионы и миллионы людей, в дюжине различных культур независимо доходили до той же самой идеи любви, то, значит, нельзя отрицать ее существование.
Громкая, драматичная музыка, сопровождавшая убийство, теперь начала утихать.
На огромной сцене один из "женщин" вышел вперед, чтобы обратиться к аудитории.
Музыка затрепетала и угасла с первыми словами оямы.
Джоанна взглянула на Алекса.
— Нравится?
— Да. Чудесно. В этом что-то есть. В самом деле что-то.
Они прошли в бар, где владелец обратился к ним по-английски только с тремя словами:
— Только по-японски, пожалуйста.
Джоанна быстро заговорила по-японски и убедила его, что, если не по рождению, то умом и сердцем, они были привержены местным традициям, и он, улыбаясь, приветствовал их.
Они взяли сакэ, и Джоанна сказала:
— Дорогой, не надо пить так, как ты.
— Я делаю что-нибудь не так?
— Не надо держать чашку в правой руке.
— Почему нет?
— Считается, что это признак того, что ты большой и безудержный пьяница.
— Может быть, я и есть большой и безудержный пьяница.
— Да, а ты хочешь, чтобы все знали об этом?
— Так мне держать чашку только в левой руке?
— Правильно.
— Вот так?
— Да.
— Я чувствую себя этаким неотесанным варваром.
Она подмигнула ему и, улыбнувшись, произнесла:
— Со мной ты можешь пользоваться обеими руками.
Они пошли в Нихигеки Мюзик-холл на часовое представление, являвшее собой смесь водевиля и эстрадного представления. Комедианты рассказывали непристойные анекдоты, некоторые из которых были довольно забавными, но Алекс больше ободрялся видом смеющейся Джоанны, нежели тем, что говорили актеры. Между действиями спектакля девушки в ярких откровенных костюмах танцевали плохо, но с большим энтузиазмом и энергией. Большинство хористок были захватывающе красивы, но в глазах Алекса, по крайней мере, ни одна из них не была так очаровательна, как Джоанна.
Вернувшись в отель, в их номер, Джоанна позвонила и заказала бутылку французского шампанского и подходящие, не очень сладкие пирожные. Все это принесли упакованным в красивый красный лакированный деревянный ящичек.
Они переоделись в пижамы. Она надела пижаму из черного шелка с красными полосками на манжетах и воротничке.
По ее предложению Алекс открыл шторы и подтащил диван к низким окнам. Они сидели рядом и смотрели на Токио, пока пили шампанское и закусывали печеньем с миндалем и грецкими орехами.
Вскоре после полуночи часть неоновых огней в Гинзе начала гаснуть.
— Японская ночная жизнь может быть очень неистовой, — сказала Джоанна, — но она сворачивается очень рано по западным меркам.
— А мы будем? — спросил Алекс.
— Мы будем что?
— Мы будем сворачиваться?
— Мне не хочется спать.
— Шампанское не действует?
— Оно бодрит.
— Ты напоишь меня, что я окажусь под столом.
Она плутовато улыбнулась.
— Да? А когда мы там окажемся, что будем делать?
Он хотел ее, он страстно желал ее. Он жаждал узнать вкус ее губ, ласкать ее кожу и чувствовать нежное трение ее тела. Он хотел раздеть ее, и целовать ее груди, и скользнуть глубоко внутрь ее. Но вместо всего этого он сказал:
— Нам надо будет встать в шесть часов.
— Но мы не встанем.
— Встанем, если хотим успеть на самолет.
— Нам не надо будет вставать в шесть часов, если мы не будем ложиться спать. Мы можем поспать завтра в самолете.
— И что же тогда мы будем делать сейчас? — спросил Алекс.
— Молча сидеть здесь в ожидании рассвета.
— Считается, что это романтично?
— А ты так не думаешь? — спросила Джоанна.
— Скучно.
— Все это время мы будем пить шампанское.
— Одну бутылку нам не растянуть так надолго.
— Так закажем другую.
— Обслуживание номеров закрылось еще несколько минут назад.
— Тогда мы будем просто разговаривать, — сказала Джоанна.
— Ладно. О чем?
Она повернулась к нему лицом. Ее глаза были безумно синие.
— Мы будем говорить о том, что мы хотим сделать.
— В Англии?
— Нет.
— С нашими жизнями?
— Нет.
— О положении дел в мире?
— Кто может здесь что-нибудь изменить?
— Тогда о чем?
Джоанна скользнула к нему. Она была такая теплая.
Алекс обнял ее.
— Мы будем говорить о том, что хотим сделать друг с другом, — произнесла она.
Она коснулась губами его горла. Не то, чтобы она поцеловала его. Не совсем так. Казалось, она проверяла страсть в артерии, которая вздулась и пульсировала на его шее.
Он повернулся к ней, сделал движение навстречу, и они сильно прижались друг к другу, живот к животу. Ее груди приятно расплющились о его грудь. Он целовал ее лоб, ее глаза.
— Пожалуйста, — сказала она.
Ее нежный рот открылся под нажимом его, и на некоторое время весь мир сжался до четырех губ, двух языков и теплого, влажного вкуса миндаля и шампанского.
Его руки бродили по ней. Под черным шелком она была чудесно гладкая и твердая.
— Пожалуйста, — произнесла она. — Пожалуйста, Алекс.
Он встал, нагнулся и сгреб ее. Она казалась невесомой, а он чувствовал себя так, как будто мог поднять горы.
Она прильнула к нему. Ранимость, отразившаяся в ее ясных глазах, тронула его сердце.
Он отнес ее в свою спальню и положил на кровать. Медленно, с любовью, раздел ее.
Единственным светом в комнате был только тот, что шел из гостиной через открытую дверь. Бледный, как лунный свет, он падал на кровать широкой полосой. Обнаженная, она лежала в этом потустороннем сиянии, слишком красивая, чтобы быть настоящей. Неземная.
Алекс быстро сбросил свою пижаму, вытянулся рядом с ней и обнял ее. Мгновение кроватные пружины хранили гробовое молчание, затем сквозь тени пронесся снова легкий шорох мольбы.
Они целовались и ласкали друг друга.
Какое-то время он слышал ее сильное сердцебиение, а может быть, это было его собственное сердце.
Он благоговейно покрывал ее поцелуями. Отпрянув от нее, он снова и снова принимался целовать ее уши и горло, ее обнаженные плечи, тонкие руки и пальцы. Он целовал ее желанные груди и нежно облизывал ее соски, ставшие такими твердыми, набухшими и немного солоноватыми. Он целовал ее упругий втянутый живот, целовал ее бедра, и колени, и каждый палец на ногах. Он раздвинул ее длинные ноги и стал покрывать поцелуями внутренние части ее бедер, и колени, и, наконец, он поцеловал ее влажный клитор, ее нежные складки, снова и снова он целовал ее центр, скрытый ими.
Она положила руки на эту почтительную голову и запустила пальцы в его волосы, безмолвно побуждая его продолжать, выгибая спину и приподнимаясь навстречу ему.
Алекс жаждал ее. Она была такой чудесно теплой. Такой свежей. Такой трепещущей. О, это желанное тело. Эта самая желанная женщина. Нежная... такая нежная... как танцующие бабочки. Он жаждал ее, но не с похотью. С кристально чистым желанием он страстно стремился обладать ею и принадлежать ей, узнать ее, насколько это было возможно, и выдержать ее испытующий взгляд, доверять и знать, что тебе доверяют, нежно любить и быть любимым.
Прерываемое негромкими возбужденными стонами, ее дыхание участилось и стало неровным.
— О, Алекс!
Он целовал и целовал.
Поскуливая от удовольствия, Джоанна снова и снова повторяла его имя и вдруг вскрикнула, не выдержав любящего удара его языка.
Когда она приподнялась над кроватью, он просунул под нее руки и сжал ее ягодицы, придвинул ее к себе, непреклонно настаивая на тайном поцелуе. Она задрожала в преддверии, но он упорно сопротивлялся. Она билась и металась и, наконец, со вздохом облегчения откинулась на спину.
Его рот продолжал жадно двигаться вверх через треугольник жестких волос, через живот, на минуту или две задержался на грудях, затем продолжил свой путь наверх. Добравшись до горла, он произнес ее имя.
Она улыбнулась. Улыбающаяся Мадонна.
Он поцеловал ее в губы, которые были чувственно влажные и расслабленные.
Ее глаза томно блестели, а волосы в призрачном свете казались серебристыми.
Она пробралась между его ног и взяла его в руки.
— Хочет немного попрыгать. Да он ведь нетерпеливый зверь?
Алекс рассмеялся.
— Не зверь.
— О, нет. Настоящий зверь.
— Не в твоих руках.
— А что же в моих руках?
— Всего лишь щенок, страстно желающий порыться в тебе.
Джоанна тоже засмеялась.
— Нет, зверь.
— Ну, как скажешь.
— Но я приручу его.
— Так уж ему суждено, — произнес Алекс.
— Всегда быть ручным.
— Да.
— Бедняжка.
— Счастливчик.
— Ему нравится быть ручным.
— Он любит быть ручным. Неоднократно.
Алекс навис над ней, опираясь на руки, и она ввела его.
— Сейчас, — произнесла Джоанна. — Милый Алекс. Милый, милый, милый, Алекс. Сейчас...
Он закрыл глаза, потому что боялся, что ее вид слишком ускорит весь процесс. Но с закрытыми глазами он представлял, как его член двигался внутри ее, как если бы он был таинственной рыбой, скользящей сквозь теплое, темное, студенистое море.
Он наполнил ее и эмоционально, и сексуально. Никогда она не чувствовала себя такой ожившей. Она взрывалась. Она закидывала на него ноги и представляла существо о двух спинах, и едва сдерживала крик.
Он хотел удерживаться до тех пор, пока ее собственное неистовство не стало так велико, как и его собственное, пока он не мог уже больше терпеть. Но на этот раз он обнаружил, что сдерживать себя почти невозможно. Он почувствовал, что это не просто две столовые ложки спермы, хотевшей вырваться из него. Это было нечто большее, много большее. Стремительный поток сдерживаемых страхов, ужасных воспоминаний и годы вырвутся из него вместе со спермой. Он очистится первый раз в жизни. Это не было просто половым актом. Это было омоложением, более того — перерождением, чем-то вроде реинкарнации.
Любовь существовала.
Любовь была реальностью.
И он обрел ее.
Он долго искал свою новую душу, которая теперь была в нем.
Ее руки быстро путешествовали по нему, пробуя напряжение мышц его рук, плеч, спины.
Он вонзался в нее с одинаковой силой и нежностью, и она почувствовала себя растворившейся в нем.
— Я люблю тебя, Джоанна.
Она едва ли могла слышать его. Он произнес эти слова тихо, как будто боялся, что она услышит их.
— Я люблю тебя, дорогой, — произнесла она.
— Я и подразумеваю это. Я могу сказать именно то, что подразумеваю.
— Я тоже, — сказала она.