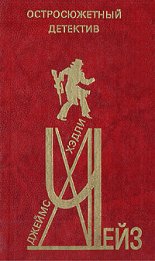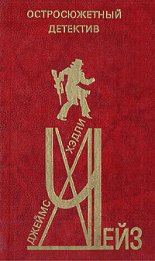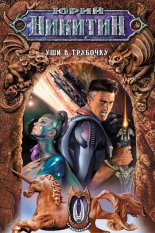Ключи к полуночи Кунц Дин

— Позвольте мне посмотреть.
— Они требуют кое-каких разъяснений.
— Каких разъяснений? Это фотографии моей дочери. Я знаю, кто она. Я... — Вдруг он остановился. От жуткого страха слова застряли в горле. Он закрыл глаза. Во рту было сухо. — Она... с ней что-нибудь случилось... мертва?
— Ну, нет, — сказал Петерсон. — Нет, нет. Ничего такого, дорогой Том.
— Это действительно так?
— Конечно. Если бы было иначе, я не стал бы придерживать такие новости, ни за что на свете.
Это заверение вернуло гнев обратно. Шелгрин открыл глаза и сухо произнес:
— Тогда что же все это значит?
— Сначала я дам вам немного времени остыть, — сказал Петерсон.
— Я не нуждаюсь в этом!
— Если бы вы могли слышать себя, дорогой Том, вы не сказали бы этого.
Шофер замедлил "Мерседес", свернул налево в узкий переулок и снова нажал на газ. Казалось, он не понимал или совсем не интересовался тем, что происходит на заднем сиденье.
Наконец, Петерсон достал свой дипломат, стоявший около него со стороны дверцы, положил его на колени, открыл и вытащил папку, в какой обычно были фотографии Лизы.
Шелгрин потянулся за ней.
Но Петерсон не собирался отдавать папку. Он сказал:
— В этот раз донесение устное, потому что оно слишком сложное и важное, чтобы его можно было изложить на бумаге. Я не изменил процедуру без вашего разрешения, дорогой Том. Мне пришлось так сделать только сегодня, всего один раз, потому что это особый случай. Своего рода кризис.
Шелгрин раздраженно произнес:
— Да что вы говорите? Только один раз? Ну, так почему же вы не сказали об этом сразу?
Петерсон улыбнулся. Его пухлая рука легко переместилась на плечо Шелгрина.
— Дорогой Том, вы не дали мне такой возможности.
Петерсон открыл папку. В ней лежали несколько фотографий восемь на десять дюймов. Он передал верхнюю Шелгрину.
Фонарик лежал между ними на сиденье. Сенатор взял его и включил.
На фотографии Лиза и довольно привлекательный мужчина сидели на скамейке у выхода с какой-то рыночной площади.
— С кем это она? — спросил Шелгрин.
О, вы знаете его.
Сенатор держал фонарик под углом, чтобы свет не отражался от глянцевой поверхности. Он нагнулся поближе и вгляделся в черно-белое лицо.
— Усы... что-то в нем знакомое...
— Вам надо вернуться немножко назад, — сказал Петерсон. — Вы не виделись с ним семь или восемь лет, может, даже дольше.
Внезапно Шелгрин почувствовал, как будто какая-то невидимая, сверхъестественная тварь схватила его сердце острыми когтями.
— А, а, нет. Этого не может быть. Он?
— Это он, дорогой Том.
— Тот сыщик.
— Хантер.
— Алекс Хантер. Господи!
— Ему надоело его дело и Чикаго, — сказал Петерсон, поэтому каждый год он берет отпуск на пару месяцев. Прошлой весной он ездил в Бразилию. А две недели назад приехал в Японию. И в Киото.
— И в "Прогулку в лунном свете", — произнес Шелгрин. Он не мог оторвать взгляда от фотографии, потому что для него она перестала быть всего лишь изображением и превратилась в зловещий знак, предвещающий беду. Эта фотография стала воплощенной опасностью, сконцентрированной в его руках. — Но почему Хантер из всех мест выбрал именно это? Вероятность случайности — один случай из миллиона.
— Я от всей души хотел бы биться об заклад, что это так, — согласился Петерсон.
Толстяк дожевывал остатки леденцов, и это звучало так, будто он грыз косточки какого-то небольшого животного, например, птицы.
— Но мы вне подозрений, — обеспокоенно произнес сенатор. — Разве мы не вне подозрений? Я хочу сказать, что даже в том случае, если Хантер заметил некоторое сходство между Джоанной Ранд и девушкой, которую он разыскивал много лет назад...
— Похоже, он узнал ее с первого взгляда, — сказал Петерсон.
— Да? Ну, тогда... ну, да, пожалуй, это проблема. Но у него нет доказательств...
— Да нет, у него вполне хватает доказательств, — произнес Петерсон со зловещей ноткой в голосе, эхом многократно повторившемся в уме сенатора, да и в его плоти тоже, подобно тому, как звон гигантского колокола еще дрожит некоторое время в воздухе после того, как был извлечен звук. — Хантер уже вдребезги разбил эту иллюзию. Он взял отпечатки пальцев Джоанны и сравнил их с Лизиными. Он подтолкнул ее к мысли позвонить в Лондон в Объединенную Британско-Континентальную страховую ассоциацию. И это кое-кого там очень расстроило, если можно так выразиться. Он также отвел ее к психоаналитику, который практикует лечение гипнозом. Этого человека зовут Оми Инамури. Он — дядя ее подруги Марико. Мы прослушивали приемную Инамури, и, могу вам сказать, нам не понравилось то, что мы слышали. Нам это ничуть не понравилось, дорогой Том. Инамури удалось узнать много больше, чем, мы думали, было возможно. Фактически, они знают все, за исключением наших имен и зачем мы это сделали.
— Но почему Хантер не связался со мной? Я был его клиентом. Я заплатил ему до черта денег, чтобы он нашел ее. Или вы полагаете, что, когда он случайно встретил Лизу...
— Он не связался с вами, так как подозревает, что вы замешаны в том, что привело ее в Японию под новым именем, — сказал Петерсон. — Хантер думает, что вы наняли его прежде всего для того, чтобы выставить себя в благоприятном свете, чтобы вы смогли сыграть роль убитого горем отца, — и все это ради политики. А это, разумеется, так и есть.
Темное небо прорезала молния, оставив просвет в толстом слое облаков. На секунду вспышка осветила местность, выделяя силуэты голых черных деревьев.
В следующее мгновение пошел дождь. Крупные капли забарабанили о ветровое стекло.
Шофер уменьшил скорость и включил дворники.
— Что Хантер собирается предпринять? — спросил сенатор. — Пойдет к газетчикам?
— Пока нет, — сказал Петерсон. — Он вычислил, что если бы мы хотели навсегда избавиться от девушки, то могли бы убить ее задолго до этого, и он также понимает, что после всех затраченных нами усилий, чтобы создать этот обман, мы намерены сохранить ее живой почти любой ценой. Он хочет продвинуться в расследовании этого дела как можно дальше, прежде чем рискнет обнародовать его в прессе. Он знает, что скорее всего мы не будем церемониться и попытаемся убить их, но только в том случае, если они пойдут в газету с фактами, о которых они узнали. Но прежде, чем он осмелится на это, Хантер хочет убедиться, что знает большую часть истории.
Сенатор нахмурился.
— Мне не нравится весь этот разговор об убийстве.
— Дорогой Том, я имел в виду не Лизу! Не вашу дочь. Конечно, нет! За кого вы меня принимаете? Я же не чудовище какое-нибудь. Она мне тоже не безразлична. Она мне почти как родной ребенок. Любимое дитя... Другое дело — Хантер. В нужный момент его надо будет убрать. И этот момент скоро наступит.
Шелгрин лихорадочно искал, как бы поставить этого толстяка в невыгодное положение.
— Все, что случилось, — ваша вина. Вам следовало его убить, как только вы узнали, что он собирается в Киото.
Петерсона не смутило это обвинение.
— Мы не знали, что он собирается туда, пока он не оказался там. Мы не следили за ним. Не было причин. Много воды утекло с тех пор, как он расследовал исчезновение Лизы. Мы даже не были уверены, узнает ли он ее. И мы рассчитывали, что она будет держать его на расстоянии, — как она и была запрограммирована.
— Что мы будем делать с ней, после того как устраним Хантера? — спросил сенатор.
Петерсон переместил свое грузное тело в поисках более удобного положения, что всегда исключали его толстые ляжки, огромный зад и внушительный живот. Пружины сиденья жалобно заскрипели.
— Конечно, она больше не может жить как Джоанна Ранд. С этой жизнью она покончила. Мы полагаем, что самым лучшим для нее будет отослать ее домой.
Эти три последних слова спустили с цепи страх, который жил в Томе Шелгрине. "Отослать ее домой, отослать ее домой, отослать ее домой, отослать ее домой". В его голове эта фраза звучала снова и снова, как ритмичный шум работающей машины. Это была та же самая угроза, которую он использовал, чтобы получить преимущество перед шофером желтого "Шевроле". И теперь от этого совершенно неожиданного и жуткого поворота событий он почувствовал слабость и головокружение.
Он притворился, что не понимает толстяка.
— Отослать ее обратно в Иллинойс?
Петерсон пристально посмотрел на него.
— Дорогой Том, вы же знаете, что я не это имел в виду.
— Но это для нее дом, — сказал Шелгрин. — Иллинойс или, возможно, Вашингтон. — Он отвел глаза от толстяка, посмотрел вниз на фотографию, а затем за окно в дождливую ночь. — То место, куда вы хотите ее отослать... это ваш дом и мой, но не ее...
— В Японии ей тоже не место.
Сенатор ничего не сказал.
— Мы отошлем ее домой, — произнес Петерсон.
— Нет.
— Это самый лучший вариант.
— Нет.
— О ней будут хорошо заботиться.
— Нет.
— Дома, дорогой Том, у нее будет все самое лучшее.
— Бред.
— Там она будет счастлива.
— Нет, нет, нет! — Шелгрин почувствовал, как кровь приливает к его лицу. Его уши стали пунцовыми. Он уронил фотографию, его правая рука судорожно сжимала фонарик, а левая была сжата в кулак. — Этот же чертов аргумент вы приводили и на Ямайке много лет назад. И тогда мы договорились — раз и навсегда. Я не позволю вам отослать ее домой. Забудьте от этом. Все. Конец дискуссии.
— Но почему вы так против этого? — спросил Петерсон. Он был слегка удивлен.
— Тогда я буду всецело у вас в руках.
— Дорогой Том, да вы и так у нас в руках, независимо от того, где находится ваша дочь. Вы знаете это. Япония, Таиланд, Греция, Бразилия, Россия. Где бы она ни находилась, мы можем сломить ее, сокрушить или использовать так, как пожелаем, поэтому вы — у нас в руках.
— Если вы отошлете ее домой, я ни черта не буду делать для вас, никогда в жизни. Понимаете?
— Дорогой Том, почему вы хотите все повернуть так, что мы будем вынуждены держать вашу дочь как заложницу, чтобы быть уверенными, что вы будете сотрудничать с нами?
— Это смешно, — неуверенно произнес Шелгрин. — Не стоит вам так поступать.
— Ага, но мы так сделаем. Но нам придется так сделать. Для нас это вполне приемлемо. А что здесь такого? Разве вы и я не в одной команде? Разве вы и я играем не в одни ворота?
Шелгрин выключил фонарик и стал смотреть на пробегающие за окном темные окрестности. Ему было неловко. Как бы ему хотелось, чтобы в машине было еще темнее, чтобы этот толстяк совсем не мог видеть его лица.
— Разве мы не в одной команде? — повторил Петерсон свой вопрос.
Даже в тусклом свете извне сенатор мог разглядеть, что толстяк улыбается. Скорее ухмыляется, чем улыбается. Отличные белые зубы. Они кажутся очень острыми. Это был голодный оскал.
Шелгрин прочистил горло.
— Это как-то... отослать ее домой... Ну, это же совершенно чуждый для нее образ жизни. Она родилась и выросла в Америке. Она привыкла пользоваться определенными... свободами.
— Дома она была бы свободна, — сказал Петерсон. — У нее была бы очень высокая степень свободы, со всеми вытекающими отсюда привилегиями.
— Ни одна из которых не может сравниться с тем, что она может иметь здесь.
— Дома все пойдет к лучшему.
— Да? А когда вы там были в последний раз?
— Но я в курсе всех событий. Я знаю обо всем от надежных людей.
— Нет, — сказал Шелгрин. Он был непреклонен. — Она не сможет адаптироваться. Нам придется переселить ее куда-нибудь в другое место. Это окончательное решение.
Петерсон был восхищен бравадой Шелгрина, возможно, потому что знал, что она была всего лишь пустым звуком; что это всего лишь скорлупа, за которой нет никакой реальной силы; что это не более, чем показная храбрость ребенка, идущего ночью через кладбище. Он мелко захихикал. Хихиканье быстро перешло в настоящий смех. Он потянулся к Шелгрину, схватил его чуть выше калена и слегка сжал, но тот был раздражен и не понял этого жеста. Видя враждебность там, где ее не было, сенатор напрягся под этой тяжелой рукой и попытался вырваться. Такая реакция развеселила толстяка. Видя, что сенатор чувствует себя, как кошка на изгороди, на которую с двух сторон бросаются лающие собаки, Петерсон смеялся в полный голос и сдавленным смехом, кудахтал и издавал неприятные звуки, похожие на крики осла, брызгал слюной и извергал клубы терпко-ромового запаха, пока не начал задыхаться. Петерсон перевел дыхание и продолжал издавать только слабые серии смешков, а Шелгрин прямо кожей чувствовал, как большое лунообразное лицо толстяка становится красным от напряжения.
— Хотел бы я знать, что вас так рассмешило, — произнес он.
Наконец, Петерсон взял себя в руки и вытер лицо носовым платком.
Пока сенатор с беспокойством ожидал, что ответит толстяк, шум дождя снаружи, казалось, на минуту стал громче. Этот звук проникал до самых костей.
— Дорогой Том, почему бы вам не согласиться?
— Согласиться с чем?
— Что мы оба знаем правду.
— Что еще за правду?
— Ужасную, прекрасную правду. Вы не хотите, чтобы Лиза вернулась домой в матушку-Россию, потому что вы больше не верите в идею, которую мы отстаиваем. Фактически, вы пришли к тому, что стали презирать нашу философию.
— Вздор.
— Вы больше уже не тот русский, каким были. Теперь вы уже совсем не коммунист. Вы перебежали на другую сторону — перебежали морально, но пока еще не на деле. Вы все еще работаете на нас, потому что у вас нет выбора, и вы ненавидите себя за это. Хорошая жизнь здесь завлекла вас. Если бы вы могли, вы бы полностью порвали с нами и выгнали нас из своей жизни после всего того, что мы для вас сделали. Но вы, конечно, не можете. Вы не можете так поступить, потому что мы, обрабатывая вас, действовали как предприимчивые капиталисты. Мы взяли в заложницы вашу дочь. У нас есть закладная на вашу карьеру. Ваше состояние построено на кредите, который мы дали вам. И мы имеем очень существенную — я бы сказал, чудовищную — закладную на вашу душу.
Сенатор все еще был насторожен.
— Я не знаю, откуда у вас такие представления обо мне. Я привержен пролетарской революции и народному государству каждой частичкой души и тела, как и тридцать лет назад.
Это заявление вызвало у толстяка еще один приступ смеха.
— Дорогой Том, будьте откровенны со мной. Я же откровенен с вами. Мы знаем вас вот уже пятнадцать лет! Или даже двадцать. Фактически, мы знали об этой перемене в вас еще до того, как вы осознали ее сами. Мы поняли, что ваша личина — это не совсем личина. Но это нас не особо беспокоит. Право же, не стоит беспокоиться. Мы не собираемся казнить вас только потому, что вы купились этой жизнью. Вас не задушат, дорогой Том, не будет выстрела в ночи или ада в вине. Вы все еще очень ценное имущество. Вы все еще отвечаете нам и только нам. Вы все еще переправляете нам много ценной информации, хотя теперь по несколько иным причинам, чем когда мы только пускались в эту авантюру. Тогда вами двигали идеализм и русский патриотизм. Теперь — прагматизм. Для нас — никакой разницы.
Сенатор почувствовал себя так, будто на него вылили ушат холодной воды.
— Ну, хорошо, тогда будем честны до конца. Вы правы. Я изменился. Каждый день я молюсь, чтобы та помощь, которую я вам оказываю, никогда не была достаточной. Я не хочу, чтобы вы победили в этой битве. Мне приходится делать то, что вы хотите, потому что, как вы точно подметили, у вас есть закладная на мою душу, но я молю Бога, чтобы в тех бумагах, что я переправляю вам, не оказалось ничего действительно важного. Я молюсь, чтобы там не было ничего ценного, ничего жизненно важного, никакой технической информации, которая могла бы продвинуть вперед советские исследования в области вооружения и ракетной техники или ваши космические программы. Я надеюсь, что содержание той макулатуры, которую я посылаю, в основном, вам уже знакомо. Я надеюсь, что те краткие отчеты о Госдепартаменте и Белом Доме никогда не дадут вам ни малейшего преимущества за столом переговоров. Я молюсь, честно, искренне молюсь, я клянусь, что делаю так. Теперь я даже не уверен, что остаюсь атеистом до сих пор, так вот, я молюсь, чтобы ничто из того, что вы получаете от меня, никогда не позволило бы вам сокрушить эту большую, суетливую, свободную, чудесную чертову страну. — Он перевел дыхание. — Вы это хотели услышать от меня?
— А, — произнес Петерсон с напускным драматизмом, — наконец-то нам удалось снять маски, которые мы носили так долго. Не правда ли, это освежает.
— Да, — сказал Шелгрин, хотя подумал, что мог бы и не говорить всего этого.
Петерсон произнес:
— Это будет освежать до тех пор, пока вы будете продолжать действовать в нужном нам направлении, несмотря на перемену в ваших взглядах.
— У меня есть выбор?
— Пожалуй, нет.
Сенатор с подозрением отнесся к этой новоявленной откровенности. В дни своей юности он любил рисковать, но с возрастом, когда скопил состояние, он стал осторожнее в выборе привычек и образа действия. Этот внезапный поворот событий растревожил его. Ему хотелось знать, есть ли в запасе у толстяка другие сюрпризы.
Дождь барабанил по крыше автомобиля. Шины шипели и свистели на мокром покрытии дороги.
— Не желаете ли посмотреть другие фотографии? — спросил Петерсон.
Шелгрин включил фонарик и взял из рук толстяка пачку снимков.
Через некоторое время сенатор спросил:
— Что будет с Лизой?
— А мы и не ожидали, что вам приглянется идея отослать ее домой, — сказал Петерсон, — поэтому у нас есть еще один план. Мы передадим ее доктору Ротенхаузену, и...
— Однорукому кудеснику?
— ...он опять полечит ее в клинике.
— Меня от него в дрожь бросает.
— Ротенхаузен сотрет всю ее память как Джоанны Ранд и даст ей новую личность. Когда он с ней закончит, мы снабдим ее всеми нужными бумагами и устроим в новой жизни в Западной Германии.
— Почему в Западной Германии?
— А почему бы и нет? Мы знаем, что вы будете настаивать на капиталистической стране с так называемыми "свободами", которые вы так лелеете.
— Я подумал, может... она смогла бы вернуться обратно?
— Обратно сюда? — недоверчиво спросил Петерсон.
— Да.
— Невозможно.
— Я не имею в виду Иллинойс или Вашингтон.
— В Штатах нет достаточно безопасного места.
— Несомненно, после всех этих лет, если бы мы изменили ей личность и поселили бы где-нибудь в Юте, или Колорадо, или, может быть, где-нибудь в Вайоминге...
— Слишком рискованно, — сказал Петерсон.
— И вы даже не будете рассматривать этот вариант?
— Правильно. Я не буду. Эта заморочка с Алексом Хантером должна дать вам ясно понять, почему я просто не могу рассматривать его, дорогой Том. Я не могу устоять, чтобы не напомнить вам, что ваша дочь могла бы быть все это время здесь, в Штатах, а не в Японии. Она могла бы вернуться сюда, после того как личность Джоанны Ранд прочно устоялась в ней, если бы только вы согласились на пластическую операцию.
Шелгрин процедил сквозь сжатые зубы:
— Я не желаю об этом говорить.
— Ваш здравый смысл затмевается вашим эгоизмом, — сказал толстяк, — вы смотрите на нее, как на свое создание, и это делает ее неприкосновенной. В ее лице есть черты и вашего собственного, поэтому вы не вынесли бы, стань ее внешность другой.
— Я уже сказал, что не намерен обсуждать этот вопрос... Он уже решен, раз и навсегда. Я не изменил своего решения и никогда не изменю его. Никакому хирургу я не позволю прикоснуться к ее лицу. Она не будет изменена таким путем.
— Глупо, дорогой Том. Очень глупо. Если бы операция была сделана немедленно после той сделки на Ямайке, Алекс Хантер не узнал бы ее на прошлой неделе. И у нас теперь не болела бы голова об этом.
— Моя дочь — одна из двух или трех самых красивых женщин, каких я когда-либо видел, — сказал Шелгрин. — Она совершенство, и я не допущу никаких изменений.
— Мой дорогой Том, скальпель хирурга не сделал бы ее безобразной! Она оставалась бы красивой. Но это была бы другая красота!
— Любые отличия сделали бы ее менее красивой, чем она есть сейчас, — настаивал сенатор. — Она совершенство. Так что забудьте об этом. Я не хочу, чтобы она стала кем-то другим.
К этому времени буря снаружи усилилась. Дождь шел сплошной стеной. Шофер был вынужден замедлить "Мерседес" настолько, что он еле продвигался вперед.
Не обращая внимания на погоду, Петерсон улыбался и удивленно покачивал головой.
— Вы удивляете меня, дорогой Том. Для меня это так странно, что вы насмерть стоите за то, чтобы сохранить ее лицо — в котором вы с готовностью видите свое, — и в то же время не чувствуете никаких угрызений совести по поводу того, что разрешили нам сделать с ее психикой.
— В этом нет ничего странного, — сказал Шелгрин, как бы защищаясь.
— Ну, как бы там ни было, но настоящая личность человека все-таки в его психике, а не в чертах лица или тела. Вы бесповоротно отвергли сравнительно простой путь изменения ее лица, но без малейших колебаний одобрили куда более глубокое вмешательство.
Сенатор не отвечал.
— Я подозреваю, — продолжал толстяк, — что вас не очень заботит "промывка мозгов", потому что интеллектуально она не похожа на своего отца. Ее политические взгляды, виды на будущее, цели, мнения, ее образ мышления, ее надежды, мечты, самая основа ее личности полностью отличаются от ваших. Более того, вам наплевать, сотрем ли мы все это. Сохранение физической оболочки Лизы — цвет ее волос, форма носа, челюстей и губ, пропорции ее тела — для вашего "я" куда важнее. Но сохранение той подлинной личности, называемой Лизой, той особенной индивидуальной структуры мозга, того уникального сочетания желаний, потребностей и намерений, так отличающихся от ваших собственных, — это вас не касается.
— Значит, вы считаете меня эгоистичным ублюдком? — произнес Шелгрин. — И что теперь? Что я, по-вашему, должен делать? Попытаться изменить ваше мнение обо мне? Просить прощения? Обещать, что больше так не буду? Что, черт вас побери, вы хотите от меня?
— Дорогой Том, позвольте мне так выразиться...
— Выражайтесь, как пожелаете.
— Я не думаю, что, когда их философия завоевала ваш ум, это было большой потерей для нашей стороны, — сказал толстяк. — И могу поспорить, что и средний капиталист не воспримет вас, как подарок.
— Если вы говорите все это к тому, чтобы сломить меня и заставить согласиться на пластическую операцию для моей дочери, то напрасно стараетесь. Давайте прекратим этот бесполезный разговор.
Петерсон негромко рассмеялся.
— У вас кожа, как у гиппопотама, дорогой Том. Вы непробиваемы.
Шелгрин ненавидел его.
Минуту или две они ехали молча.
Они ехали от пригорода к пригороду, минуя лесистые участки ландшафта и открытые поля, и только рассеянный свет на пологих холмах напоминал о дороге.
Обрывки облаков плыли высоко над головой, перпендикулярно дороге. Каждый раз, когда в небе вспыхивала молния, туман, застлавший землю, начинал резко светиться, как будто это был какой-то странный газ, используемый в лампах накаливания.
Наконец, толстяк произнес:
— Если мы попытаемся во второй раз вмешаться в память девушки, то могут возникнуть некоторые осложнения, и вам следует знать о них.
— Осложнения?
— Наш добрый доктор Ротенхаузен никогда не применял свое искусство дважды на одном и том же пациенте. Он сомневается.
— Сомневается насчет чего?
— В этот раз лечение может пойти не так успешно. Фактически, оно может плохо кончиться.
— Что вы имеете в виду? Что может случиться?
— Возможно, сумасшествие.
— Не шутите.
— Я не шучу, дорогой Том. Абсолютно, совершенно серьезен. У нее может приключиться буйное помешательство. Или она может стать невменяемой. Знаете, только сидит, тупо смотрит в пространство, "овощ", неспособный разговаривать или сам есть. А ведь все может кончиться и просто смертью.
Шелгрин долгое время задумчиво смотрел на толстяка и, наконец, произнес — Нет, я не верю. Вы все это придумываете.
— Поверьте, это правда.
— Вы придумываете это, чтобы я боялся послать ее к Ротенхаузену. Тогда моим единственным выбором останется — позволить вам отправить ее домой, чего вы и желаете.
— Я с вами откровенен, дорогой Том. Ротенхаузен говорит, что ее шансы успешно выдержать лечение не очень велики — менее пятидесяти процентов.
— Вы лжете, — произнес Шелгрин, — но все равно, даже если это и так, я выбираю Ротенхаузена. Я отказываюсь, чтобы ее отослали в Россию. Лучше видеть ее мертвой.
— Может быть, — сказал Петерсон, — может быть, вы и увидите ее мертвой или хуже.
Дождь шел с такой силой и такой плотной стеной, что Гарри, шоферу толстяка, пришлось съехать с дороги. фары не могли пробить темноту дальше, чем на пятнадцать-двадцать шагов. Они припарковались на обочине дороги, на стоянке рядом с мусорными бачками и столиками для пикников. Гарри сказал, что дождь непременно кончится через минуту или две и тогда они смогут снова отправиться в путь. Толстяк сунул в рот еще один терпко-ромовый кружочек, оттер пальцы и прямо захрюкал от удовольствия, когда леденец начал таять на языке.
Воздух в салоне "Мерседеса" был спертый, влажный и душный. Окна начали запотевать.
Шум дождя был такой громкий, что сенатору пришлось повысить голос.
— Это был просто кошмар какой-то, когда мы тайно переправляли ее с Ямайки в Швейцарию.
— Я помню все это слишком хорошо, — сказал Петерсон.
— Как вы предполагаете вывезти ее из Японии и доставить к доктору Ротенхаузену?
— Она сама облегчает эту задачу. Они с Хантером собираются в Англию, чтобы исследовать дела Британско-Континентальной страховой ассоциации.
— Когда?
— Послезавтра. У нас есть план относительно их. Мы оставим кое-какие улики, которые они не смогут пропустить. Эти улики уведут их из Лондона прямо в Швейцарию. Мы наведем их на Ротенхаузена, а когда они найдут его, мы позволим ловушке захлопнуться.
— Вы говорите так уверенно...
— О, я совершенно уверен, дорогой Том. Они не причинят нам больше беспокойства. Они всего лишь две маленькие мышки, что уже ухватились за сырную приманку в мышеловке. К субботе или воскресенью Хантер будет мертв... а ваша милейшая доченька окажется в клинике Ротенхаузена.
Глава 44
В среду днем, когда подошло время покинуть "Лунный свет" и ехать на такси к поезду, Джоанна не хотела уходить. Каждый шаг к выходу из квартиры, вниз по лестнице и через холл давался ей с большим трудом. Она чувствовала себя так, как будто переходила достаточно глубокую реку по пояс в грязи. Казалось, что даже ковер, стены, мебель пытались удержать ее. Она несколько раз останавливалась под тем или иным предлогом: то забыла паспорт, то в последнюю минуту решила надеть в дорогу другую обувь, то вдруг ощутила страстное желание попрощаться с шеф-поваром, который в это время готовил соусы и супы для вечерних посетителей. Но наконец, Алекс настоял, чтобы она поспешила, пока их поезд не ушел. Ее проволочки не были вызваны беспокойством о том, что будет с заведением в ее отсутствие. Она верила, что Марико прекрасно справится со всеми делами. И она также не беспокоилась о безопасности Марико, потому что рядом с ней круглосуточно будет охрана. Единственной причиной ее неохоты уезжать была поразительная тоска по дому, охватившая ее еще до того, как она покинула его.
Она попала в эту страну при таинственных обстоятельствах, чужая в чужой стране, и преуспела здесь. Куда бы она ни ехала, этот чудесный народ приветствовал ее с традиционным спокойствием. Она любила Японию, Киото, Гайонский квартал и "Прогулку в лунном свете". Она любила музыкальность японского языка, прямо экстравагантную вежливость японцев, радостный звук колокольчиков при богослужении, красоту храмовых танцев, разрозненные древние постройки, пережившие как войны, так и вторжение западной архитектуры; любила вкус сакэ и темпуры, восхитительное благоухание горячего коричневого камо йоршино-ни. Она была один на один со всей этой древнейшей, но в то же время процветающей и развивающейся культурой. Это был ее мир, единственное место, с которым она когда-либо гармонировала, и она ужасалась, покидая его, пусть даже временно. Однако она определенно решила не пускать Алекса одного в Англию, поэтому, обняв в последний раз Марико, последовала за ним. Когда она садилась в красно-черное такси, ее настроение было меланхолическим.
Токийский суперэкспресс был роскошным поездом с вагоном-рестораном, с великолепными удобными сиденьями и, принимая во внимание большую скорость, которую он развивал, с удивительно небольшим шумом и тряской. Джоанна хотела, чтобы Алекс сел около окна, а он настаивал, чтобы эта привилегия осталась за ней. Этот небольшой спор позабавил проводника. Алекс не стал очень уж упрямиться и занял место у окна, но никто из них не смотрел на проносящийся за окном пейзаж. Они говорили о Японии, Англии, о всякой всячине, но никто, по негласному соглашению, не произнес ни слова о "промывке мозгов", Британско-Континентальной страховой или сенаторе Томасе Шелгрине.
За четырехчасовое путешествие Джоанна открыла, что Алекс был прекрасным средством от меланхолии. Они настолько были поглощены разгадыванием тайны, в которой оказались, что она почти забыла, каким очаровательным собеседником он был. Несколько последних дней они мало о чем говорили, кроме как о запутанном клубке ее прошлого и возможных ужасах, поджидающих ее в будущем. И вот опять Джоанне предоставилась возможность заметить и оценить его чувство юмора, сочувствие, остроумие и понятливость — все те качества, которые послужили причиной тому, что она так легко влюбилась в него. Они держали друг друга за руки, и Джоанна трепетала от его прикосновения, как будто это было ее первое романтическое свидание с мужчиной. Несколько раз за то время, пока они стрелой мчались к Токио, ей хотелось наклониться и поцеловать его, пусть даже только в щеку, но такое публичное выражение чувства совершенно неприемлемо в Японии. Постепенно она расслабилась, когда поняла, что хотя Киото и был ее домом, она могла бы чувствовать себя как дома везде, только бы Алекс был рядом, и неважно, куда он поведет ее. Она хотела его больше всего на свете, как не хотела ничего и никогда.
В Токио, в отеле в западном стиле, для них был зарезервирован номер с двумя спальнями. Служащие отеля не смогли скрыть своего удивления такому наглому поведению. Мужчина и женщина с разными фамилиями, не состоящие в браке, пользующиеся одним и тем же номером и не прилагающие совершенно никаких усилий скрыть связь, в их понимании были жутко распущенными, безотносительно к числу спален в их распоряжении. Алекс не замечал поднятые брови, отмечавшие почти каждое лицо, попадавшееся им, но Джоанна заметила и стала тихонько подталкивать его локтем, пока он не понял, что все смотрят на него осуждающе. Это забавляло Джоанну, но ее непринужденная улыбка, воспринимаемая как выражение сладострастия, только портила дело. Портье даже не удостоил ее взглядом. Но, однако, им не отказали в номере. Это было бы немыслимо невежливо. Кроме того, в любом отеле Токио, обслуживающем западных туристов, портье и коридорные знали, что от американцев можно было ожидать любой наглой выходки. На десятый этаж Алекса и Джоанну сопровождали двое посыльных, которые затем распределили багаж по спальням, включили в гостиной обогреватель, открыли тяжелые портьеры и отказывались взять чаевые, пока Алекс не заверил их, что предлагает это маленькое вознаграждение только из уважения к их отличному обслуживанию и прекрасным манерам. В Японии в большинстве заведений чаевые не приняты, но Алекс, по привычке" чувствовал себя просто виноватым, если не давал их. Номер выглядел ничуть не хуже, чем любые другие двуспальные апартаменты в Лос-Анджелесе или Далласе, Чикаго или Бостоне. И только вид из окна однозначно напоминал, что они находятся в Японии.