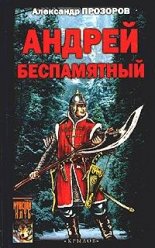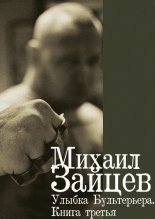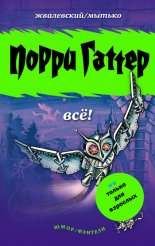Скованный ночью Кунц Дин
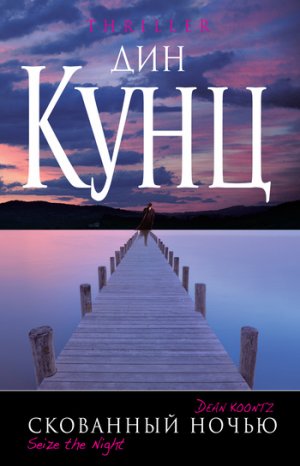
Делакруа умолк, судя по бульканью, что-то налил в стакан и отпил из него.
Мы с Бобби, как по команде, тоже припали к бутылкам.
Я подумал, есть ли пиво в этом мире красного неба и живых черных деревьев. Хотя пиво я люблю, но могу прожить без него. Однако сейчас зажатая в моей руке бутылка «Короны» казалась воплощением незатейливых удовольствий повседневного быта, всем тем, что могло быть потеряно благодаря человеческой глупости и дерзости, и я вцепился в нее так, словно она была драгоценнее бриллиантов. В каком-то смысле так оно и было.
Делакруа снова заговорил на непонятном языке. Теперь он повторял одну и ту же фразу, состоявшую из нескольких слов, а однажды вполголоса запел. И как прежде, хотя я не понимал ни слова, в этих фразах и словах мне почудилось нечто знакомое, от чего по спине бежали мурашки.
— Он то ли пьян, то ли наглотался таблеток, — сказал Бобби. — Может быть, и то и другое.
Когда я испугался, что Делакруа не сможет продолжить свои разоблачения, он перешел на английский.
«Мы не собирались посылать туда людей. Такой вопрос не стоял. Во всяком случае, не в ближайшие годы. Может быть, никогда. Но в Уиверне был еще один проект, один из многих других, и там что-то случилось. Не знаю что. Какая-то катастрофа. Я думаю, большинство этих проектов — просто машины для сжигания денег. Но в этом проекте что-то было. Большие шишки крупно наложили в штаны. Начали давить на нас и ускорять работы по „Загадочному поезду“. Они ужасно хотели заглянуть в будущее. Не говорили об этом прямо, но каждый участник проекта знал, что у них на уме. Им надо было выяснить, к каким последствиям приведет та катастрофа. Так что, против всех ожиданий, мы начали снаряжать первую экспедицию».
Снова наступило молчание.
А затем опять раздалось пение шепотом.
Бобби сказал:
— Это твоя ма, брат. Тот «другой проект», из-за которого большие шишки боялись за будущее.
— Но она не участвовала в «Загадочном поезде».
— «Поезд» был просто… разведкой. Вернее, должен был быть. Но и в нем что-то приняло дрянной оборот. И вполне вероятно, что катастрофа «Поезда» была более страшной.
Я спросил:
— Как ты думаешь, что было на той пленке? Я имею в виду летающий предмет.
— Надеюсь, что покойник еще скажет об этом.
Шепот продолжался еще пару минут, а потом Делакруа нажал на кнопку «стоп».
Когда запись зазвучала снова, Делакруа находился уже в другом месте. Качество звука было хуже; все время слышался какой-то посторонний шум.
— Мотор машины, — сказал Бобби.
Гул мотора, негромкий свист ветра, шуршание шин по асфальту: Делакруа куда-то ехал.
Его права были выданы в Монтеррее, городе, расположенном в двух часах езды к северу. Должно быть, там он похоронил тела родных.
Шепот становился громче. Делакруа тихо говорил сам с собой, и мы едва поняли, что он снова изъясняется на неизвестном языке. Бормотание постепенно умолкло.
После недолгого молчания он начал говорить по-английски, но слова звучали недостаточно внятно. Магнитофон находился слишком далеко от его рта. Он стоял либо на сиденье, либо, что более вероятно, на приборной доске.
Депрессия Делакруа вновь сменилась страхом. Он говорил быстро и тревожно.
«Я нахожусь на шоссе, еду на юг. Я вспомнил о машине, сел в нее, но… не думал, что заеду так далеко. Я облил их бензином и сжег на костре. Плохо помню, как это вышло. Не знаю, почему я… почему не убил себя. Снял с ее руки кольца. Вынул из альбома несколько фотографий, хоть и не хотел… Неважно, время еще есть. Я взял с собой магнитофон. Зачем, не знаю. Кажется, теперь я понимаю, куда еду. Да, понимаю. Вот и хорошо».
Делакруа заплакал.
Бобби сказал:
— Он теряет над собой контроль.
— Но не так, как ты думаешь.
— Что?
— Он теряет не контроль, а… что-то другое.
Мы прислушались к плачу Делакруа, и Бобби пробормотал:
— Хочешь сказать, что он теряет контроль над?..
— Ага.
— Над тем, что трепещет?
— Ага.
«Все погибли. Все участники первой экспедиции. Трое мужчин, одна женщина. Блейк, Джексон, Чанг и Ходжсон. Только один вернулся назад. Один Ходжсон. Если не считать того, что в костюме был вовсе не Билл Ходжсон».
Делакруа вскрикнул от боли, словно его ударили штыком.
За этим мучительным криком последовала пулеметная очередь ругательств; здесь были все крепкие выражения, которые я когда-либо слышал плюс не входящие ни в какие словари табуированной лексики и, очевидно, выдуманные самим Делакруа, смесь непристойностей с богохульствами. В этом потоке слов было столько злобы и звериной ярости, что я невольно отшатнулся от магнитофона.
Видимо, этот взрыв сопровождался нарушением правил дорожного движения, поскольку он прерывался гудками встречных легковушек и грузовиков.
Внезапно ругательства умолкли. Гудки стихли. Какое-то время самым громким звуком на пленке было тяжелое дыхание Делакруа. Затем прозвучало:
«Кевин, помнишь, как-то ты сказал мне, что одной науки недостаточно, чтобы придать смысл человеческой жизни? Ты сказал, что, если наука объяснит все, жизнь станет невозможной, потому что это украдет у Вселенной ее тайну. Ты сказал, что мы отчаянно нуждаемся в тайне. В тайне заключается наша надежда. Что ты веришь в это. Ну, после того, что я видел на той стороне… Кевин, я видел там столько таинственного, что ученым не объяснить этого и за миллион лет. Вселенная — намного более странное место, чем мы думали… и одновременно такое зловещее, каким оно представляется дикарям».
С минуту он ехал молча, а потом снова что-то забормотал на загадочном языке.
Бобби спросил:
— Кто это Кевин?
— Наверно, брат. Раньше он обращался к нему как к старшему брату. Думаю, этот Кевин — репортер.
Делакруа, продолжая бормотать абракадабру, нажал на кнопку. Я боялся, что завещание окажется неоконченным, но голос вернулся.
«В трансляционную капсулу закачали газ цианид. Но это не убило Ходжсона. Вернее, то, что вернулось вместо него».
— Трансляционная капсула, — сказал Бобби.
— Яйцевидная комната, — догадался я.
«Мы выкачали всю атмосферу. Капсула была гигантской вакуумной трубкой. Ходжсон был все еще жив. Потому что это не жизнь… не то, что мы имеем в виду под жизнью. Это антижизнь. Мы подготовили капсулу к новому полету, заправили ее, и Ходжсон, или как его там, вернулся туда, откуда пришел».
Он выключил магнитофон. В завещании было еще четыре пункта, и Делакруа излагал их все более сбивчиво и испуганно. Я чувствовал, что это были последние моменты, когда к нему возвращалось сознание.
«Во второй экспедиции приняли участие восемь человек. Четверо уцелели. Среди них я. Инфекции не было. Так сказали врачи. Но теперь…»
За этим последовало:
«…инфекция или одержимость? Вирус? Паразит? Или что-то более глубокое? Я носитель… или дверь? Во мне что-то есть… или оно проходит сквозь меня? Неужели меня… можно запирать… и отпирать… отпирать, как дверь?»
Затем, менее связно:
«…никогда не шли вперед… шли в сторону. И даже не понимали, что это боковая ветка. Потому что все мы давно… мы перестали думать о… перестали верить в… существование боковых веток».
И наконец:
«…надо будет выйти из машины… пойти в… но не туда, куда бы им хотелось отправить меня. Не в трансляционную капсулу. Нет, если я сумею этому помешать. Дом. В дом. Сказал ли я тебе, что они все погибли? Первая экспедиция? Когда я нажму на спусковой крючок… стану ли я закрытой дверью… или открою ее им? Сказал ли, что я видел? И кого видел? Сказал об их страданиях? Ты знаешь про мух и насекомых? Под тем красным небом? Сказал я тебе? Как я оказался… здесь? Здесь?»
Последние бывшие на ленте слова были сказаны не по-английски.
Я поднес ко рту бутылку «Короны» и только тут понял, что она пуста.
Бобби спросил:
— Брат, так это место с красным небом и черными деревьями — то самое будущее твоей ма?
— Делакруа сказал, что это боковая ветка.
— Что это значит?
— Не знаю.
— А они знают?
— Похоже, что нет, — сказал я, нажимая на пульте кнопку «перемотка».
— Мне приходит на ум несколько мерзких мыслей.
— Коконы, — догадался я.
— Думаешь, они выросли из Делакруа?
— Или «прошли» через него, как он выразился. Словно он дверь.
— Что бы это ни значило, что в лоб, что по лбу. Нам без разницы.
— Я думаю, что, если бы не было трупа, не было бы и коконов, — сказал я.
— А я думаю, что пора собирать рассерженных крестьян и идти на замок с факелами. — Тон Бобби был более серьезным, чем выбранные им слова.
Когда перемотка закончилась и прозвучал щелчок, я спросил:
— Можем ли мы взять на себя такую ответственность? Мы слишком мало знаем. Наверно, нужно кому-нибудь сообщить о коконах.
— Ты имеешь в виду полицию?
— Вроде того.
— Знаешь, что они сделают?
— Закрутят гайки, — сказал я. — Но это даст нам право взбунтоваться.
— Они не станут сжигать их. Возьмут образцы на пробу.
— Я уверен, что они примут меры предосторожности.
Бобби засмеялся.
Я засмеялся тоже, но в этом смехе было больше горечи, чем веселья.
— О’кей, свистни мне, когда начнется поход на замок. Но сначала Орсон и ребятишки. Потому что пожар помешает нам передвигаться по Уиверну.
Я вставил чистую кассету во вторую деку.
Бобби спросил:
— Хочешь сделать копию?
— Это не помешает. — Магнитофон заработал, и я обернулся к нему: — Ночью ты что-то сказал.
— Думаешь, я помню всю чушь, которую несу?
— Это было на кухне бунгало, рядом с трупом Делакруа.
— Там слишком воняло.
— Ты что-то услышал. Поднял глаза и посмотрел на коконы.
— И сказал: «Должно быть, это у меня в голове».
— Правильно. Но когда я спросил, что ты слышал, ты ответил: «Самого себя». Что ты имел в виду?
Бобби допил пиво, остававшееся в его бутылке.
— Ты положил кассету в карман. Мы собирались уходить. И тут мне показалось, что кто-то сказал: «Стой».
— Кто-то?
— Сразу несколько человек. Они сказали хором: «Стой, стой, стой».
— Моррис Уильямс и группа «Зодиаки».
— Ты мог бы быть диджеем на «Кей-Бей». Но потом я сообразил… что все они были моим голосом.
— Твоим?
— Это трудно объяснить, брат.
— Наверно.
— Я слышал их секунд восемь-десять. И даже позже… Чувствовал, что они еще говорят, но уже тише.
— Подсознание?
— Может быть. От этого мурашки по телу бегут.
— И что еще они говорили?
— Ну, во всяком случае, они не подговаривали меня принести девственницу в жертву Сатане или убить папу римского.
— Только «стой, стой, стой», — сказал я. — Как закольцованная лента.
— Нет, скорее как настоящие голоса по радио. Сначала я подумал, что они раздаются… откуда-то из бунгало.
— Ты поднял фонарь и осветил потолок, — напомнил я. — Коконы.
В глазах Бобби отражался слабый свет лампочки, горевшей внутри магнитофона. Он не отводил взгляда, но молчал.
Я тяжело вздохнул.
— Мне кое-что пришло в голову. После того как я позвонил тебе из Мертвого Города, мне стало неуютно под открытым небом. Поэтому, прежде чем позвонить Саше, я решил зайти в бунгало, где я не буду так на виду.
— И из всех домов выбрал именно этот? С телом Делакруа на кухне. И коконами.
— Вот об этом я и думаю, — сказал я.
— Ты тоже услышал голоса? Типа «входи, Крис, входи, садись, будь как дома, скоро мы вылупимся, входи, присоединяйся к компании»?
— Никаких голосов, — сказал я. — По крайней мере, тех, о которых я догадывался бы. Но едва ли я выбрал этот дом по чистой случайности. Может быть, что-то заставило меня войти именно в него, а не в дом по соседству.
— Психический вудуизм?
— Или песня сирены, которая заставляет неосторожных моряков бросаться в море.
— Это не сирены, а червяки в коконах.
— Откуда мы знаем, что там червяки?
— Уж, во всяком случае, не щенята.
— Я думаю, мы пришли в это бунгало как раз вовремя.
Бобби немного помолчал, а потом сказал:
— Такая мразь может заставить забыть о веселье весь мир.
— Ага. Я начинаю чувствовать, что мне место в школе для дураков.
Дублирование закончилось. Я положил копию на столик для записи нот, взял перьевую ручку и спросил:
— Как лучше всего назвать симпатичную песенку в стиле «нео-Баффетт»?
— «Нео-Баффетт»?
— Ее только что написала Саша. В стиле Джимми Баффетта. Южное бахвальство, беспечный взгляд на жизнь, солнце, море — но с грустным концом и выводом о необходимости учитывать реальность.
— «Текила с бобами», — предложил он.
— Годится.
Я написал это название на ярлыке и сунул кассету в пустое гнездо полки, на которой Саша хранила свои композиции. Тут было несколько десятков таких кассет.
— Брат, — сказал Бобби, — если понадобится, ты отрубишь мне голову?
— С удовольствием.
— Тогда подожди, пока я не попрошу.
— Конечно. А ты мне?
— Только скажи. Чик — и готово.
— Пока что я чувствую трепет только в животе.
— Думаю, что в данных обстоятельствах это нормально.
Я услышал громкий щелчок, несколько щелчков потише, а затем безошибочно узнаваемый скрип двери черного хода.
Бобби захлопал глазами.
— Саша?
Я прошел в освещенную свечами кухню, увидел Мануэля Рамиреса в форме и понял, что эти звуки издавал полицейский пистолет-отмычка. Мануэль стоял у кухонного стола и сверху вниз смотрел на мой 9-миллиметровый «глок». Он увидел его сразу, несмотря на недостаток света. Я положил пистолет на стол, когда Бобби огорошил меня вестью о похищении Венди Дульсинеи.
— Дверь была заперта, — сказал я Мануэлю, когда следом за мной на кухню вошел Бобби.
— Ага, — сказал Мануэль и показал на «глок». — Ты купил его законным путем?
— Это сделал отец.
— Твой отец был преподавателем литературы.
— Это опасная профессия.
— И где он его купил? — спросил Мануэль, беря пистолет.
— В магазине «Оружие Тора».
— У тебя есть разрешение?
— Будет.
— Это уже не имеет значения.
Тут открылась дверь кухни, выходившая в коридор первого этажа. На пороге стоял Фрэнк Фини, один из помощников Мануэля. На мгновение мне показалось, что его глаза подернуты желтым, как занавески на окнах, за которыми горит свет, но этот блеск исчез прежде, чем я успел убедиться в его реальности.
— В джипе Хэллоуэя найдено ружье и пистолет 38-го калибра, — доложил Фини.
— Вы что, парни, из правых экстремистов? — спросил Мануэль.
— Мы из кружка любителей литературы, — ответил Бобби. — У вас есть ордер на обыск?
— Оторви кусок бумажного полотенца, и я тебе его выпишу, — сказал шеф полиции.
За спиной Фини, в другом конце коридора, стоял второй помощник. Его фигура смутно вырисовывалась на фоне цветного витража. Полумрак мешал мне узнать этого человека.
— Как ты сюда попал? — спросил я.
Мануэль смерил меня долгим взглядом, напоминая, что он больше мне не друг.
— Что здесь происходит?
— Грубейшее нарушение твоих гражданских прав, — ответил Мануэль с улыбкой, напоминавшей рану от стилета, торчащего в животе трупа.
Глава 19
Фрэнк Фини был похож на ядовитую змею без клыков. Но клыки ему не требовались: он источал яд каждой порой своего тела. Его глаза были холодными, точными глазами гадюки, рот — щелью. Если бы из него показался раздвоенный язык, это не удивило бы даже того, кто видел его впервые в жизни. Еще до катастрофы в Уиверне Фини считался паршивой овцой в полицейском стаде и до сих пор оставался таким.
— Шеф, хотите, чтобы мы обыскали дом? — спросил он Мануэля.
— Ага. Но не устраивай погрома. Видишь ли, мистер Сноу месяц назад потерял отца. Теперь он круглый сирота. Давай окажем ему снисхождение.
Улыбаясь так, словно увидел вкусную мышку или птичье яйцо, которое могло бы удовлетворить аппетит рептилии, Фини повернулся и затопал по коридору к другому помощнику.
— Мы конфискуем все огнестрельное оружие, — сказал мне Мануэль.
— Это законно приобретенное оружие. С его помощью не совершалось никаких преступлений. Вы не имеете права отбирать его, — запротестовал я. — Я знаю свои права, предусмотренные Второй поправкой к Конституции.
Мануэль сказал Бобби:
— Ты тоже думаешь, что я нарушаю закон?
— Ты можешь делать все, что хочешь, — ответил Бобби.
— Твой свихнувшийся на серфинге дружок умнее, чем кажется, — сказал мне Мануэль.
Пытаясь проверить, насколько Мануэль владеет собой, и определить, есть ли предел чинимому полицией беззаконию, Бобби добавил:
— Любой урод и псих со значком всегда может делать, что он хочет.
— Точно, — согласился Мануэль.
Мануэль Рамирес — никак не урод и не псих — на восемь сантиметров ниже, на пятнадцать килограммов тяжелее и на двенадцать лет старше меня. В нем очень много испанского: он любит кантри, а я рок-н-ролл; он говорит по-испански, итальянски и английски, в то время как я знаю только английский и несколько латинских поговорок; он интересуется политикой, а я считаю ее делом скучным и грязным; он прекрасно готовит, а я умею только есть. Несмотря на эти и многие другие различия, оба мы любили жизнь, людей, и это делало нас друзьями.
Он много лет был патрульным полицейским, королем ночи, но когда месяц назад погиб шеф полиции Льюис Стивенсон, Мануэль занял его место. В том ночном мире, где мы встретились, Мануэль был светлой личностью, хорошим копом и хорошим человеком. Однако в последнее время Мунлайт-Бей изменился, и хотя теперь Мануэль работал днем, он продал душу ночи и стал не таким, каким был прежде.
— Здесь есть еще кто-нибудь? — спросил он.
— Нет. Я слышал голоса в холле, а затем шаги по лестнице.
— Я получил твое сообщение, — сказал мне Мануэль. — Номер машины.
Я кивнул.
— Вчера вечером у Лилли Уинг была Саша Гуделл.
— Может, это была вечеринка с секс-массажерами, — сказал я.
Мануэль вынул из «глока» обойму и сказал:
— Вы оба появились там перед рассветом. Припарковались у гаража и вошли с черного хода.
— Нам тоже понадобились массажеры, — сказал Бобби.
— Где вы были всю ночь?
— Изучали каталоги массажеров, — буркнул я.
— Ты разочаровываешь меня, Крис.
— Ты думал, что меня больше интересуют резиновые куклы для секса?
Мануэль ответил:
— Я не знал, что ты подался в гомики.
— Я человек многосторонний.
Другие ответы на его вопросы были бы расценены как проявление страха, а этого было бы достаточно, чтобы с тобой начали обращаться как с преступником. Мы оба знали, что в силу известных причин чрезвычайное положение никогда не будет объявлено, и хотя вряд ли высшие инстанции призвали бы Мануэля и его подручных к ответу, Рамирес не мог быть уверен, что его противозаконные действия останутся без последствий. Кроме того, он не был бездушным формалистом и еще сохранял остатки совести. Насмешливые реплики, которые отпускали мы с Бобби, должны были напомнить Мануэлю, что его методы незаконны и что, если он начнет давить на нас, мы будем сопротивляться.