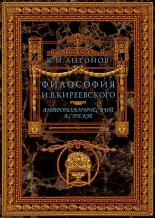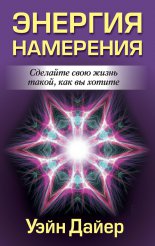Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 Юзефович Леонид

Новый язык давался ему тяжело, и вместо книги «Якутия в прошлом и настоящем», которую он, выступая на юбилейных мероприятиях, обещал написать, из-под его пера вышла только эта брошюра с ненатуральными восторгами по поводу колхозов и лесопилок. Она стала последней попыткой Строда примириться с действительностью, которая нравилась ему все меньше.
Условия для работы у него были идеальные, а денег – даже с излишком. Помимо гонораров за переиздания, ему как персональному пенсионеру РККА ежемесячно платили 200 рублей, за ордена – 80, еще 120 составляла пенсия Якутского правительства. Вдобавок Курашов, по линии ГПУ тоже перебравшийся в столицу, пристроил его на должность председателя правления артели «Топроиз» («Товарищество производителей-изобретателей»), изготавливавшей радиоаккумуляторы. Строд появлялся там редко, но в месяц получал 300–400 рублей. При таких доходах он мог жить безбедно и содержать нигде не работавшую жену-студентку. Отношения в семье были нормальные, писать ему никто не мешал, тем не менее книга «В якутской тайге» завершила его путь в литературе.
Однажды Строды всей семьей пришли в гости к родной сестре Клавдии Георгиевны, Нине, и ее мужу, Якову Ахизарову. Пока взрослые сидели за столом, семилетний Новомир играл с двоюродным братом, своим сверстником. Тогда-то Нина и услышала, как племянник заявил ее сыну: «Моему папе все нипочем. Хоть Сталин и главный, но папа его убьет».
На застолья в коммунальных квартирах нередко приглашали соседей. Непонятно, был ли в комнате кто-то еще, кроме Строда с женой, его свояченицы с мужем и их детей, но скоро супруги Ахизаровы дали показания в ГПУ.
Как выяснилось, Клавдия Георгиевна неоднократно жаловалась сестре, а та, естественно, передавала мужу, что весной 1933 года Строд запил и пьет уже полгода. Выпить он любил всегда, Байкалов не преувеличивал, говоря о его «пристрастии к спиртному», но теперь это приобрело характер хронической болезни. В писательской среде близких знакомств у него не завелось, пил он в компании военных, с Курашовым в том числе, и с сотрудниками московского представительства ЯАССР. Строд платил за всех. Он в месяц получал больше, чем Пепеляев сумел скопить за год.
Его запои легко списать на то, что не выдержал испытания славой и деньгами, но причина была не только в этом. Еще раньше, снявшись с учета в одной партийной организации, к другой он не прикрепился, не платил членские взносы, не посещал собраний и фактически выбыл из партии, что было равносильно гражданской смерти. На просьбы жены как-то исправить это нетерпимое положение Строд отвечал: «Плевать мне на партию!»
В пьяном виде он предсказывал скорый конец советской власти, оппонентов в спорах ругал «сталинскими подхалимами», кричал, что «ГПУ – та же полиция», возмущался плохим снабжением рабочих и закрытыми столовыми для начальства, при этом допускал высказывания типа следующего: «Что только думает Сталин! Наверное, он снабжается лучше, чем рабочие массы».
Или еще грубее: «Сталин не ест, наверное, того, что мы едим».
Такого рода обывательские разговоры не представляли собой чего-то экстраординарного и могли остаться без последствий, если бы Строд, державший у себя дома именной револьвер, не грозился застрелить Сталина. Нина Ахизарова знала от сестры, что, напившись, он твердит об этом с маниакальным постоянством.
После Ахизаровых в ГПУ вызвали Клавдию Георгиевну. Она всячески выгораживала мужа, но на очной ставке с сестрой вынуждена была признать, что кое-какие из приписываемых ему высказываний – правда. Лишь намерение убить Сталина она отрицала, а слова Новомира объяснила богатой детской фантазией: «Мой сын считает отца самым великим человеком на свете, я допускаю, что он такие вещи говорил. Такие мысли об убийстве Сталина могли родиться в голове мальчика, преклоняющегося перед отцом».
Оснований для ареста Строда было уже более чем достаточно. Во времена «ксенофонтовщины» он взял Ахизарова к себе адъютантом, и теперь на правах очевидца тот показал, что приказ Буды об уничтожении «бандитов» не был выполнен из-за подозрительно дружеских отношений с ними Строда, а не потому, что отряд был якобы небоеспособен. Симпатию свояка к ксенофонтовцам Ахизаров, хотя никто его за язык не тянул, совсем уж опасно увязал с тем, что видел у него троцкистскую литературу, в частности «Платформу 83-х»[42].
1 ноября 1933 года Строда арестовали и посадили в одиночную камеру следственного изолятора ГПУ.
На допросе он сказал, что, может быть, во хмелю что-то такое и говорил, но ничего не помнит.
Ему указали, что свои пьяные речи он должен знать от жены. О чем он думал, когда она потом их пересказывала?
«Я думал, – ответил Строд, – она так говорит, чтобы отвадить меня от пьянства».
Отговорка не подействовала. Припертый к стенке показаниями родственников, он все-таки вынужден был рассказать о причине своих «антисоветских настроений»: «В 1932 году я проезжал из Москвы через Сибирь на поезде. Из окна вагона, если так можно выразиться, я видел на станциях попрошаек из крестьян, слышал недовольство крестьян, ехавших вместе со мной в поезде, и приходил к выводу, что партия и правительство обижают крестьянство».
Потом, уже в Москве, от разных людей он начал узнавать о голоде на Украине, где у крестьян подчистую выгребали все зерно, вынимали даже «готовый хлеб из печи».
Когда Вострецов как раз в то время прибыл в Новочеркасск, он должен был видеть и слышать то же самое. «Душевная болезнь», на подъеме карьеры приведшая его к самоубийству, и запои, которыми на вершине литературного успеха начал страдать Строд, имели общий исток – оба они тем острее ощущали стыд и вину за происходящее, что были обласканы властью.
«Все эти моменты, – говорил Строд, – я воспринимал довольно болезненно, они и явились причиной моих контрреволюционных высказываний… Я читал газеты и не находил в них ответов на мои вопросы».
Ему тяжело было выносить то, с чем уживались другие, менее совестливые или более толстокожие. «Отзывчивость» признавал за ним даже не любивший его Байкалов. То место из «В якутской тайге», где Строд слышит, как пули звякают о лежащие на баррикаде вокруг Сасыл-Сысы мерзлые тела, и представляет, что мертвецы сейчас закричат «Ой, больно мне! Больно!», рождено сердцем, а не заботой о том, чтобы усилить эффектность этой сцены.
Строд привык говорить на языке эпохи, а слово «сострадание» исчезало из ее словаря. Жертвы порожденного коллективизацией голода вызывали у него именно это чувство, но он предпочел объяснить свои «настроения» тревогой не о них, а о завоеваниях революции: «Я думал, что в случае войны крестьянство не пойдет защищать советскую власть, отсюда у меня возникала мысль о возможной ее гибели, в особенности на Украине. Я считал виновным в этом руководство ВКП(б) во главе со Сталиным».
Относительно «Платформы 83-х» он сказал, что, когда в 1928 году его дело разбиралось в Москве, в ЦКК, ему дал ее Карпель, учившийся в Военной академии. Строд прочел этот документ, но якобы ничего в нем не понял, так как вообще читает мало и не обладает нужными для осмысления таких сложных проблем знаниями. Помнит только, что там было «что-то про хлопок». Для автора двух книг это звучало не очень правдоподобно.
Понимая, что дело худо, Строд попросил разрешения написать Ягоде. Ему это позволили.
«Я издерган страшно, – начал он с оправданий своего нынешнего «плачевного» состояния. – Германский фронт – ранен в голову, в левое предплечье, контужен. Красная Армия с 1918 по 1928 год – ранен в щеку, в шею, в левое плечо, в правый бок, в грудь. Всего за две войны семь ранений, контузия, плюс больше года тюрьмы»[43].
Затем излагались выдвинутые против него обвинения: «связь с троцкистами», «антисоветские настроения» и «самое ужасное для меня – что я будто бы говорил, что убью т. Сталина».
Строд частично признал свою вину, свалив все на проклятое пьянство, не преминул назвать все свои титулы («почетный колхозник», «почетный забойщик» и пр.), дающие ему право на снисхождение, и напомнил о своей писательской известности: «Я написал две книги. Вторая, “В якутской тайге”, выдержала четыре издания, переведена на якутский, белорусский и английский языки. У меня намечено написать еще четыре книги: “Александровский централ”, “По следам минувших дней”, “Эпизоды” и “Кто автор?”».
Напоследок Строд обещал Ягоде: «Я брошу вино и снова займусь литературной работой, снова стану человеком и на всем моем тяжелом прошлом поставлю крест навсегда».
Письмо помогло. После трех месяцев заключения его освободили, но оставили под следствием. Дело не было закрыто. С тех пор он жил с чувством висящего над головой меча, который может опуститься в любую минуту.
Строд провел на свободе еще три года, пить бросил, но второе обещание не сдержал – ни одна из книг, перечисленных им в письме Ягоде, не была написана.
Материал для них он собирал в Томске, куда перевезли из Читы архив ликвидированной в 1922 году Дальневосточной республики. Как рассказывал сам Строд, им было просмотрено около тридцати тысяч «белогвардейских газет разных направлений», сделанные выписки составили «тысячу машинописных страниц». Результат этого труда он отправил Петру Крючкову, секретарю Горького, для затевавшейся тогда Алексеем Максимовичем многотомной «Истории Гражданской войны», а второй экземпляр оставил себе, но так им и не воспользовался.
Ничего, что могло бы его реабилитировать, Строд сочинить не сумел, если даже и пытался. Муза, водившая его пером, когда он писал «В якутской тайге», покинула его вместе с верой в справедливость нового строя и вдохновляющим сознанием собственной избранности. Какие-то рукописи конфисковали у него при следующем аресте, но поскольку на допросах они не фигурировали, и сам он никогда о них не упоминал, это, скорее всего, были черновики его прежних книг.
Через тридцать лет, делясь тем немногим, что осталось у него в памяти о рано погибшем отце, Новомир говорил о его страстной любви к рыбалке. Очевидно, эта страсть пробудилась в нем в последние годы жизни; раньше с его характером на такое занятие ему недостало бы ни терпения, ни времени. Вода успокаивала, одиночество давало ощущение свободы, а рыбацкий азарт – суррогат былых состояний души, отвлекал от тяжелых мыслей. Так Пепеляев когда-то, разочаровавшись в Белом движении, часами просиживал с удочкой на Сунгари.
Свобода
Некоторых пепеляевцев отправили в Соловецкий лагерь особого назначения, о чем Пепеляев случайно узнал из выходившего там и распространявшегося по всем тюрьмам страны журнала «СЛОН», кого-то – в губернские домзаки, а наиболее важных держали в Александровском изоляторе, до революции – каторжном централе с особенно мрачной славой. Среди них сразу составились две партии – «правые» и «левые», как называла их тюремная администрация. Одни остались непримиримы к советской власти, другие, пусть с оговорками, готовы были ее признать. У первых вождем был Михайловский, во многом испортивший отношения Пепеляева с якутами, вторые общепризнанного лидера не имели. Вражда партий дошла до того, что пришлось рассадить их членов по разным камерам, но скоро всем стало не до дискуссий. Выжить здесь оказалось труднее, чем на якутском морозе.
В 1926 году Кронье де Поль подал ходатайство о досрочном освобождении. Ему отказали, поскольку, как указывалось в аттестации, он «имеет характер скрытно-замкнутый, признаков исправления нет и таковому не поддается».
А в конце – корявая по форме, но верная по сути характеристика его мироощущения: «Твердо верит в свое прошлое».
К тому времени Кронье де Поль провел под арестом сорок три месяца (срок заключения исчисляли с 18 июня 1923 года, дня капитуляции Сибирской дружины в Аяне). Об условиях, в которых он содержался, свидетельствует приложенная к делу медицинская справка с перечнем его недугов: «Одержим незаживающим свищом бедренного сустава левой ноги, перфорацией барабанных перепонок обоих ушей, общей неврастенией и катаром желудка».
Зато сидевшему вместе с ним Малышеву посчастливилось выйти на свободу. Правда, ценой потери рассудка – врачи признали его психически больным.
В Перми, вскоре после взятия ее Средне-Сибирским корпусом Пепеляева, газета «Освобождение России» напечатала стихотворение Малышева «Цыганка»:
- Сквозь лохмотья светит солнце,
- Говор весел, быстр и дик,
- Словно звонкие червонцы
- Без конца кует язык…
Теперь его язык ковал бесконечные жалобы: он «высказывал бредовые идеи преследования», сутками отказывался от пищи, заявляя, что она отравлена, в больнице обвинял врачей, будто ему «впрыснули яд прогрессивного паралича и заразу бешенства».
Тюремной администрации надоело с ним возиться, и его передали на поруки приехавшей из Харбина жене, Алле Александровне. В те годы такое еще случалось.
Может быть, именно к ней Малышев обращался в другом своем пермском стихотворении: «Целуй меня, ты – женщина, я – воин. Я шел к тебе…» Если так, то через девять лет роли поменялись: она пришла к нему.
С Аллы Александровны взяли расписку, что предупреждена о болезни мужа и принимает всю ответственность за него, и она увезла его с собой. Куда – неизвестно.
Не известно также, что с ними случилось потом и действительно ли Малышев страдал психической болезнью или чрезвычайно искусно ее симулировал. К сожалению, первое вероятнее.
О женщине, которой Кронье де Поль «дал имя Мимка», в его деле сведений нет. О дальнейшей судьбе его самого – тоже[44].
Общий для шестидесяти шести пепеляевцев десятилетний срок заключения истек в июне 1933 года. Кого-то выпустили с поражением в правах, некоторым повезло выйти на свободу раньше, кто-то не дожил до освобождения, а многих оставили в тюрьме по другим обвинениям или как лиц, признанных «социально опасными». Пепеляев принадлежал к последним. По ходатайству коллегии ОГПУ президиум ВЦИК добавил ему еще три года.
Кажется, все, о чем он постоянно писал в дневнике – о «тоске небывалой», о тяге к самоубийству, о том, что «страсть, мечты, желания отошли куда-то» и предстоящая жизнь лежит перед ним как «унылая, длинная-длинная зимняя дорога», рождено было предчувствием его теперешнего существования. Пепеляев не мог надеяться, что эти три года – последние, но когда новый срок начал подходить к концу, его судьбой внезапно озаботился нарком внутренних дел Генрих Ягода.
В начале своего письма к Сталину он напомнил ему, кто такой генерал Пепеляев, хотя это было совершенно излишне. Сталин не мог его забыть – в 1919 году, после разгрома 3-й армии и падения Перми, он выезжал на Восточный фронт во главе комиссии ЦК по расследованию обстоятельств «Пермской катастрофы». В те дни имя Пепеляева звучало громче имени Колчака.
Далее Ягода писал: «Пепеляев к настоящему моменту пробыл в заключении 12 лет и 7 месяцев, содержась все время в условиях строгой изоляции (это преувеличение. – Л. Ю.) в Ярославской тюрьме особого назначения. Считал бы необходимым освободить и запретить ему проживать в столичных центрах, Западной и Восточной Сибири, а также в ДВК»[45].
О своих связанных с Пепеляевым планах Ягода не обмолвился даже намеком. Можно только предполагать, знал ли о них Сталин, но на письме осталась помета, сделанная его секретарем Поскребышевым: «Тов. Сталин – за».
В январе 1936 года до окончания срока Пепеляеву оставалось еще пять месяцев. Неожиданно, ничего ему не объясняя, его из Ярославля доставили в Москву, сутки продержали в одиночной камере Бутырской тюрьмы, а наутро перевели во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке.
«Я считал себя погибшим», – признавался он. Ему известно было, что сюда привозят на расстрел.
Об этом эпизоде Пепеляев рассказал через два года, в другой тюрьме. Все, о чем сообщается в многостраничном протоколе его позднейшего допроса – бредовое, но по-своему логичное сплетение самооговора и правды, которая толковалась им в нужном следователям ключе, поэтому на первый взгляд кажется ложью. Он был сломлен и говорил то, что от него требовали, но даже самые, казалось бы, фантастические узоры расшивал все-таки по канве реальных событий. Эту реальность можно попытаться восстановить, если следовать за рассказом Пепеляева, опуская внесенные туда задним числом трактовки разговоров и встреч, а также ряд деталей, сочиненных в угоду следствию или добавленных теми, кто его вел, с целью угодить вышестоящему начальству.
Итак, в тот же день Пепеляева из внутренней тюрьмы НКВД привели в кабинет начальника Особого отдела, комиссара госбезопасности 2-го ранга Марка Гая (Штоклянда).
«Гай в кабинете был один, – рассказывал Пепеляев. – При моем входе в кабинет он встал со стула, крепко пожал мне руку, пригласил сесть в стоявшее у стола кресло, а затем, обращаясь ко мне, заговорил: “Вот вы сидите у нас уже тринадцатый год, а мы вас, собственно, не знаем. Я вызвал вас к себе узнать ваши взгляды и определить вашу дальнейшую судьбу”. Я не понимал, чего он от меня хочет, и сдержанно ответил ему, что мои взгляды излагались мной в заявлениях в ЦИК и прокурору[46]. Гай, улыбнувшись, сказал, что в личной беседе лучше рассмотрит и узнает меня».
Он стал расспрашивать об участии Пепеляева в Первой мировой войне, о наградах, после чего «доброжелательно» заметил: «Мы ценим боевых военных людей. Вас можно было бы использовать в армии, но вы, вероятно, технически отстали, многое забыли».
Гай поинтересовался, может ли Пепеляев вести занятия, скажем, по тактике. Тактика, наверное, первой пришла ему на ум в связи с давно мертвым Слащевым и курсами «Выстрел»[47].
Узнав, что Пепеляев «преподавал этот предмет» в 1916 году, в прифронтовой школе прапорщиков, Гай спросил, не хотелось бы ему повторить свой опыт в каком-нибудь военном училище.
«Меня это смутило», – вспоминал Пепеляев. Он не мог понять, насколько серьезно предложение Гая.
«Ну, а сами-то вы, – продолжал тот, – что собираетесь делать, выйдя на волю?»
Пепеляев ответил, что пошел бы на военную службу, если его примут, а «если нет – поступил бы в столярную мастерскую».
«Ну хорошо, – завершил Гай разговор, – мы посмотрим, что можно сделать с вами».
Пепеляева вернули в тюрьму НКВД. Гай обещал, что завтра они снова встретятся, но вызвали его только через месяц. На этот раз с ним беседовал помощник Гая, капитан Кононович, сказавший, что он будет освобожден точно в срок, 18 июня. Затем его отправили обратно в Ярославль, но ни в названный день, ни в последующие две недели ничего не произошло. Он уже начал терять надежду, как вдруг 4 июля начальник изолятора объявил ему об освобождении и на случай проверки документов выдал удостоверение личности сроком всего на один день. С полуночи оно становилось недействительным. До этого часа Пепеляев обязан был прибыть в Москву, явиться к агенту транспортного отдела НКВД на вокзале и заявить о себе.
Так он и сделал. Агент по телефону доложил о нем начальству, за ним прислали автомобиль, привезли на Лубянку и доставили в кабинет Гая. Сидевший там старый знакомый, Кононович, предложил ему выбрать для жительства какой-нибудь из областных центров за вычетом Москвы, Ленинграда и тех территорий, о которых Ягода писал Сталину.
Пепеляев выбрал Воронеж.
Почему именно его, он не объяснял, но, видимо, сыграло роль то обстоятельство, что в годы Гражданской войны это была зона действий не колчаковских, а деникинских войск, здесь имя Пепеляева мало кто знал. По той же причине отпадали Пермь и Свердловск, хотя они лежали за пределами запретной для него Сибири. Может быть, в Воронеже жили родственники кого-то из его тюремных друзей, он рассчитывал на их помощь при поисках жилья и устройстве на работу; сочетание этих двух факторов могло заставить его отмести такие варианты, как более близкая к столице Тула или более теплые Ростов и Краснодар. Впрочем, нельзя исключить, что Кононович и Гай по своим соображениям рекомендовали ему относительно недальний Воронеж, и это был не тот совет, который можно игнорировать.
Когда место жительства было определено, происходит событие, самое, казалось бы, невероятное в этой и без того странной истории, но, если вдуматься, не только возможное, а почти наверняка реальное. Люди оставались людьми даже на высших постах в НКВД, и ничто человеческое не было им чуждо.
В разговоре Пепеляева с Кононовичем и подошедшим чуть позже Гаем случайно выяснилось, что белый генерал, в 1919 году ближе всех других колчаковских военачальников подошедший к Москве, сам ни разу в ней не бывал. Юнкером Павловского училища он лишь проезжал через нее по дороге из Петербурга в Томск и обратно, как и по пути из Сибири на фронт в 1914 году, а после Брестского мира – с фронта.
Вне зависимости от конкретной цели, которую преследовало НКВД, выпуская Пепеляева на свободу, Гаю захотелось поразить его обликом современной социалистической Москвы в блеске солнечного июльского дня. Это было тщеславное, не без примеси злорадства и все же естественное желание похвалиться своими сокровищами перед тем, кто тоже имел шанс ими обладать, но упустил его из-за собственной глупости. Гай вызвал машину с шофером, приставил к Пепеляеву какого-то «сержанта», крымского татарина по национальности (такие детали убеждают в правдивости рассказа), и тот прокатил его по центральным улицам, показал Кремль и метро.
Вечером, в сопровождении того же сержанта, с тысячей рублей в кармане, выданных ему по распоряжению Ягоды, Пепеляев отбыл на поезде в Воронеж. Смутные подозрения, что все с ним случившееся слишком уж фантастично, чтобы за этим совсем ничего не стояло, его, наверное, тревожили, он был все-таки не настолько наивен, но не могло не быть и радости, что прошлое забыто, ему верят, его готовность служить России в лице СССР наконец-то оценена. Он, в общем-то, не кривил душой, когда писал об этом во ВЦИК, Калинину, добиваясь смягчения приговора. По словам Всеволода Анатольевича, в письмах отца к матери имелись приписки для него и для брата Лавра – в них Пепеляев просил сыновей не вступать ни в какие эмигрантские организации. Писалось это не только в расчете на тех, кто будет читать его письма, прежде чем они попадут в Харбин.
Выданные Ягодой подъемные и то, что в Воронеже его поселили в лучшей городской гостинице «Бристоль», в шикарном номере, постоянно резервируемом для НКВД, Пепеляев, конечно, воспринимал как знаки особого к нему отношения. Не известно, какие мысли были у него на этот счет, но после тринадцатилетнего заключения он не мог не наслаждаться тем, что спит в чистой постели, волен гулять по городу, с деньгами в кармане заходить в магазины. Огромную радость должно было приносить ему посещение единственной действовавшей тогда в Воронеже церкви Николая Чудотворца, если только он не избегал там бывать из желания солидаризироваться с властью во всем вплоть до ее антирелигиозной политики.
В то время в Воронеже жил ссыльный Мандельштам, но вряд ли они что-то слышали друг о друге. Между тем судьба вела их по схожему маршруту, только с разных концов: у одного Вторая Речка была позади, у второго – впереди.
Пепеляева выпустили не просто так, виды на него у Ягоды были вполне определенные, но исполнить задуманное он не успел – через два месяца Сталин снял его с должности, заменив Ежовым. В наступившей кадровой чехарде органам стало не до Пепеляева, из «Бристоля» его выселили, и он оказался предоставлен самому себе. Произошло чудо: ему выпало немыслимое для человека с его прошлым счастье пусть весьма условной, но все же свободы и даже такая роскошь, как возможность строить планы на будущее.
Столяров в Воронеже хватало, да и квалификация у него была, видимо, скромная. На первых порах он работал грузчиком, как в Харбине после ссоры с Семеновым и отъезда из Забайкалья, а осенью с помощью НКВД устроился помощником начальника конного парка в «Воронежторг», принимал заявки на товары и выписывал наряды возчикам.
Подыскав квартиру, он написал жене, что ждет ее и сыновей к себе в Воронеж. Нина Ивановна жила одна, надежда когда-нибудь снова быть вместе при всей ее эфемерности не могла не присутствовать в их переписке, и Пепеляев, считая приезд семьи делом решенным, начал копить деньги на предстоящие расходы.
Часть полученной от Ягоды тысячи рублей он потратил, пока искал работу, потом пришлось платить за съемное жилье, покупать зимнюю одежду. К следующему лету в его копилке наберется немного больше той суммы, которую ему за год перед тем выдали на Лубянке, но в тогдашнем СССР это средняя зарплата за три-четыре месяца, немалые для него деньги.
«Отец не допускал и мысли, что мы не приедем», – вспоминал Всеволод Анатольевич, но все оказалось не так просто.
По соглашению, заключенному между СССР и Китаем в 1926 году, на КВЖД могли служить или советские, или китайские подданные. Нину Ивановну уволили вместе с другими эмигрантами. Ее поддерживали сестры Пепеляева, потом, окончив Коммерческое училище, кормильцем семьи стал старший сын. К двадцати трем годам, когда отец позвал их к себе, он успел поработать матросом в городском яхт-клубе на Сунгари, бухгалтером, инкассатором в страховой компании, сельскохояйственным рабочим и вольным ловцом форели, которую они с братом сбывали в магазины и рестораны.
Жили трудно. Маньчжурия недавно была оккупирована японцами, перспектив – никаких. Главный кормилец решил, что нужно ехать. Так, во всяком случае, утверждал он сам.
Для разрешения на въезд таким, как они, требовалось получить советское гражданство. Следовало явиться в консульство и подать заявление, но тут от добрых людей узнали, что японцы берут на учет, а нередко и арестовывают всякого, кто туда заходит. «Здравый смысл подсказал: ехать нельзя, опасно», – объяснял Всеволод Анатольевич, почему его желание не исполнилось, но сам же говорил, что как раз тогда, осенью 1936 года, впервые нашел хорошую работу в «магазине автозапчастей» в Цицикаре. Удача могла охладить его решимость ехать к отцу, а японская опасность стала последней гирькой на колеблющихся чашах весов. Не исключено, что после этого Нина Ивановна вздохнула с облегчением.
По сравнению с их разлуками до приезда Пепеляева в Харбин эта тянулась куда дольше, и если даже тогда после расставаний ей нелегко было находить с мужем общий язык, то сейчас у нее не могло не быть сомнений, что такое вообще возможно. Нина Ивановна была не в том возрасте, чтобы уповать на любовь, которая воссоединит их поверх всех барьеров. За четырнадцать лет она не стала красивее, молодость ушла, взаимное разочарование грозило оказаться сильнее былой привязанности, а груз раздельно прожитой жизни должен был тянуть каждого в свою сторону. Выросшие без отца дети – не самый прочный цементирующий материал для возобновленного брака.
К тому же из эмигрантской печати Нина Ивановна знала о жизни в СССР много такого, о чем не подозревал ее недавно еще оторванный от внешнего мира муж, и побаивалась к нему ехать. В Воронеже у нее не было никого, а в Харбине жили свекровь, золовки с мужьями и какая-то ее собственная верхнеудинская родня.
В любом случае, написала ли она мужу о принятом решении или тянула время в надежде, что он догадается сам, Нина Ивановна могла бы повторить те слова, которые когда-то, в Нелькане, Пепеляев прочел в ее привезенном Вишневским письме и процитировал в своем, ответном: «Прости меня за все».
Он прожил на свободе больше года. За ним велась слежка, в НКВД все о нем знали, но никаких известий о том, что за эти тринадцать с половиной месяцев у него появилась какая-то женщина, в его втором следственном деле нет.
Пепеляев не терял надежды, что Нина Ивановна передумает и приедет, поэтому продолжал экономить. Накопленные им за год 1195 рублей конфискуют при аресте.
Конец пути
О последних годах жизни Строда есть два свидетельства. Первое принадлежит Новомиру, тогда мальчику. В 1962 году он посетил родину отца, Лудзу, выступал по местному радио и упомянул о присущей отцу скромности. В доказательство приводился тот факт, что Строд, приходя в ближайшую к их дому парикмахерскую возле Красных ворот, стригся в общем порядке, хотя кавалеров ордена Красного Знамени обслуживали без очереди.
Второе воспоминание о нем оставил некто Срулевич, вставивший в свою неблагозвучную фамилию букву «т» между «с» и «р» и ставший Струлевичем. Он знал Строда с 1918 года, потом встречался с ним в Якутии, где служил в ГПУ. Уволившись «по болезни», Струлевич жил в Кисловодске, но чем он там занимался, из его уклончивых мемуаров понять сложно. Еще менее понятно, почему, не видевшись со Стродом много лет, в 1936 году он разыскал его адрес и послал ему приглашение отдохнуть на водах – скорее всего, просто хотел повысить свои акции дружбой с известным человеком, писателем. Слава Строда, как и других героев Гражданской войны, быстро увядала, но до провинции эти веяния еще не дошли.
Строд с радостью откликнулся и приехал. Струлевич, употребив свои связи, определил друга в санаторий «Горняк», но «не в натуре Строда было почивать у тихой пристани, соблюдать санаторный режим». Он, пишет Струлевич, «ушел из санатория и гостил месяца полтора у нас в семье».
Расшифровать это иносказание нетрудно: без жены Строд снова запил и был изгнан из санатория. В Москве уже вовсю шли аресты, и, предчувствуя, что скоро настанет его черед, возвращаться туда он не хотел, иначе не околачивался бы полтора месяца у полузабытого приятеля.
Должно быть, настроение у него было неважное. Чтобы его развлечь, а заодно отвлечь от бутылки, Струлевич предложил гостю выступить в клубе санатория имени Серго Орджоникидзе. Видимо, в «Горняке» Строд оставил по себе такую память, что ему лучше было там не показываться.
Упрашивать его не пришлось, он с удовольствием выступил перед отдыхающими «с рассказом об участии в Гражданской войне» и при следующем заезде не отказался повторить этот номер с другой публикой. В надежде удержаться на плаву Строд цеплялся за свои поросшие быльем подвиги, не понимая, что играет роль в снятой из репертуара пьесе и как ее персонаж тоже должен сойти со сцены.
Арестовали его в феврале 1937 года, вскоре после возвращения из Кисловодска. Строд был обвинен в троцкизме и в «террористических намерениях против руководства ВКП(б)», причем он якобы вынашивал их уже не в одиночку, как раньше, когда грозился убить Сталина, а в качестве активного члена «повстанческо-террористической организации красных партизан». Основанием для обвинения стала его подпись под письмом, которое в 1929 году, во время конфликта на КВЖД, направила в Москву, Ворошилову, группа ветеранов партизанского движения в Сибири – они предлагали создать из бывших партизан отдельную дивизию для помощи Красной Армии в борьбе с «белокитайцами», но, по версии следствия, подлинной целью формирования такой дивизии было свержение советской власти на Дальнем Востоке.
Все допросы проходили по одному сценарию, напоминающему методику сеанса у психоаналитика: для подтверждения того или иного обвинения брался реальный факт из жизни Строда, а затем под его видимой, заурядно-житейской, но якобы иллюзорной поверхностью вскрывалось кишащее чудовищами второе дно.
Вот один из таких диалогов.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: «В 1928 году вы давали Карпелю в Москве деньги на троцкистскую работу?»
СТРОД: «Нет, не давал».
СЛЕДОВАТЕЛЬ: «Неправда. Нам известно, что при второй встрече вы дали ему десять рублей для троцкистской организации».
СТРОД: «Я дал их Карпелю не для троцкистской организации, а для него лично».
СЛЕДОВАТЕЛЬ: «Это ложь. Карпель показал, что деньги вы дали ему для троцкистской работы».
Зачитывается выбитое, очевидно, из Карпеля соответствующее признание.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: «Вы и после этого будете запираться?»
СТРОД: «Я не запираюсь и повторяю, что деньги дал лично Карпелю».
В таком духе продолжалось еще долго, тем не менее в протоколе допроса эти десять рублей так и остались всего лишь одолженной старому другу десяткой.
Трудно судить, применялись ли к нему «физические методы воздействия», но как бы то ни было Строд отверг все выдвинутые против него обвинения и, что бывало в редчайших случаях, стоял на этом до конца. Судимый «тройкой», он ни в чем не признал себя виновным, при чтении приговора перебивал председательствующего, называя его слова «ложью» или «гнусной ложью», и был казнен в тот же день, 19 августа 1937 года.
После первого ареста Строд сознавал свою обреченность, хотя старался об этом не думать, но Пепеляев, похоже, верил, что худшее для него – позади. Через год после освобождения он сдал вступительные экзамены в Воронежский пединститут и в сорок шесть лет был зачислен на заочное отделение истфака. Ему хотелось быть школьным учителем истории. При подготовке к экзаменам он не мог не понять, что история в СССР – наука партийная, и желание пустить именно такие корни в новой жизни надежнее всего свидетельствует о его смирении. Однако выданная студенту Пепеляеву зачетная книжка так и осталась чистой: когда через два дня после расстрела Строда он был арестован, учебный год еще не начался.
Из Воронежа его отправили в Новосибирск. Там он узнал, что, оказывается, еще с тюремных времен стоит во главе «белогвардейской эсеро-монархической организации», готовившей вооруженное свержение советской власти в Сибири и передачу ее под протекторат Японии. Через пятнадцать лет Пепеляеву аукнулся эфемерный проект Сазонова создать прояпонскую Сибирскую республику.
Неизвестно, что пришлось ему вынести на допросах, но важнейшие «признательные показания» он дал только 9 декабря 1937 года. Из них можно заключить, что идея, воплощенная в жизнь начальником УНКВД по Новосибирской области Горбачом, принадлежала Ягоде. Почти два года назад он самостоятельно или с одобрения Сталина задумал сфабриковать дело об очередном «заговоре», чтобы под этой маркой ликвидировать оставшихся после Гражданской войны в СССР офицеров белых армий заодно с близкими им по духу другими «вредными элементами», на чью лояльность нельзя было положиться в случае войны с Японией. Такого рода массовые зачистки скоро станут заурядной социально-гигиенической процедурой, но эта, одна из первых, если не первая, рассматривалась как экспериментальная и предполагала сложные прово-кативные ходы, которые потом сочтут излишними.
Тогда же, вероятно, у Ягоды возникла мысль сделать Пепеляева главным фигурантом будущего процесса. Он идеально подходил на это амплуа, если бы не сидел в тюрьме. Утверждать, будто из заключения ему удалось создать на воле разветвленную подпольную организацию, было бы странно, тем более что Ярославский изолятор находился в ведении НКВД (Ежова и Горбача подобные несуразности уже не смущали), поэтому его выпустили и поселили или позволили поселиться в Воронеже. Не имело значения, в каком из соседних с Москвой областных центров он будет жить, но, кроме обычного запрета на проживание в столицах, из доступных для него мест обитания исключались Сибирь и Дальний Восток. В тех краях скрыться из-под надзора ему было проще, а использовать его там – сложнее.
В задуманной провокации Пепеляеву отводилась не только пассивная роль. Трудно сказать, понимал ли он, что потребуется от него в обмен на свободу, или всего лишь догадывался об этом, или тешил себя какими-то иллюзиями насчет причин своего освобождения, но в любом случае операция не состоялась, и Пепеляева на год оставили в покое. К моменту его ареста Гай был расстрелян, а Ягода сидел в тюрьме в ожидании показательного суда. Те, кто занял их кабинеты, не отказались от инициативы предшественников и «раскрыли» запланированный ими заговор, однако повернули дело так, что Ягода и Гай сами оказались в числе главных заговорщиков.
Якобы они, узнав о секретной деятельности Пепеляева в тюрьме, решили его поддержать, поскольку стремились к тому же, что и он – путем военного переворота захватить власть и реставрировать «буржуазный строй». Не случайно на процессе «троцкистско-зиновьевского блока» в 1938 году Ягода отрицал обвинение в шпионаже, но участие в подполье – признавал. Улики для режиссеров этого спектакля Горбач и добывал в Новосибирске.
Пепеляев мог подписать готовый протокол допроса, но мог и сам приспособить свои показания к требованиям следователей. Чтобы все выглядело сколько-нибудь правдоподобно, пришлось проявить немало изобретательности, зато наградой была возможность без мучений прожить последние недели перед смертью.
Он рассказал, что когда в 1925 году ему разрешили переписку, стали приходить письма от Цевловского, Михайловского, еще кого-то из старых товарищей. Некоторые, освободившись, установили контакт с Вишневским, вновь ставшим главой харбинского отделения РОВСа, и связали его с Пепеляевым. Вишневский, скажем, писал Михайловскому: «Привет Толе» (Пепеляеву. – Л. Ю.), а тот в свою очередь передавал Пепеляеву: «Кондратьич (Вишневский. – Л. Ю.) шлет привет, желает успеха».
Что-то такое, может быть, и бывало, но в дальнейшее поверить невозможно. Пепеляев будто бы завербовал одного инженера, который курировал работы в тюремной столярной мастерской от ярославской фабрики «Красный древообработчик», через него Вишневский прислал Пепеляеву инструкцию, как создать на воле конспиративную организацию «по системе троек и пятерок», и он, находясь в заключении, подготовил «диверсионные кадры» для покушений на ответственных работников, «разрушения центров связи, мостов, радиостанций и, в случае нужды, электростанций». Под руководством вооруженного рубанком Пепеляева численность организации достигла «нескольких тысяч членов», ее сетью были охвачены Кузбасс, Алтай, Новосибирск, Нарымский округ.
Наконец дело дошло до его покровителей.
«В 1936 году, – заявил Пепеляев, – мне сделалось понятно, что некоторые руководящие работники НКВД особенно заботятся о моем благополучии».
На вопрос, кто же это был, он назвал Ягоду и Гая, рассказал о лубянских чудесах, об устроенной для него автомобильной прогулке по Москве, но якобы и тогда, при виде Кремля, его мысли текли строго в русле владевшей им главной идеи: «Вот она, Москва! – думал я, смотря в окно машины. В эти минуты (понимая, что Ягода и Гай с ним заодно. – Л. Ю.) реальной близкой действительностью казалась мне моя заветная мечта – во главе полков триумфальным маршем вступить в столицу русской земли».
Как выяснилось, участником заговора являлся и замначальника воронежского УНКВД Эстрин, выполнявший задания Ягоды и Гая. Даже письмо жене, в котором Пепеляев звал ее к себе, было будто бы написано по его указанию. Цель – через Нину Ивановну открыть дополнительный канал связи с Вишневским.
Эстрин был уже арестован, а чтобы снять подозрение с его оставшиеся на своих постах коллег, не разглядевших у себя под боком вождя столь грандиозного подполья, Пепеляев, видимо, с подсказки следователей сообщил, что однажды ночью, предварительно постучав условным стуком в окно, к нему домой явился незнакомец «в солидном черном костюме гражданского покроя» и передал устный приказ Вишневского: «прекратить всякие связи с членами организации», дабы уберечь ее руководителя «от провала до момента вооруженного выступления Японии против СССР».
Показания Пепеляева были настолько важны, что уже на следующий день Горбач под грифом «совершенно секретно» изложил их содержание в телеграмме Ежову, а тот еще через сутки направил копию Сталину.
Судя по всему, Ягода планировал провести открытый судебный процесс Пепеляева и его «сообщников», но Сталин отказался от этой затеи, не желая, видимо, реанимировать память о Гражданской войне и отвлекать внимание масс от готовившегося как раз в те месяцы более актуального процесса «троцкистов» и «зиновьевцев». Люди, которые и так-то вели призрачное существование, должны были исчезнуть, не выходя из тени.
Число арестованных по сибирскому «делу РОВСа» перевалило за пятнадцать тысяч. Пепеляев, претендовавший только на то, чтобы стать школьным учителем, опять очутился во главе армии, правда на этот раз – фантомной. Ее солдаты и офицеры не знали, что вновь собрались под бело-зеленым знаменем, но в своем последнем походе их командующий потерял едва ли не больше бойцов, чем за все сражения Гражданской войны, и погиб сам.
Второй вынесенный ему смертный приговор был приведен в исполнение 14 января 1938 года в Новосибирске.
Там же и в один день с ним казнили многих осужденных по его делу, среди них – брата Михаила, некогда пригретого Стродом в томском Доме Красной армии.
Есть мнение, что не все в признаниях Пепеляева – ложь, и в момент будто бы готовившегося верхушкой ОГПУ дворцового переворота, целью которого было устранение Сталина, ему как боевому генералу предстояло возглавить ударную группу неопытых в военном деле заговорщиков, но это не более чем фантазия. Чтобы убедиться, насколько далека она от реалий воронежской жизни Пепеляева, достаточно прочесть список изъятых у него при аресте вещей и документов:
«1. Временное удостоверение № 4238.
2. Профбилет союза шоферов № 198165.
3. Зачетная книжка студента-заочника пединститута.
4. Пропуск на вход в контору Воронежторга.
5. Облигации займа Второй пятилетки на сумму сорок (40) рублей.
6. Деньги совзнаками на сумму тысяча сто девяносто пять (1195) рублей.
7. Часы карманные металлические.
8. Крест золотой».
К последнему пункту учетчики финотдела НКВД, куда передавали изъятые у арестованных ценности, добавили упущенную по недосмотру важную деталь: «С серебряной цепочкой».
После жизни
В августе 1996 года я вернулся из Новосибирска, где читал первое следственное дело Пепеляева, а в сентябре в Москву прилетел Майкл Джексон. Перед его единственным концертом в Лужниках к нему явился генерал-майор Александр Коржаков, начальник службы безопасности президента Ельцина, и преподнес ему в дар русскую офицерскую шашку времен Первой мировой войны с надписью «За храбрость» и знаком ордена Святой Анны на рукояти.
Чтобы повысить ценность подарка стоимостью «всего в 900 долларов» (для дарителя сумма ничтожная, но для простого человека в то время – громадная), Коржаков, как он пишет, сказал Джексону, что эта случайно доставшаяся ему «сабелька» – оружие его деда. Растроганный Джексон принял семейную реликвию «дрожащими руками», однако на следующий день ее отобрали у него в аэропорту, на таможне[48].
Коржаков уверяет, что это было сделано по личному указанию Чубайса, но тот отрицал свое вмешательство.
Через год Всеволод Анатольевич написал мне: «Это шашка моего отца». О том же сказал и единственный внук Пепеляева, Виктор Лаврович, когда я с ним встретился в Москве и поразился его сходству с дедом.
Основания так думать у них были.
В 1915 году Пепеляева наградили подобной шашкой, и если бы, отплывая в Якутию, он оставил ее в Харбине, Всеволод Анатольевич с детства бы о ней знал, а он не помнил, чтобы дома у них была отцовская шашка.
В походе на Якутск с ней нечего было делать. Последний раз Пепеляев мог надеть ее в Аяне, когда наутро после высадки проводил смотр дружины, там она, значит, и осталась. Вострецов с другими трофеями должен был привезти ее во Владивосток, оттуда она попала в Читу и с тех пор будто бы хранилась в музее ЗабВО, а в газетах сообщалось, что в середине 1990-х, во время визита Коржакова в Читу, командующий округом подарил ему какую-то старинную офицерскую шашку. Всеволод Анатольевич думал, что это она и есть.
Я тоже долго так считал, пока не увидел фотографию, на которой Коржаков, держа шашку эфесом вверх, демонстрирует свой подарок благоговейно взирающему на него Джексону.
На фотографии молодого Пепеляева с шашкой на боку форма эфеса у нее совсем другая.
Всеволод Анатольевич после войны перебрался из Харбина в Читу, где его и арестовали. Он сидел на Колыме, после освобождения подался в теплые края, в Гагру, а во время грузино-абхазской войны, бросив дом, сад и могилу матери, которая последние годы прожила с ним, уехал к родственникам жены в Черкесск. Мы переписывались почти до самой его смерти в 2002 году.
Двумя годами раньше, зимой, умер мой отчим Абрам Давидович, усыновивший меня и заменивший мне отца, – утром вышел погулять с собакой и упал. Когда к нему подбежала увидевшая это соседка, он был уже мертв.
Всю жизнь он проработал на Мотовилихинском пушечном заводе в Перми, был начальником ствольного цеха, потом занимался ракетами, а в старости, жалея истребляемых китов, переживал, что когда-то делал гарпунные пушки для китобойной флотилии «Слава».
Его смерть была смертью праведника – мгновенной. Я понял это, заметив у него, лежавшего на снегу, перчатки на обеих руках. Тяжелый сердечник, он всегда носил в кармане лекарство, но не успел снять перчатку, чтобы сунуть руку в карман.
Через какое-то время, оправдываясь за долгое молчание, я написал о его смерти Всеволоду Анатольевичу.
«Вечером, – посоветовал он мне в ответном письме, – встаньте один в темной комнате и скажите вслух: да будет воля Твоя. Увидите, вам станет легче».
Я знал, первые годы в Ярославском политизоляторе Пепеляев отказывался от газет и даже от книг, читал лишь оставленное ему после суда Евангелие, и возникло чувство, что совет Всеволода Анатольевича – это совет его отца.
Лавр Анатольевич после лагеря осел в Ташкенте, умер в 1991 году. Его сын и внуки живут в Москве. У Всеволода Анатольевича детей не было.
Мать Пепеляева, полная тезка жены Строда, умерла в Харбине в 1938 году.
Нина Ивановна вернулась в СССР вместе с сыновьями, но не была арестована. Не тронули и ее золовок. Старшая, Вера, уехала с мужем на Украину, там ее следы затерялись; Екатерина была актрисой драмтеатра в Чите, потом – в Якутске, куда так и не сумел дойти ее брат. Из пятерых братьев Пепеляевых дольше всех оставался на свободе Аркадий Николаевич, известный в Омске врач-отоларинголог, но во время войны взяли и его, он умер в тюрьме.
Жена Строда, Клавдия Георгиевна, после ареста мужа уехала с сыном из Москвы и до конца жизни работала врачом в Вышнем Волочке. Новомир, как и она, окончил мединститут, позднее поселился в Якутске, где его фамилия открывала многие двери, защитил диссертацию, был научным сотрудником в Институте туберкулеза[49]. Бывая в театре, он мог видеть на сцене сестру Пепеляева, но не знал, что это она. Екатерина Николаевна носила фамилию мужа. Вряд ли у нее возникло желание поглядеть на Сасыл-Сысы, но Новомир Иванович не раз туда ездил, осматривал «продырявленную в тысяче мест» юрту Карманова и говорил, что не в силах понять, каким образом отец восемнадцать дней продержался на этом простреливаемом с трех сторон пятачке под холмами.
Кропачев тоже обосновался в Якутске. Писателем он не стал, но регулярно печатал в газетах воспоминания о Сасыл-Сысы, под старость почти дословно пересказывая книгу своего командира, вытянувшую из него собственную память о тех днях. В 1962 году, когда отмечалось сорокалетие ЯАССР, Кропачев опубликовал в «Красной звезде» очередную статью о «ледовой осаде». Прозрачно намекая на самого себя, он писал, что по случаю юбилея хорошо бы дать какие-нибудь правительственные награды еще живым участникам героической обороны, но его призыв не был услышан.
Карпель после Военной академии дослужился до командира полка. В 1937 году его расстреляли.
Курашов военным пенсионером жил в Москве, где и умер вскоре после войны.
Матвей Байкалов, юношей приехавший с отцом в Якутск, окончил Оренбургское летное училище, воевал, стал летчиком-испытателем и в 1949 году разбился во время демонстрационного полета на вертолете Ми-1.
Его отец до ареста в 1936 году успел побывать секретарем Якутского обкома ВКП (б), членом Комитета по делам Севера в Москве и Хабаровске, управляющим «Якутлестрестом», председателем трибунала Внутренней охраны ЯАССР. Отсидев пять лет в лагере, свои последние годы он провел с женой в Мегино-Кангаласском районе, в селе Нижний Бестях между Амгой и Чурапчой, работал счетоводом в леспромхозе, писал оставшиеся в рукописи воспоминания и статьи с рекомендациями по решению насущных местных проблем – «О борьбе с комаром», «О реконструкции курорта Абалах», но районная газета печатать их не хотела, они так и остались в рукописи. Сына он пережил на год. В середине 1960-х в Нижнем Бестяхе установили его бюст, а в Монголии, возле озера Тулбо-Нур, где в 1921 году, в монастыре Сарылгун, Байкалов с отрядом красноармейцев и «красных монголов» стойко держался против генерала Бакича и атамана Кайгородова, дряхлеет под степными ветрами его громадная, без туловища, бетонная голова на постепенно ветшающем монументе в честь монголо-советского боевого братства.
Вишневский в возрасте семидесяти лет был арестован в 1945 году, когда в Харбин вошла Советская армия. В биографических статьях о нем, там, где за прочерком после даты рождения должна стоять дата смерти, стоит вопросительный знак.
Соболев, герой стихотворения Пепеляева «Начполитотдел», избежал суда, но где и как он окончил свои дни, я не знаю. Как не знаю о судьбе стихотворца Сейфулина, «наездника» Цевловского, «сурового воина» Рейнгардта, других пепеляевцев. Мне лишь известно, что некоторые из них, в том числе Шнапперман и соавтор Строда, Нудатов, после освобождения живший в Саратове, были расстреляны по одному делу с их бывшим командующим.
Настенные росписи, сделанные Михаилом Пепеляевым в томском Доме Красной армии, не сохранились.
«Печальным героем контрреволюции» назвал Пепеляева один из его харбинских обличителей, имея в виду, что он так и не пристал ни к одному берегу, поэтому плохо кончил, но определение, какой бы смысл ни вкладывал в него автор, на редкость точное. После всего, что я узнал о моем герое, у меня связывается с ним не раздвоенность души, не растерянность, не уныние неудачника, а именно странная для человека с такой биографией печаль – она мягко окутывает его удаляющийся во времени облик.
«Господи, – просил он в дневнике, – всех, всех погибших, убитых в дни смуты, прости, упокой в вечном царствии Твоем, ибо не ведали, что творили мы, люди».
На кладбище в Томске ему поставлен надгробный памятник. Он стоит рядом с новым надгробием над могилой его отца, но это – кенотаф, останков «мужицого генерала» под ним нет.
Прах Строда, если он там вообще есть, рассеян в братской могиле № 1 на Донском некрополе в Москве, в земле, смешанной с пеплом тех, кого после расстрела сожгли в здешнем крематории.
В начале 1960-х именем Строда назвали улицы в Якутске и других городах, в Сасыл-Сысы открылся музей с его бюстом, лесовоз «Иван Строд» с портом приписки в Магадане заменил ходивший раньше по Лене колесный пароход с тем же названием, сначала переименованный, а потом сданный в металлолом. В Лудзе, на доме, где родился Строд, повесили мемориальную доску с надписью на латышском и на русском, и в апреле 1984 года на улице перед ним провели посвященную 90-летию со дня рождения героя-земляка пионерскую линейку. Ее отпечатанный на машинке сценарий мне дала хранительница фондов городского музея по имени Ивета.
Если в тот день мероприятие прошло, как задумывалось, дети декламировали отрывок из поэмы Виссариона Саянова, написанной в то счастливое для Строда время, когда после выхода «В якутской тайге» его имя гремело по стране: это монолог красноармейца, провидящего свою гибель в Сасыл-Сысы, но готового послужить трудовому народу и в виде трупа:
- Мы в битвах несгибаемыми были,
- И после смерти я хотел бы так,
- Чтоб телом моим бруствер укрепили,
- И чтоб над ним взвивался красный флаг.
- Пусть я убит, но отступить смогу ли?
- Прошу на крепость положить меня.
- И даже мертвый вражеские пули
- Остановлю я сердцем, как броня.
Одноэтажный домик, перед которым звучали эти оловянные стихи, теперь обшит сайдингом, на крыше – финская черепица, в огороде – компания садовых гномов. Мемориальной доски нет. Ивета сказала, что хозяин снял ее на время ремонта, но не стал возвращать на место, она хранится у него в гараже.
Мне трудно объяснить, для чего я написал эту книгу.
То, что двигало мной, когда почти двадцать лет назад я начал собирать материал для нее, давно утратило смысл, и даже вспоминать об этом неловко.
Взамен могу привести еще одну цитату из Метерлинка, которую Кронье де Поль в сентябре 1922 года, на борту «Защитника», по пути из Владивостока в Аян выписал в свою книжечку, как если бы думал при этом о Пепеляеве и Строде:
«Мы знаем, что во вселенной плавают миры, ограниченные временем и пространством. Они распадаются и умирают, но в этих равнодушных мирах, не имеющих цели ни в своем существовании, ни в гибели, некоторые их части одержимы такой страстностью, что кажется, своим движением и смертью преследуют какую-то цель».
Библиография
Документы
Материалы следственного дела А. Н. Пепеляева и др. (1923–1927). – Архив УФСБ РФ по Новосибирской области, д. 13069, т. 1–9.
Следственное дело А. Н. Пепеляева (1937–1938). – Архив УФСБ РФ по Новосибирской области, д. 17137.
Следственное дело И. Я. Строда. – Центральный архив ФСБ РФ, д. Р-8140, т. 1 (1937), т. 2 (1928), т. 3 (1933–1934).
Фонд Музея краеведения в Лудзе (Латвия), ед. хран. 104–105.
Борьба за установление и упрочение Советской власти в Якутии.
Часть II. Книга 2. Разгром пепеляевской авантюры (сборник документов и материалов). Якутск, 1962.
Якутское повстанчество. Август 1921 – 1 октября 1922; Тунгусское повстанчество. Май 1924 – 31 мая 1925. Документы. – Илин, 1998, № 1.
Источники и литература
Алексеев Е. Кто вы, Артемьев? – Илин, 1991, № 3.
Артемьев И. К. Эпизоды революции на Дальнем Востоке. Б.м., б.г. Байкалов К. К. Воспоминания. Якутск, 1966.
Вишневский Е. К. Аргонавты Белой мечты. Харбин, 1933.
Грачев Г. П. Якутский поход генерала Пепеляева (под редакцией и с примечаниями П. К. Конкина). – Илин, 2006, № 5.
Грязнухин Э. Ефим Курашов. Якутск, 1974.
Гу сейнов Э., Чародеев Г. Я хотел подарить ему частичку России. – Эхо планеты, 1997, № 5.
«Если не пойдешь с нами, то расстреляем». Кем и как создавалась «национальная Тунгусия». Публ. А. Бочарова. – Источник, 1996, № 6.
Иванов В. Н. Генерал Пепеляев. – В кн. Огни в тумане. М., 1991.
Иохельсон В. Заметки о населении Якутской области. – Землеведение, 1895, № 2–3.
Кириллов А. А. Сибирская армия в борьбе за освобождение. – Вольная Сибирь. Прага, 1928, № 4.
Конкин П. К. Встреча (о В. А. Пепеляеве). – Илин, 1999, № 1–2.
Конкин П. К. Драма генерала. – Илин, 1998, № 1.
Короленко В. Г. История моего современника. М., 1965.
Косвен М. Якутская республика. С пред. Кюлюмнюра. М.-Л., 1923.
Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966.
Кротов М. Из истории Гражданской войны. – Якутские зарницы, 1927, № 3.