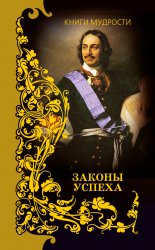Под крылом дракона Лу Терри

Я поперхнулась своим возмущением, замолчала, расширенными глазами глядя на музыканта. Но как он догадался?..
— Ты явно не здешняя — не знаешь местности, обычаев, языка. И уж точно не из знати, у тебя крестьянские манеры. — Фудо говорил зло, грубо, схватив меня за плечи и время от времени потряхивая в такт своим безжалостным словам. — Ну а то, что ты девушка, не заметит только слепой. Или дракон.
Я опустила голову. Мне нечего было возразить.
— Тебе нужно бежать! Сейчас. Немедленно!
Я подняла на него слезящиеся глаза и невольно вскрикнула — к нам медленно, улыбаясь, как сытый Чеширский кот, шел Барух.
Проследив за моим взглядом, Фудо чертыхнулся. Пальцы на моих плечах сжались совсем уж немилосердно, наверное, останутся синяки.
— Не успеешь. Он уже знает.
— Что же мне делать? — Голос не слушался. Я во все глаза смотрела на Фудо. Он был единственным, кто мог помочь.
— Сейчас я уйду, а ты поговори с Барухом. Постарайся как-то отвлечь его внимание. Я подожгу один из фургонов. Когда начнется пожар — беги!
— А что, если тебя поймают? — прошептала я. — Что будет с тобой?
Лицо Фудо на секунду разгладилось, он улыбнулся.
— Не беспокойся за меня, глупышка. Я не пропаду.
С этими словами он вдруг хлопнул меня по плечу, громогласно расхохотался, словно я сказала что-то невообразимо смешное, и направился к фургонам.
Проводив музыканта прищуренным взглядом, Барух подошел ко мне.
Тяжелая рука с пухлыми пальцами и густой рыжеватой порослью легла мне на плечо. Непроизвольно попятившись, я попыталась сбросить ее, но Барух держал крепко.
— Ну что ж, девочка, пришло время отрабатывать свой хлеб.
Грубые пальцы схватили за подбородок, дернули голову в одну, затем в другую сторону, попытались залезть в рот — Барух рассматривал меня, как рыночную клячу.
— Не красавица. Но пару сотен серебром, пожалуй, выручу…
Я исхитрилась укусить его за палец. Торговец взвыл и отвесил мне оглушительную пощечину. Лицо обожгло болью, перед глазами заплясали черные круги.
— Маленькая тварь! Думаешь, твой хозяин защитит тебя? — Лицо Баруха исказилось ненавистью. — Так знай, он издох! Как и все ему подобные пресмыкающиеся выродки!
Я сплюнула натекшую из прокушенной щеки кровь. Сказала, глядя исподлобья:
— Он придет. Сдерет с тебя шкуру и натянет на барабан.
Барух улыбнулся, широко растягивая губы, похожие на Жирных дождевых червей.
— Сегодня праздник, ты не знала? Голову казненного Хасса-ба привезли в столицу.
— Нет! — Я бросилась на Баруха в отчаянной попытке стереть эту отвратительную улыбку с его лица, но тяжелый кулак ударил меня в живот.
Я упала на землю, прижимая к животу руки и трясясь не столько от боли, сколько от страха, что торговец мог задеть Хууба.
Запутавшись в рубахе, малыш копошился где-то на груди. Осторожно прижимая его ладонью, я поднялась. Ноги не слушались, подгибались.
— Ты лжешь, — твердо сказала я. — Джалу придет и вытрясет твою грязную душу.
Глаза торговца потемнели, он снова занес руку для удара.
Я зажмурилась.
— Пожар!
Одновременно с Барухом мы повернули голову на громкий, взволнованный крик.
Один из фургонов уже пылал вовсю, жадные языки пламени лизали дерево и тканевый навес, на наших глазах огненная змея переползла на соседний фургон.
— Рагхарово племя! — взвыл Барух. — Недоноски! Несите воду!
Воспользовавшись возникшей суматохой, я бросилась в толпу. Барух орал что-то вслед, но я была уверена, что гнаться за мной не станет — товар в фургонах наверняка в десятки раз дороже, чем шкура какой-то девчонки.
Горожане живой рекой отхлынули от места пожара, и я влилась в эту пеструю, испуганную реку, потекла вместе с ней — неважно куда, главное, подальше от страшного торговца и его лживого рта… Я была уверена, что он врет насчет Джалу. Потому что мой дракон не мог умереть.
Я все еще беспокоилась за Фудо, он обещал, что с ним все будет хорошо, и мне очень хотелось в это верить.
Толпа увлекала, несла меня, как легкую щепку.
Господи, Бог-Дракон… если ты есть… А ты есть, я уверена, ведь Джалу верил в тебя! Прошу, пожалуйста, пусть он будет жив… Просто жив…
Небо — глубокое, черное, будто смотришь в бездонный колодец, гладкое, как натянутый шелк: ни облачка, ни звезды… Лишь редкие сполохи приближающейся грозы окрашивают горизонт бледной синевой.
Я стою на краю плато, широко раскинув руки, вдыхаю полной грудью влажный холодный воздух — он оставляет на языке солоновато-горький привкус. Пахнет морем. Здесь всегда пахнет морем.
Тонкими чернильными росчерками мечутся по небу грозовницы. И хочется к ним — шагнуть за край, поймать ветер под кожистое крыло, рассекать воздух, убегая от молний и догоняя тучи… Но отчего же именно сейчас, как никогда прежде, ощущается горечь этой ложной свободы, когда выше облаков не пускают прутья клетки?
Ты раб, дракон, — на тебе звенят цепи.
Подхожу к краю плато, сажусь в привычной манере, свесив ноги над пропастью — ледяной ветер щекочет ступни. Как давно я прихожу сюда, чтобы полюбоваться острыми пиками гор и темным, беспокойным бархатом кромки леса? Не одну сотню лет. И каждый раз неизменно замечаю: что-то меняется — и в далеких очертаниях леса, и в горных грядах, что становятся то ниже, то острее; и дорога к замку словно бы вьется иначе. Ничто не остается неизменным. Даже звезды гаснут, меняя незримый сейчас небесный узор.
Подставляю ладонь ветру. Да, все меняется. Вот и я уже не тот, что прежде. Угасну ли вскоре?
Ветер не дается в руки, молчит.
Запрокидываю голову — первые тяжелые капли дождя падают на лицо.
Перед глазами один и тот же образ: рыжая голова, склоненная к моему плечу. Волосы — мягкие, пушистые и словно объяты огнем, так что кажется, будто я осмелился выкрасть одного из птенцов хальюнгов прямо с горной вершины… В моем видении тоже ночь, но не такая, как сегодня, — сияют звезды, словно рассыпанный речной жемчуг, и в воздухе не пахнет грозой.
Я читаю стихи. Бог-Дракон, я никогда и никому не читал стихов!.. Так зачем?
Глупый старый дракон! Не устану это повторять: я и вправду смешон, как утративший последний разум старик.
Вспомни, как ты не хотел отпускать этого человеческого детеныша — да так, что всю ночь перед прибытием каравана не сомкнул глаз: все думал, как оправдать странное желание… Маленького лисенка нельзя отпускать одного в незнакомый опасный мир, полный зла, предательства и жестокости. Да и Раг О Нар — бездушный ящер, может не сдержать слова, ибо что ему честь? Бессмысленные слова.
Но оправдания были нелепы, как и само желание. Признай, ты просто хотел оставить его себе: быть отцом, другом — кем он захочет…
О, как ты жалок, Ра Джа Лу! Неужели забыл? У тебя нет права распоряжаться чьей-либо жизнью… Бог-Дракон, ты даже своей не смог распорядиться достойно!
Хотя к чему все эти терзания? С тех пор прошло почти две недели. Лис, должно быть, уже дома.
Дождь усиливается, заливает глаза, но я не смыкаю веки. Два солнца — алое и белое — пылают на черном полотне.
Не смотри на меня так, Тысячеокий, — я больше не жду искупления.
Искупление… какое глупое слово. Будто я пытаюсь выкупить у тебя собственную совесть.
Знаешь, Отец… я понял это совсем недавно: даже если ты вновь примешь под крыло своего сына, то мне самому — ни за что не простить себя.
Я уже не знаю, есть ли хоть какая-то мера страданий за грех отнятой жизни… А за тысячи невинных? И если есть, то сколько сердец в моей груди должно разорваться от боли и раскаяния, чтобы я получил то самое искупление? И не станет ли этой мерой моя собственная жизнь? А если и станет, то что мне терять…
Молния вдруг разрезает небесное полотно совсем близко. Грозовницы кругами спускаются к земле. Я чувствую запах — странный, неясный: так не пахнет ни море, ни лес, ни прибитая дождем пыльная дорога.
Запах знаком — до хрипа в груди, до трясущихся рук…
Я поднимаюсь на ноги, до рези в глазах вглядываюсь в даль — и вижу, как сквозь пелену дождя и белые отблески молний у самого края леса бесконечной рекой разливаются огни.
Факелы!
Я хозяин этих земель и слышу шелест каждого листа в кронах деревьев, шорох озерной змеи в камышах, дыхание пятнистой кошки, подстерегающей лань…
Но не их. Как и два века назад, инквизиторы двигаются быстро, бесшумно. Им ни к чему факелы, но они хотят, чтоб я их видел.
Я хохочу как безумный, и этот смех раздирает мне глотку. Я знал, что однажды это случится! Истинный хищник никогда не оставит свою жертву… и вот они вернулись за мной.
Широко развожу руки, наполняя легкие одуряюще чистым, трескучим от разрядов молний воздухом.
Кажется, я почти счастлив. Наконец-то!
Где-то глубоко, в подземельях замка, оживает черная глыба. Ярость и сила, заключенные в ней, просыпаются, зовут меня, сулят спасение. Я лишь смеюсь им в лицо. Нет! У вас больше нет власти надо мной! Как нет власти у правосудия над преступником, чья шея уже в петле.
Делаю шаг в пропасть, дождь и ветер хлещут по лицу… Трещат кости и разрываются сухожилия, и я кричу: не от боли, что чувствую в последний раз, — от предвкушения битвы.
Крылья раздуваются, как паруса, ловят попутный ветер. Взмываю высоко в небо, замираю над крышей замка. Черный шелк горизонта полыхает молниями.
Река из факелов, горящих ровно даже под тугими струями дождя, уже совсем близко, так что я могу различить вытянутые силуэты в глухих плащах, сияющую белую кожу, слепые бельма глаз без зрачков.
Вот оно — искупление! Спасибо, Отец…
Протяжно, как раненый волк, воет ветер, и неровно стучат сердца в такт его завываниям…
Где-то в глубине сознания загнанной птицей бьется мысль: «А что будет с ним? Вдруг не успел добраться?»
Но времени на размышления нет. Есть только мы: я и движущаяся навстречу молчаливая гибель.
Раскрываю пасть до хруста в челюстях — и рев, смешанный с густым чадящим огнем, перекрывает шум грома…
Я принимаю бой!
ГЛАВА 18
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Толпа, шумная, потная, вздымающая гребень из разноцветных зонтиков, шевелящая тысячами рук и ног, проглотила меня, будто хищник, и поволокла в своем брюхе в неизвестном направлении.
Не способная ступить и шагу вопреки воле этого безумного потока, я чувствовала себя мухой, жалко трепещущей крылышками на клейкой ленте.
Устав бороться, я обмякла, зажатая между дородной дамой и подозрительным типом в растянутом свитере и лоснящемся от грязи кепи. Он немедленно попытался ощупать мою дорожную сумку, единственным сокровищем в которой были шахматы, подаренные Зазу. Не мудрствуя лукаво, я извернулась и с наслаждением заехала воришке локтем в живот — тот заскулил, как побитый пес, и растворился в водовороте человеческих тел.
Мысли, рваные, бессвязные, столпились в моей голове, словно решив устроить забастовку, кричали на разные голоса, перебивая друг друга.
Думай, Лис, думай… Что ты будешь делать, когда выберешься отсюда? Если, конечно, выберешься…
Перспектива добраться до противоположной стороны улицы живой и невредимой с каждой секундой становилась все безнадежней.
Дородная тетка, на чьей спине я практически распласталась, заподозрив в крамольных мыслях, попыталась ткнуть меня острым, как игла, концом сложенного зонтика.
Я увернулась и не стала скандалить — не было сил.
Джалу… Мой крылатый друг, мой дракон… где ты сейчас? Глупый вопрос. Разумеется, в своей комнате с бокалом вина, греешься у камина — ведь в замке всегда такие сквозняки… Я знаю, торговец солгал мне.
Ты слишком сильный. Ты не допустишь…
Нет, хватит! Глупая Лис, время ли думать о других, когда собственная шкура горит? Тебя станут искать — не сегодня, так завтра… И ведь найдут! Девчонка, одна, в незнакомом городе, да что там… в незнакомом мире! Что ты можешь? Если схватит Барух — продаст в рабство, а если Инквизиция… Об этом не хотелось думать.
Огромное чудовище, умело притворяющееся толпой, вдруг остановилось, всколыхнув напоследок все свое гигантское тело, и выплюнуло меня, как застрявшую в горле кость.
Я очутилась на площади. Здесь было так людно, что на каменную кладку, едва виднеющуюся между ботинками и туфельками, не упало бы и яблоко.
В моих легких, забитых пылью и острым запахом грязных тел, смешанным со сладким ароматом духов, уже не осталось места для глотка чистого воздуха, да его и не было.
В отчаянии, с трудом удерживаясь на ногах — от недостатка воздуха кружилась голова, — я заозиралась вокруг, ища спасительную соломинку. И она нашлась — даже не соломинка, а целый деревянный столб, возвышающийся над крышами невысоких домов и мрачно глядящий на творящееся внизу безобразие одним-единственным стеклянным глазом.
Отдавив пару ног и получив лишь одну, зато весьма ощутимую мстительную затрещину, я наконец добралась до фонарного столба, вскарабкалась на него с ловкостью обезьяны. Помню, еще в детстве, всем мальчишкам на зависть, я могла перелезть через любой забор, чем и пользовалась самым бессовестным образом, воруя на даче соседские яблоки.
Здесь было гораздо легче дышать, от жадности я даже открыла рот, наполняя легкие чистым, пусть и горячим воздухом. Солнце слепило так, что пришлось приложить ладонь козырьком ко лбу, спасая глаза от палящих лучей.
Мне открылось пугающее, безумное и одновременно величественное зрелище: толпа — то самое чудище, приволокшее меня сюда, — разрослась, заполнила каждый уголок огромной площади. Разноцветный поток человеческих тел обтекал широкий деревянный помост, возвышающийся в центре.
На помосте стоял человек — высокий, прямой как жердь, в длинном сером плаще, застегнутом на множество мелких, сверкающих начищенной медью пуговиц. Нижнюю часть лица скрывал высокий глухой воротник, верхнюю — широкополая шляпа насыщенного бордового цвета, так что открытыми оставались лишь орлиный нос и глаза, сливающиеся под тенью от шляпы в одну черную полосу. В руках он держал какой-то свиток.
Когда этот странно одетый человек, приосанившись, развернул бумагу и зычным голосом стал читать что-то на незнакомом языке, горожане заволновались.
Мужчины затрясли кулаками, некоторые от избытка чувств срывали с голов кепи, подбрасывали вверх. Женщины вели себя скромнее, зато ребятня надрывалась вовсю. Я не понимала ни слова, но их выкрики странно сочетали в себе восторг и возмущение.
— Хасса-ба тахма! — четко произнес мужчина на помосте.
На короткое мгновение над площадью повисла оглушительная тишина. Ее прорезал тонкий, едва слышный плач младенца…
И тут толпа взорвалась. Боясь оглохнуть от безумных воплей, я попыталась закрыть уши руками и едва не сверзилась со своей наблюдательной вышки.
— Тахма! — кричали люди, срывая глотки. — Хасса-ба! Тахма! Тахма!
Мне стало страшно — такой яростью и злобой был наполнен каждый вопль. Лица вокруг стали совершенно нечеловеческими: куда ни глянь — черные провалы ртов и глаз и пляшущий в них безумный огонь ненависти.
— Хасса-ба! Тахма! Тха! — Мужчина на помосте не кричал и, казалось, даже не повышал голоса, но его слова гремели над площадью, заглушая безумный рев толпы.
К горлу подкатила тошнота, руки ослабли, так что я едва удерживалась на столбе. Я только сейчас сообразила, что речь идет о драконе. И не о каком-нибудь, а о моем! О Джалу… Хасса-ба.
Господи, Бог-Дракон, я бы многое отдала за возможность понимать, о чем говорит этот мужчина в нелепой шляпе!
Человек на помосте замолчал, сложил бумагу и подал знак кому-то внизу.
Двое мужчин в глухих плащах и широкополых черных шляпах втащили по лестнице мешок. Он был огромным и, судя по всему, тяжелым, как валун. По грубой серой мешковине расползлись влажные черные пятна.
Не чувствуя сведенных судорогой рук, я чуть сползла вниз по столбу, но тут же вскарабкалась обратно, страшась многоликого чудовища, распластавшегося подо мной.
Человек в бордовой шляпе сделал повелительный жест — подчиненные принялись развязывать мешок.
Как по команде люди смолкли. Все вокруг погрузилось в почти осязаемую, вязкую тишину.
Стало нечем дышать, я захлопала ртом, будто вместо легких у меня прорезались бесполезные рыбьи жабры. В воздухе появился острый, металлический запах крови.
Прошло несколько томительных секунд…
Я смотрела, как две пары жилистых рук, ухватившись за роговые отростки, демонстративно медленно поднимают голову. Высоко-высоко — так, чтобы увидели все, даже в самых дальних уголках площади.
Тусклые янтарные глаза смотрели прямо на меня.
В них слабыми бликами отражались два солнца, тяжелые облака и лица людей, перекошенные злобой.
А еще в них отражалась я.
Нет… только я.
Глаза дракона смотрели спокойно, без сожаления и горечи. Казалось, он жив и сейчас подмигнет мне в обычной лукавой манере или выпустит из ноздрей возмущенные струйки дыма… Я глядела в эти знакомые, родные глаза и не хотела замечать ни сведенной в смертной судороге пасти, ни черных вязких капель, падающих из отрубленной шеи на грязные деревянные доски помоста…
Но я видела. Видела все!
Я сползла со столба, содрав кожу на ладонях и даже не чувствуя боли. Расталкивая толпу, не обращая внимания на тычки и затрещины, бросилась прочь. Чудище орало мне вслед — оно ликовало, насыщая свое жадное чрево кровавым зрелищем.
— Хасса-ба! Хасса-ба тахма! — кричали черные провалы ртов.
Теперь я знала, о чем эти крики.
Переполненная, возбужденная площадь выплюнула меня в узкий переулок.
Стоило попасть в его прохладный полумрак, как жуткие спазмы скрутили живот и меня вырвало желчью. Отдышавшись, не глядя, я двинулась вперед, машинально переставляя дрожащие ноги, спотыкаясь о неровную кладку.
Шла, как в бреду, не замечая ничего вокруг. Меня бросало от стены к стене. Редкие прохожие отшатывались, принимая, видимо, за больную или пьяную.
В какой-то момент я поняла, что не смогу больше ступить ни шагу. Ноги подкосились, и я сползала по стене, всем телом прижимаясь к прохладному камню. Замерла, обхватив колени руками.
Мыслей не было. Лишь тупая, страшная боль где-то внутри. Будто меня привезли в морг, ошибочно приняв за мертвую, и патологоанатом в белой шапочке прямо сейчас, в эту секунду, вскрывает грудь огромными зазубренными ножницами. А я не могу пошевелиться, но все чувствую! И ледяные пальцы на своей груди, и металлические жвала, кромсающие ребра…
Снег идет… Снег с дождем. Я подняла голову, на лицо упали первые ледяные капли. Так странно. Разве сейчас не лето? Хотя кто разберет здешние безумные времена года…
Как там говорил? Джалу? «Королевский метеоролог напился». Он имел в виду свою страну? Или все метеорологи в этом мире любят приложиться к бутылке? Нервная, видимо, работа…
Господи, о чем я только думаю?
Я откинула голову, сильно приложившись затылком о стену, и истерично расхохоталась, спугнув какую-то благообразную старушку, засеменившую прочь, словно она увидела дьявола.
Наверное, так и сходят с ума. Сначала в голову закрадываются первые бредовые мысли, лишенные логики и всякого смысла… А затем все, на что остается сил у воспаленного разума, — лишь гротескные, хаотичные видения. Но, может, так будет легче? Пускай в голове царствует безумие! Только бы боль, глубокая, разрывающая сердце, ушла. Потому что иначе я умру, ведь некому будет гонять кровь по жилам.
Смех прервался, перешел в сухой кашель. Я мучительно искривила рот: так хотелось заплакать, но отчего-то не получалось.
Джалу мертв.
Эта мысль, единственная четкая за все время, вдруг бесцеремонно ворвалась в сознание, по-хозяйски развалилась, заполнила собой все…
Кто-то милосердный внутри меня наконец щелкнул выключателем…
И я разревелась. Громко, не стесняясь своего горя, во всю глотку. Горячие соленые слезы заливали щеки, щипали кожу, попадали в рот…
Глотая солоновато-горькие капли, я все ждала, когда мне станет легче… но легче не становилось.
Больше не будет.
Я укусила себя за руку — вцепилась, как хищник, в запястье, до крови.
Не будет крыльев, защищающих от опасности, и теплых, все понимающих глаз. Не будет запаха трав, смешанного с ароматом ванильной выпечки…
Джалу оставил меня. Он мертв…
Иногда так бывает: горе становится больше, чем его хозяин. Сначала оно разрастается — вширь и ввысь, расплавленным свинцом заполняет тело до кончиков пальцев. Потом ему становится тесно, и горе вырывается наружу — материализуется, салютует напоследок и уходит, гремя тяжелыми шагами по мостовой.
А ты, неудачник, остаешься ни с чем. Потому что горе, отменный вор, уносит с собой все: и боль, и страх, и горечь… и даже остатки мыслей. Ну а больше у тебя и нет ничего. Пустая оболочка с бессмысленным взглядом…
Не знаю, как долго я просидела вот так: вцепившись зубами в собственную руку, ничего не замечая вокруг.
Я очнулась в том же переулке — мокрая с головы до ног, дрожащая от холода. Кисти рук онемели, веки опухли от слез.
Ступни, не спасенные старыми кроссовками, заледенели так, что уже не чувствовались. Дождь все не кончался, и холод неприятными скользкими змейками вползал вверх по бедрам, забирался под рубашку. Я закрыла глаза, не пряча лицо от жестких ледяных струй.
Я умру здесь?
Хотя какая разница… Не в этой подворотне, так в каком-нибудь другом месте.
Домой путь закрыт. Рано или поздно меня схватит Барух — так не лучше ли умереть сейчас, чем сгнить у кого-нибудь в рабстве или в застенках Инквизиции? Я не знаю, что такое пытки, и, видит Бог, не хочу знать.
Джалу больше нет, Лис. Нужно смотреть правде в глаза: твой хвостатый «Чип и Дейл» не примчится на помощь…
Теплый маленький комочек на груди завозился. Все это время Хууб не издавал ни звука и, кажется, даже не двигался. Сейчас его черные глаза, похожие на волчьи ягоды, смотрели жалобно и грустно. Черная шерстка слиплась от влаги; малыш, явно замерзший, дрожал всем тельцем.
Он ведь тоже умрет.
Неожиданная мысль раскаленной иглой пронзила мозг. Может быть, надо мной, как в страшных легендах, висит проклятие? И всех, кто мне дорог, должна постигнуть гибель? Темка, Джалу…
Я вздернула подбородок, сцепив зубы до хруста в челюстях.
Нет! Не допущу! Не позволю еще одному дорогому мне существу погибнуть!
С меня словно спала паутина оцепенения. Я зашарила глазами, ища укрытие. Оно нашлось — под широким оконным козырьком на противоположной стене.
Прижимая Хууба к груди, я быстро перебежала на сухой клочок земли, но и здесь ледяные струи дождя не оставляли в покое, прицельно метя в лицо и обнаженные озябшие руки.
В переулке почти никого не было. Редкие прохожие, прячась под зонтиками, быстро проходили мимо. Я попыталась отогреть мышонка дыханием, но зашлась сухим болезненным кашлем.
Мы замерзнем… Это так глупо, учитывая, что я, вопреки всему, решила жить.
В голове крутилась неясная мысль — какое-то воспоминание. Оно было расплывчатым, но определенно связанным с теплом.
Нет, не так… с огнем! Теперь мысль была четкой.
А, саламандр-р-ра! Выбора все равно нет.
Сложив ладони ковшиком, поднесла к лицу.
«По венам пламя… Зри!» — слова будто бы сами сорвались с губ.
Несколько секунд ничего не происходило — я даже успела отчаяться и три раза проклясть свою лживую память.
Над ладонями вдруг полыхнула искорка… а через мгновение в них, как в пиале с маслом, уже плясал огонь. Я с трудом поборола в себе желание заорать что есть сил и стряхнуть его — все инстинкты кричали, что должно быть очень больно… Но боли не было. Лишь мягкое тепло, разливающееся от рук по всему телу.
Хууб оживился, стал карабкаться поближе к огню, легонько царапаясь коготками и щекоча руку пушистым брюшком.
Я слабо улыбнулась, наблюдая за его манипуляциями. Ну наконец-то от меня хоть какая-то польза.
Прошло несколько минут. Мы уже почти согрелись, и я чувствовала себя совсем как андерсеновская героиня — этакая «девочка со спичками», разве что чуть более удачливая. Хотя, конечно, с какой стороны посмотреть…
— Как ты это сделала, дитя?
Низкий приятный голос заставил сжаться и резко вскинуть голову.
В нескольких шагах от меня стоял высокий темноволосый мужчина лет сорока в длинном черном плаще с раскрытым над головой зонтом. Он опирался на трость с вычурным металлическим набалдашником.
Мне почему-то показалось, что нужно ответить. Не из вежливости. Просто нужно, и все.
— Случайно… — Голос у меня был тихий, срывающийся от недавних рыданий.
— Врешь. — Узкие губы под полоской франтовских усов улыбнулись легко и непринужденно. Но вот глаза, светлые, холодные, были серьезны.
Мы помолчали. Мужчина все не уходил. Да что, василиск подери, ему нужно? Мне хотелось остаться одной — слезы были выплаканы, но горечь и боль все еще клубились внутри, не желая покидать благодатное пристанище.
— В книге одной вычитала, — наконец сказала я неохотно.
— Ты знаешь, что использовать огненную магию в городе запрещено?
Страшная усталость каменной плитой навалилась на Плечи. Захотелось сжаться в комок, превратиться в неприметный гранитный камушек на мостовой.
— Посадите в тюрьму? — почти равнодушно спросила я.
Незнакомец покачал головой.
— Будь ты моей студенткой, отчислил бы сию же минуту. — Он усмехнулся. — Я, собственно, и пришел сюда ловить с поличным… Но у меня возникла другая идея.
Мужчина оказался вдруг совсем близко, так что от невольного испуга я вздрогнула и сильнее вжалась в стену.
— Меня зовут Амадэус Крам, я — ректор Тальзарской академии магии. Полагаю, ты слышала о такой? — Мужчина улыбнулся так, что сразу стало ясно: вопрос риторический. — Я хочу, чтобы ты стала моей ученицей.
Он протянул руку, и несколько секунд я тупо таращилась на широкую ладонь, затянутую в черную кожаную перчатку. Мое удивление было настолько огромным, что я перестала шмыгать носом и даже почти забыла о боли, терзающей нутро.
— Такие предложения не делают дважды, решай скорей.
Стать магом? Одним из тех, кто убил Джалу? Мысли лихорадочно метались в голове, зубы отстукивали чечетку — и вовсе не потому, что мне было холодно.
Хууб завозился, ткнулся в шею влажным озябшим пятачком.
— Ну же! — Голос стал жестче.
Я решительно схватила ладонь.
— Согласна!
Прошлого не вернуть, зато будущее зависит лишь от меня…
Сцепив зубы, я поднялась, не выпуская жесткую ладонь в скользкой перчатке. Дождь все не прекращался, но теперь нас с Хуубом укрывал огромный черный зонт.
В мечущийся под порывами ветра флюгер на крыше невысокого дома ударила молния. Не осознавая, что делаю, я протянула руку, растопырила пятерню, будто пытаясь схватить исчезающую электрическую змею за белый хвост. Магия… Я смогу управлять и такой силой?
Перед глазами всплыла голова — отсеченная, сочащаяся кровью, грубо вздернутая над неистовыми лицами.