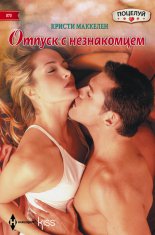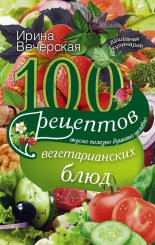Зак и Мия Беттс А.

– Из интернета?
Она пожимает плечами и отворачивается.
– Какой он из себя?
– Обычный. Ничего особенного.
До моей болезни мама ходила на свидания со всеми, кто звал. Она держала эти встречи в секрете, ну или надеялась, что я не знаю. Думаю, для тех мужчин она казалась загадочной, глубокой незнакомкой, и они были не против отношений, но в действительности она была невротичной матерью-одиночкой, которая не может сладить с собственной дочерью. Это у нее я научилась притворяться и подбирать маску под аудиторию.
Жить в тесноте было непросто. Если я приходила домой счастливой, она портила мне настроение – то ли из ревности, то ли назло. Я делала точно так же. Мы вечно действовали друг другу на нервы. Она считала, что я испортила ей жизнь, а я считала, что она испортила жизнь нам обеим. На людях она нередко меня позорила, так что я держалась на расстоянии. Дома она вечно ко мне цеплялась. Что бы я ни делала, все было не так.
Сейчас она зарылась носом в цветы на кухне. Удивительно: любой мужчина может заставить ее улыбнуться, а для меня это непосильная задача.
Выходит, где-то есть мужчина, который видит в маме интересную 34-летнюю женщину. Достаточно интересную, чтобы купить ей дюжину роз, написать от руки записку и принести к порогу ее дома. Для этого нужна смелость.
Я наливаю воды в кувшин и ставлю в него розы. Пусть у мамы все будет хорошо. Это неважно, что мне сейчас одиноко. Пусть маму кто-то любит, даже если меня не любит никто.
Тогда она обнимает меня, и я думаю, что кто-то все же любит.
Четыре дня спустя я снова иду к почтовому ящику, и на полпути рядом останавливается грузовик. Из него выходит грузчик, достает из кузова дерево в кадке, которое ставит в тачку и спускает по трапу ко мне. К дереву привязана лопата.
– Куда прикажете? – спрашивает он, глядя на меня.
– Вы, кажется, ошиблись адресом.
Он сверяется с какими-то бумагами.
– Написано – для Мии Филлипс. Это не вы?
Я удивленно киваю. Дерево выше меня, с упругими ветками и серебристо-зелеными листьями. Грузчик для пущей убедительности демонстрирует мне мое имя в форе доставки.
– И что мне с ним делать?
– А мне почем знать, мое дело доставить.
Расписываясь в бланке, я замечаю, что в кузове коробки с надписью «Добрая Олива».
– Там оливковое масло, да?
– Я просто доставщик, ничего не знаю.
Он предлагает закатить дерево в дом, и я соглашаюсь. Потом он с шумом разворачивается, чтобы выехать из тупика.
– Мия? – мама с трудом пролезает в дверь. – Что это?
– Лечино. Или Мансанилья. Она еще слишком молодая, не пойму, какой сорт.
– Чего?..
– Это оливковое дерево. И его придется посадить.
– Зачем?
– Потому что деревья положено сажать.
Она снимает туфли и критически смотрит на землю, рассыпавшуюся по ковру.
– Кому пришло в голову подарить нам дерево?
Я улыбаюсь и молчу. Она еще не знает про Зака.
Она находит в горшке открытку и протягивает ее мне. На обложке – фотография ярко-оранжевого цветка. Внутри – незнакомый почерк.
С прошедшим днем рождения, Мия! Надеемся', ты хорошо отпраздновала. Мы тут двигали ограду, пришлось выкопать несколько деревьев, и мы подумали, что у тебя найдется приют для этой детки.
Здоровья тебе!
Венди и все-все-все.
Я предпочла бы открытку лично от Зака, но хоть что-то. Я снова смотрю на деревце. Его мягкие листья – предложение помириться.
– Как вообще ухаживают за оливами?
– Без паники, они живучие, – Зак читал мне про это длинную лекцию под одеялом. – Их можно сотни лет никак не удобрять, а они все будут плодоносить.
– Плодоносить, значит, – мама скептически рассматривает дерево. Я смеюсь.
– Нужны земля, вода и солнце, про удобрения в интернете почитаем.
– Думаешь, справимся?
Я пожимаю плечами.
– По яичку да по яблочку.
Мы вдвоем протаскиваем горшок с деревом через весь дом на задний двор. Человек, приславший розы, зовет маму на свидание; я говорю, чтобы обязательно шла. И остаюсь во дворе одна, с самым странным подарком за всю свою жизнь. И вот отличный повод написать наконец сообщение:
Привет, Зак! Передай маме спасибо. Это ты сказал ей про мой ДР? Тогда спасибо обоим. Мия.
P.S.: принимаю советы по посадке;-)
Я хочу добавить, что покрасила стены и потолок в густо-синий, что у меня отросли волосы до плеч, и что я думаю о нем каждую долбаную минуту.
Но я перестраховываюсь и отправляю как есть, а потом сижу, вцепившись в телефон, и жду, что вот-вот придет ответ. Но ответа нет минуту, две, десять. Слишком долго.
Начиная с того первого стука в стенку, Зак всегда отвечал на любой мой зов. Теперь он человек, из-за которого я страдаю над неотвеченной эсэмэской. Он отвлекал меня от жуткой боли, а теперь он стал ее причиной. Тишина невыносима, она завязывает меня в узел, заставляет сомневаться в себе, в нем, во всем на свете. Я не понимаю что происходит на том конце, и мне от этого физически плохо.
Не стоит этого делать, но я пишу еще одно сообщение вдогонку:
Зак, прости, что игнорила тебя. Я тогда схлопнулась в депру. Сейчас мне лучше, но теперь ты меня игноришь, и я боюсь, что схлопнусь от этого снова. Я не хотела тебя потерять. Пожалуйста, не пропадай. И не злись. И прости.
Отправлено.
Глупость и смелость в одном флаконе.
Но он молчит. Час. Два. Три. Телефон, как кирпич в моем кармане. Без поддержки антидепрессантов легче легкого скатиться в ненависть к себе. Туда, где я уродина, которая никому не нужна; где я дура, которая раскатала губу, где таких как я не любят и не хотят; где Зак всего лишь пожалел калеку. И вот они: ярость, жалость, ярость, жалость. Привет, родные. Черт бы вас подрал.
Нужно срочно отвлечься, нужно чем-то себя занять. Я начинаю рыть яму для оливы. На ней оказывается бирка с рекомендациями, и я им следую, чтобы не следовать собственным мыслям, и копаю даже когда заходит солнце.
Я дорыла до глубины в полметра и не останавливаюсь. Мышцы сводит от усталости, но я рою все глубже, выгребая из ямы мелкие камешки. Брошюры советуют: найди себе занятие. Ну вот, нашла! Подтянув дерево к себе, я его чуть наклоняю, вынимаю из горшка, потом становлюсь на колени и сначала запихиваю его в яму вместе с комом земли, потом выравниваю ствол, заполняя пустоты рыхлой жесткой почвой. Затем утрамбовываю все, как сказано на бирке.
Когда я выпрямляюсь, у меня болит все тело, и я вся измазана в земле. Я потеряла счет времени – уже так поздно, что, наверное, настало завтра. Но мне хорошо. Я посадила дерево. Я сделала что-то настоящее.
Олива теперь с меня ростом. Где-то внутри ее корни будут прощупывать новую почву, испуганно искать, за что ухватиться. Но здесь, на уровне глаз, ветки невозмутимы, а листья неподвижны. Просто дыши, Мия, говорю я себе. Будь так же неподвижна.
Я принимаю душ, и под ноги стекает коричневая вода. Все силы уходят просто на то, чтобы не впадать в ненависть к себе. Нужно удалить номер Зака из телефона. Чтобы не было искушения написать еще раз.
Я не перенесу еще одного отказа.
Пообщаюсь завтра с Шаей. Можно написать е-мейл Тамаре, с которой мы учились в начальной школе. Ее потом перевели в школу для девочек, и мы потеряли связь, точнее сказать, я не пыталась ее поддерживать. Было бы здорово повидаться сейчас, узнать, кто как закончил школу, поболтать о мальчишках, и о чем еще болтают обычные люди. Короче, я завтра выберусь из дома любой ценой и не буду поддаваться разочарованию из-за Зака.
Чистая, но обессиленная, я выключаю в спальне свет и заползаю под одеяло. Затем отдираю от стенки звездочку и бросаю под кровать.
И тут трынькает телефон. На часах – три утра.
Я не злюсь, Мия. Не грусти. Извини, были дела.
У меня новости, еще напишу…
Мия
Поезд замедляет ход, и я шагаю к выходу, придерживаясь за поручни, когда они попадаются. Какой-то мальчик, заметив мою хромоту, смотрит на меня вопросительно.
– Нога затекла, – говорю я, и он отворачивается обратно к окну.
На станции «Шоуграундс» двери открываются навстречу приглушенной мешанине рок-песен, громкоговорителей и динамо-машин. Даже отсюда видны металлические клетки, мечущиеся и бьющиеся на месте, и крошечные лапы, описывающие истеричные дуги. Дети рядом со мной визжат и спрыгивают на платформу, родители с колясками спешат за ними следом.
Я иду за ними по переходу, ведущему к туннелю и входу на территорию. Очереди гусеницами изгибаются и упираются в турникеты. Я занимаю место в очереди. Здесь только я пришла одна, только я нервничаю больше, чем предвкушаю. Вдруг я наткнусь на кого-нибудь из школы?
Очередь продвигается вперед, и есть только одна причина, по которой я продвигаюсь вместе с ней.
Я держу ее в заднем кармане.
Привет, Мия.
Пишу тебе из Лос-Анджелеса – родины «Береговой охраны», фальшивого загара и чуваков на роликах. Папа и Эван сходят с ума от счастья.
Учеба в 12-м по второму кругу, скажу тебе, то еще испытание. К тому же, я замотался со сбором слив, потом вернулся Антон, а Бекки родила Стюарта. Потом в этот бардак втесалась тема с фондом «Загадай желание», так что я закончил подготовку к выпускным и на следующий же день сел на самолет в Америку. Маршрут – Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Диснейленд. И все семейство полетело со мной. Вчера были на автобусной экскурсии, где показывали заборы голливудских звезд. Водитель заметил какую-то Джейн Фонду, которая выгуливала собаку. Эван клянется, что видел Шварценеггера.
У меня в телефоне нет роуминга, но скоро я пришлю еще открытку.
Надеюсь, у тебя все хорошо.
Зак.
P.S.: Можно попросить тебя об одолжении? Шебу везут на ярмарку в Перт, и Бекки очень хочет увидеть фотки. Открытие в следующее воскресенье, в 2 часа дня. Съездишь? Деньги за билет верну… или вычту из чека за кофе;-)
P.P.S.: Наша соседка Мириам идет на рекорд: ее торт выигрывает первое место на конкурсах уже десять лет подряд. Секретный ингредиент – наше масло со вкусом цитруса!
P.P.P.S.: Если что, шоколадные наборы «Фреддо» – лучшие.
Я перечитала эту открытку раз сто. Так здорово получить от него весточку с другого конца света. И я так счастлива, что он меня не забыл.
Протягиваю на входе двадцатку за билет и проталкиваюсь через турникет на ярмарку, где перемешаны запахи сена, навоза и фаст-фуда, а в воздухе висит земляная пыль от тысяч пар ног. Я была тут раньше, но не замечала, что так воняет. Впрочем, я никогда не была тут одна.
Два года назад нас было двадцать человек, мы приехали вечером в среду. Кажется, большую часть времени мы проторчали в очередях на аттракционы, но это окупалось божественными минутами полета под немыслимыми углами, в отчаянной надежде, что никого не стошнит, и что никто не наложит в штаны. Потом мы шатались по пыльным дорожкам, иногда зависая в тире или других киосках с призами. А перед закрытием мы остервенело скупали сувенирные наборы с Губкой Бобом, «Angry Birds», шоколадным лягушонком Фреддо и светящимися в темноте вещицами. В самом конце, в ожидании поезда, мы надували шары и обвешивались пластмассовыми бирюльками, ностальгируя по временам, когда в эти наборы клали по-настоящему прикольные вещи.
В начальной школе я приезжала на ярмарку с Тамарой и ее старшей сестрой. Мы вселяли друг в друга смелость сесть на американские горки и потом переживали все заново еще несколько часов, давясь смехом и шоколадными чипсами. Тамарина сестра выиграла для нее большого зеленого пса в игре на ловкость, и я была под впечатлением. Я была уверена, что никому не удается выиграть призы с самого верхнего ряда. Конечно, я хотела это все – зеленого пса, старшую сестру. Для меня у нее получилось выиграть только маленького пингвинчика, с которым я спала, пока он не лопнул по швам.
А еще раньше моим любимым аттракционом было колесо обозрения. Я садилась в кресло между бабушкой и дедушкой. Помню сладкое чувство восторга, когда кабинка первый раз отрывалась от земли и двигалась вверх, вопреки притяжению, и ярмарка превращалась в миниатюру.
– Смотри, какая красота, – говорили бабушка с дедушкой на самом верху, где наши лица обдувал прохладный ветерок. Потом мы опускались вниз, где маленькое снова становилось большим, где царили запахи фритюра и сахарной ваты, и можно было расслышать отдельные голоса из общего гула.
Когда кабинка замирала, я расстраивалась и просила прокатиться еще один круг. И старики соглашались, потому что были готовы потакать любым моим прихотям до самого момента возвращения домой, к родителям. Там меня целовали на прощание, и бабушка говорила:
– Будь умницей, Мия.
Я провожала их машину взглядом, потом слушала как вдали стихает мотор. Мама только тогда открывала мне дверь.
Раньше мне казалось, что у женщин так принято – ненавидеть своих родителей. Не пускать их на порог из-за каких-то давних обид. Поэтому когда я возненавидела маму, это не казалось чем-то особенным, и ее ответная ненависть не была удивительной. Мы разговаривали упреками. Было проще друг друга не слушать, потому что ничего, кроме оскорблений, услышать было нельзя.
Игрушечные карапузы глазеют на меня с витрины невидящим взглядом. Они точно такие же, как в детстве, тогда как бабушки с дедушкой уже нет в живых, и детство кончилось.
Я вздыхаю и вливаюсь в поток людей, не думая, куда он ведет. Так меня заносит в какие-то душные павильоны с бесплатными дегустациями и выносит с другого конца, где стоят выряженные работники «беспроигрышных лотерей», которые заманивают наивных попытать счастья. Я продолжаю идти в общем потоке и оказываюсь где-то между автодромом и тоннелем ужасов.
Мне даже нравится эта суета; нравится, что Королевская ярмарка остается неизменной годами – люди мельтешат туда-сюда, тратят деньги на двухминутное «вау», жрут вредную еду, ведутся на все громкое и красочное, как дети, как будто в мире нет рака и других страшных вещей. Из тысячи сегодняшних посетителей рак найдут у каждого второго. Каждый пятый от него умрет. У многих, наверное, болеет или умер кто-то из родных. И все равно они бьются бамперами на автодроме и ржут над отражениями в кривых зеркалах.
И тут я вижу его.
Райс стоит у ряда кривых зеркал и корчит рожи. Рядом – симпатичная девушка с лиловой обезьянкой на плечах. И это зрелище меня парализует. Я много недель о нем не вспоминала. Кажется, меня сейчас стошнит.
Они хохочут и кривляются. На Райсе новая кепка. Девушка, вроде, из нашей школы, учится классом младше.
Потом он уводит ее, продолжая дурачиться по пути, чтобы она смеялась, и она смеется. Я завороженно иду за ними следом и наблюдаю издалека, как он невзначай запускает ей руку в задний карман шортиков. Он так же делал со мной. Потом они останавливаются у киоска и покупают билеты на гигантскую надувную горку. Это при том, что он боится высоты.
Пока они стоят в очереди, я наблюдаю, как он чуть наклоняет голову, когда она говорит. Беспроигрышный ход: сразу кажется, что ему жутко интересно и ты для него весь мир. Она хихикает и теребит кулон на шее: полсердечка на цепочке. Когда он наклоняется, чтобы ее поцеловать, я отворачиваюсь.
Нельзя любить вполсердца, Райс. Она потом это поймет, когда вырастет из этих шортиков, из этой обезьянки, и вместе с ними – из тебя.
Я иду дальше. Клоуны в огромных париках машут мне руками. Не надо плакать, как бы говорят они. И я не плачу.
Не из-за клоунов, а потому что у меня в кармане лежит открытка Зака.
В павильоне с альпаками – сотни клеток, поэтому я не сразу нахожу Шебу. Она смотрит на меня огромными глазами, как бы говоря: «А, это ты. Ну, чего уставилась, вытаскивай меня отсюда».
Она ведет себя хуже всех: уворачивается, когда судьи заглядывают ей в зубы и оценивают шерсть. Она не любит, когда ее трогает кто-нибудь, кроме Бекки. Затаив дыхание, я вместе с разношерстной публикой наблюдаю, как немолодой судья ходит вокруг нее, нагибается, приседает и осматривает. И очень вовремя уворачивается от шебиного взбрыка. Зрители цокают языками.
Я фотографирую на телефон, как Шебу провожают назад в клетку, без награды.
Я и не знала, что столько ферм разводит альпак, и что существует так много пород овец: полл-дорсеты, белые саффолки, обычные саффолки и белые дорперы. Фермеры в джинсовых и фланелевых рубашках обсуждают цены на продажу. Некоторые из молодых напоминают Зака: так же опираются о забор, будто он поставлен не для ограды, а для помощи в размышлениях.
Боже, как мне его сейчас не хватает. Но он далеко, поглощен своими приключениями. Я покупаю для него набор с Фроддо, а в поезде по дороге домой перечитываю открытку, представляя его голос.
Кто бы мог подумать, что его потянет в Диснейленд?
Мия
Шесть дней спустя приходит конверт из Америки. Внутри две вещи: открытка от Зака и рецепт крупным почерком Венди.
Привет, Мия!
Мы сейчас в Сан-Франциско – на родине китайских печенек с предсказанием, джинсов, ирландского кофе и кучи знаменитых чудаков. Опять видели звезду: Робин Уильямс, жрущий бублик. Представляешь, какое везение?
Как там Шеба? Что с тортом Мириам – небось, опять всех победила? Мама говорит, что даст тебе рецепту если поклянешься хранить его в, цитирую, «страшном секрете». От такого не отказываются, хе-хе.
Завтра в программе Диснейленд. Не знаю, какой тебе прихватить сувенир. Придется угадывать, кто там твой любимый персонаж. Белоснежка, нет? Папа всю жизнь нас веселил, изображая Микки-Мауса – натянет штаны до подмышек, выпятит пузо и разговаривает писком. А Эван с детства обожает Покахонтас. Надеюсь, он сможет завтра себя контролировать.
Так, мама говорит завязывать, у пег послеобеденный «Старбакс» по расписанию.
Пожелай мне удачи.
Зак
Мне непросто представить Зака в Сан-Франциско. Там не будет петушиного кукареканья, чтобы будить по утрам. Не будет тяжелых резиновых сапог и длинных розовых перчаток.
Я перечитываю письмо на пути в ампутационную клинику, где мне будут подтягивать протез. Перечитываю снова, подсчитывая упоминания везения. Как типично для него использовать это слово всуе.
И он не единственный. Во время химиотерапии врачи постоянно повторяли это моей маме – им хватало ума не пробовать этого со мной. Повезло, что мы диагностировали на ранней стадии. Повезло, что опухоль изолирована. И потом, после операции, я подслушала медсестер в коридоре. Она не понимает, как ей повезло.
В приемном покое клиники сидит девушка, чуть моложе меня. Ее культя перевязана на середине бедра. Я ловлю на себе ее полный зависти взгляд. Ниже колена, так я вижу, думает она ревностно. Повезло. На ней парик, и я вспоминаю, как раздражал парик меня.
Я вынуждена отвести взгляд. Неужели она и впрямь считает, что мне повезло?
Невезение и наградило меня раком в первую очередь, разве нет? Невезение протащило меня через ад. Так как это вдруг могло превратиться в везение, если я вышла из этого целее других? Мне повезло, что я не так сильно хромаю, когда хожу?
Вся эта тема с удачей, это все бред. Пусть она просто убирается от меня, чтобы я сама делала свои ошибки. Я хочу снова контролировать свою жизнь.
Я хочу испечь фруктовый торт.
А потом? Потом я хочу заняться чем-нибудь еще, например, устроиться на работу, или отправиться путешествовать. Я не могу себе позволить полететь в Америку, но могу поездить по городам, в которых раньше не бывала, где меня никто не знает. Я хочу увидеть все свежим взглядом, как Зак.
Дома я лежу в детском бассейне на заднем дворе и любуюсь оливой. Когда Зак вернется, я приглашу его в Перт и мы втиснемся сюда вдвоем. Будем есть фруктовый торт и пить кофе со льдом, и он расскажет про Диснейленд.
– Ариэль, – произношу я вслух и улыбаюсь. Это моя любимая диснеевская героиня. В детстве я мечтала стать такой же: с роскошными рыжими волосами и серебряным хвостом.
У меня даже есть «Русалочка» на диске, так что я иду в дом и немедленно сажусь смотреть мультик. Я до сих пор помню наизусть все песни.
Только история теперь выглядит иначе. Десять лет назад казалось безумно романтичным, что Ариэль пожертвовала хвостом ради пары ног, чтобы быть с любимым. Я как-то упускала из вида, что ведьма за это украла ее голос, и что ей пришлось страдать молча, чтобы ходить как обычные люди.
Неравноценный обмен. Я бы сейчас ей сказала: ни за что не отдавай хвост.
Не отдавай хвост и пой.
Мия, привет!
Почему Нью-Йорк называют «Большим яблоком»? Местные питаются исключительно солеными крендельками, кебабами и черным кофе, который они произносят как «коуфи». Мама тут открыла для себя обезжиренные шоколадные брауни и теперь все время уплетает их, утверждая, что испытывает обезжиренностъ.
Мне все кажется, что вот сейчас из кафе выйдут Джерри и Элейн из «Сайнфелда». Завтра как раз едем по маршрутам сериала – мало ли, вдруг да встретятся. Мама даже купила мне настольную игру по «Сайнфелду», ужасно примитивную, сплошная ржака. Короче, готовься, приеду – будем играть. Чур, я за Джорджа.
Все, мне пора.
Зак
P.S.: ходят слухи, что Эмма Уотсон сейчас в городе… прикинь, если правда?
В письмах Зака есть успокаивающий паттерн: наблюдения, шуточки и какая-нибудь зацепка в конце. Хочет, чтобы я после прочтения оставалась не в пустоте, а с делом или с мыслями. Это отлично работает.
Каждый раз, как звонит телефон, я надеюсь услышать его голос. Может, у него там как раз 3 часа ночи, и ему не спится в городе, который никогда не спит.
Утром мама опережает меня и берет трубку первой. Она как-то растерянно отвечает на вопросы, потом прикрывает динамик рукой.
– Это из клиники, насчет протеза. Говорят, тебе надо подъехать.
– Зачем? – я была на осмотре всего две недели назад.
– Говорят, на примерку новой ноги.
– Так у меня уже есть, – я стучу по стекловолокну в форме моей ноги. Обещали, что такой протез держится несколько лет. – Наверное, ошиблись заказчиком, и это для той девочки… – я вспоминаю ее взгляд.
Мама вешает трубку.
– Странное дело. Сказали, что это новый протез из углеродного волокна. Именно для тебя.
В видеопрокате меня накрывает странное чувство.
Сперва оно напоминает бабочек в животе, которые взлетают, когда колесо обозрения сдвигается с места. Но я сейчас стою на твердом полу.
Я пробегаю взглядом по дискам с сериалами, расставленным в алфавитном порядке. Действие довольно часто происходит в Нью-Йорке. Я беру диски, верчу их в руках, разглядывая обложки со всех сторон. Все, что я знаю про Нью-Йорк, я знаю из сериалов и фильмов: там желтые такси, широкие тротуары, узкие жилые многоэтажки. Знаменитая городская панорама.
Так в моем уме связываются две не связанных вещи: сериал «Друзья» и открытка от Зака. Они сталкиваются в воображении, как незнакомцы в узком дверном проеме. Которые с неловкостью разминаются, извиняются, расходятся… но зритель видит, что между ними что-то есть.
Странное чувство в груди становится сильнее.
Вернувшись домой, я смотрю серии «Сайнфелда» и словно ищу в них Зака. И отчего-то его невозможно там представить.
Я перечитываю письмо и открытки. Почерк его, никаких сомнений. Слог тоже его. Характерная небрежность, когда он пишет о знаменитостях, шутки про маму…
С другой стороны, что-то не клеится. Он пишет, что маму тянет в «Старбакс», но когда я общалась с ней, она всегда пила чай.
Я достаю конверт. В уголке – наклейка авиапочты и синяя марка за $2.20 с панорамой Нью-Йорка. Старой, где еще Башни-близнецы.
Но Центр Всемирной Торговли рухнул больше десяти лет назад. Странно, что его печатают на марках, когда это соль на незаживающие раны страны, и даже обложку «Друзей» обновили, убрав из панорамы башни.
То, что я чувствую – это не ужас. Ужас куда понятнее: это тяжеленный якорь в твоем животе. Ужас испытываешь, когда теряешь волосы, или вылетаешь из школы, или просыпаешься без ноги. Ужас – тяжеленный и приковывает к месту.
Мое чувство больше напоминает тревогу, которая шевелится где-то между ребрами, но откуда тревога? Я столько пережила. Неужели я до сих пор чего-то боюсь?
Я проверяю вторую открытку Зака и конверт. Марки гласят: «Лос-Анджелес» и «Сан-Франциско». Ни на одном нет даты. Почтовые штампы не выходят за пределы марок. Уголки самих марок достаточно подцепить – и они отходят, как будто их уже отклеивали раньше.
У меня нет осязаемых причин думать, что Зак не в Нью-Йорке. Что занят не тем, о чем мне пишет.
Но черные крылья тревоги хлопают под моим сердцем, и я просто знаю.
Знаю.
Я знаю, что меня водят за нос.
Мия
Я звоню по номеру, указанному на сайте.
– «Добрая олива», оливковая ферма и контактный зоопарк.
– Бекки?
– Да, слушаю вас.
– Значит, ты на ферме.
– Ну да… простите, кто это?
– Значит, вы вернулись?
– Откуда?
Я вешаю трубку и тут же пытаюсь набрать номер Зака, но он не подходит. Я слушаю длинные гудки и представляю, как он сейчас смотрит на экран. Я думаю, он знает, что я знаю.
Теперь у меня в груди бьется настоящая паника. Я пытаюсь успокоиться, но ничто не помогает: ни подышать воздухом, ни полюбоваться деревом. На нем пять трогательных зеленых оливок. У него такие спокойные серебряные листья. Я не понимаю, верить этим листьям или своей тревоге.
– «Добрая оли…»
– Бекки, привет еще раз.
– Кто это?
– Зак дома?
Молчание.
– Мия, ты?
– Он дома?
Где-то на фоне блеет коза. Кудахчут куры.
– Дома.
– А он писал, что…
– Да, я знаю.
У меня в горле ком.
– Зачем он врал?
Какое же я дерьмо, что он вынужден так выкручиваться! Поддельные письма с допотопными марками, выдуманные сюжеты – лишь бы избегать реальной встречи. И Бекки знала! Небось, вся семейка ржала за моей спиной.
– Мия, – говорит Бекки. – Мия, он не…
– Не обязательно врать. Если он меня ненавидит, мог бы…
– Ты не понимаешь.
Да, в этом все дело: мне казалось, что я правда ему нравлюсь, а ведь все, что он делал, было ради единственной цели – чтобы я свалила из его жизни, отвяла, сгинула, оставила его в покое…
– Мия, я говорила ему, что это плохая идея, но…
– Это все из-за ноги?
– Это вообще не из-за тебя, он…
– Я больше не стану ему докучать.
– Мия, он болен.
Это слово выстреливает в меня, и я замираю. Оно пронзает меня насквозь, отскакивает от других слов, пускает волны по двору, шевеля листья оливы. Пять оливок грустно свесили головки.
В обычном мире слово «болен» означает простуду. Давление. Ангину. Иногда болезнь – не более чем метафора. «Она больная на всю голову». Или: «У меня сердце за тебя болит».