Ратоборцы Югов Алексей
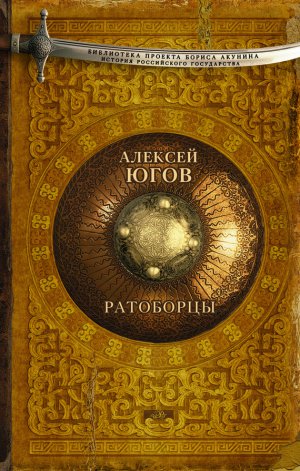
— У меня была давняя мечта — узнать, какие целебные травы известны русским простолюдинам. Ведь вот даже знаменитый Гален пишет, что он многие травы и коренья узнал от старых женщин из простого народа… Когда бы ты соизволил, государь…
Старик не договорил и посмотрел на Гриньку. Невский догадался о его желании. Тут они перешли с доктором на немецкую речь. Настасьин с тревогой и любопытством вслушивался. Понимал, понимал он, что это говорят о нем!
А если бы ему понятен был язык, на котором беседовали сейчас князь и лекарь, то он бы узнал, что старик выпрашивает его, Гриньку, к себе в ученики и что Невский согласен.
— Григорий, — обратился к Настасьину Александр, — вот доктор Абрагам просит тебя в помощники. Будешь помогать ему в травах. А потом сам станешь врачом. Согласен?..
Гринька от неожиданности растерялся.
— Я с тобой хочу!.. — «казал мальчуган, и слезы показались у него на глазах.
Невский поспешил утешить его:
— Полно, глупый! Ведь доктор Абрагам при мне, ну, стало быть, и ты будешь при мне!.. Ладно. Ступай, спи. Утре нам путь предстоит дальний!..
Тысячеверстный длительный путь между Владимиром на Клязьме и Новгородом Великим совершали в ту пору частью по рекам Тверце и Мете, а частью конями. И немало на том пути приходилось привалов, дневок, ночевок!..
…Черная осенняя ночь. Темный, дремучий бор — бор, от веку не хоженный, не ломанный. Разве что хозяином лесным кое-где ломанный — медведем. В таком бору, если и днем из него глянуть в небо, то как из сырого колодца, глубокого.
Огромный костер, из двух цельных, от комля до вершины, громадных выворотней, пластает, гудет на большой поляне. В такой костер и подбрасывать не надо: на всю ночь! На этаком бы кострище быков только жарить, на вертеле, великану какому-нибудь — Болоту Волотовичу или же Святогору-богатырю. Да и жарят баранов, хотя и не великаны, зато целая дружина расселася — до сотни воинов — по окружию, поодаль костра.
Видно, как от сухого жара, идущего во все стороны от костра, отскакивают с треском большие пластины розовой кожицы на стволах сосен. Хвоя одного бока пожелтела и посохла…
С багровыми от жара лицами, воины — и бородатые и безусые — то и дело блаженно покрякивают, стонут и тянут ладони к костру. Другие же оборотились к бушующему пламени спиною, задрали рубахи по самый затылок и калят могучие голые спины, красные как кумач.
Время от времени то одному, то другому из богатырей становится все ж таки невтерпеж, и тогда, испустив некий блаженный рев, как бывает, когда парни купаются, обожженный исчезает во тьме бора, где сырой мрак и прохлада обдают его и врачуют ему спину.
Сверкают, сложенные позади каждого, кольчужные рубахи, островерхие шлемы — чечаки, мечи и сабли: не любит Александр Ярославич давать поблажки. «Ты — дружинник, помни это. Не ополченец, не ратник, — говаривал он. — Доспех, оружие тебе не для того даны, чтобы ты их на возы поклал да в обозе волочил за собою, а всегда имей при себе…»
От кострища в сторону отгребена малиновая россыпь пышущих жаром угольев. Над нею, на стальных вертелах, жарятся целиком два барашка, сочась и румянея.
Тут же, в трех изрядных котлах, что подвешены железными крюками на треногах, клокочет ключом жидкая просяная кашица — кулеш.
У одного из воинов, который слишком близко придвинулся к костру, да и задремал, упершись подбородком о могучие кулаки, сложенные на коленях, вмиг посохла и принялась закручиваться колечком борода.
Его толкнул в плечо товарищ:
— Михаиле! Мишук, очнись! Бороду сгубил…
И все подхватили, и зашумели, и захохотали:
— Сгубил… Сгубил… Ну, теперь баба не примет тебя, скажет: «Это не мой мужик, а безбородая какая-то некресть!..» И впрямь загубил бороду… будь ты неладен…
Так, соболезнуя и подхохатывая не по-злому, перемелькали перед беднягой едва ли не все соратники его: и Еска Лисица, и Олиско Звездочет, и Жила Иван, и Федец Малой, и Дмитрок Зеленый, и Савица Обломай, и Позвизд, и Милонег, и Боян Федотыч, и даже — Карл какой-то, хотя заведомый рязанец. Здесь и греческие — «крещеные», насильно внедряемые в народ — и древние, языческие, «мирские» имена мешались с какими только ни пришлось прозвищами и с начавшими уже слагаться фамилиями.
— Ведь экую в самом деле красу муськую потратил!.. Бить тебя мало, полоротый! — с горьким прискорбием, без всякой насмешки, проговорил старый благообразный воин.
А падпаливший бороду, ражий большеглазый мужик, словно бы и впрямь чувствовал себя перед всеми виноватым за погубление некоей общественной собственности; улыбаясь и помаргивая, объяснял он чуть не каждому, кто приседал перед ним и засматривал ему в лицо:
— Да как-то сам не знаю… замечтал… домачних своих воспомнил!..
А его не переставали поддразнивать:
— Эх, Миша, Миша!.. «Домачних»! Жинка твоя не посмотрит, кого ты там «воспомнил», а бороду, скажет, изнахратил — быть тебе в вине: и остатки выдерет!.. Ты в Новгород теперь не возвращайся!
Сотник Таврило Олексич опасливо оглянулся в дальний угол поляны, где виднелся островерхий белого войлока шатер, крытый алым шелком, с кистями, и рядом с ним — другой, поменьше и попроще первого.
— Лешаки, — сказал он, — князя ржаньем своим разбудите!..
Все стихли. Немного погодя дружина разбилась вся по кружкам, и в котором пошли негромкие разговоры промеж собою о том да о сем, а в котором — тут и народу прилегло побольше — загудел неторопливый говор сказочника-повествователя.
Сказка, Сказка!.. Да скорее без хлеба уж как-нибудь пробьется русский человек, а отыми у него Сказку — и затоскует, и свет ему станет не мил, и засмотрит на сторону! Да ведь и как ее не любить — Сказку? Пускай хоть ноги у тебя в колодках, и в пбрубе сидишь в земляном, к стене на цепь прикован, и заутра на правеж тебе, на дыбу, под палача, а коли не один ты в темнице и есть во тьме той кромешной рядом с тобою умудренные Сказкою уста, то, излетев из уст этих, расширит она могучие крылья свои, и подхватит тебя на них — держись только, — и проломит крылами сырые, грузные своды, даже и стражу не разбудив, — вынесет тебя на простор!..
И вот уж — под небесами ты голубыми, и плывет глубоко под тобою все Светорусье — и города, и леса, и горы, и моря, и озера, и реки, и речушки родные, и монастыри, — и вот уже Индия наплывает богатая, и камень Алатырь, и светлый город Иерусалим!..
Ковш тебе подадут в тюрьме — напиться — берестяной, — а ты в него — ныр! — всплеснул, да и нет тебя! Только тебя и видели!.. А разве ж не бывало таких людей? Конечно, в старые годы!.. Только черную книгу достань! По ней выучишься!..
Уголек никудышный нашарил в тюрьме али известки кусок, и ты им возьми да и начерти на полу ладью невелику, с парусом, — как сумеешь — и прямо садись на нее, — только веруй, не сомневайся! — и Сказка домнет в паруса твои, — и пуще ветра, кораблям вожделенного, дыхание то, и рванется ладья, и стены расступятся — плыви!..
Тюремщик рогожку бросил никудышную под склизкий от грязи порожек, а ты ей не побрезгуй, рогожкой, — только: «Сказка! Сказка!» — взмолись шепотком пожарче — и услышит! Ведь это ж не рогожку, дураки, бросили, а ковер самолетный: отвел им очи господь, твоего ради спасенья!.. Теперь садись только на него поскорее, не мешкая, покудова не вошли, — да заветное словечко шепнуть не забудь, которое Сказка тебе шепнула, — и полетел, полетел… держись покрепче за ворсу ковра, держись, а то ветром так и сдирает!..
Очередная сказка пришла к концу, и наступило молчанье.
— Да-а… — произнес, поскребя лукаво в затылке, молодой дружинник, — и чего-чего только не наслышишь в этих сказках! Вот уж и о двух головах!.. А?..
И тогда тот, кто рассказывал, многозначительно произнес:
— В старые времена еще и не то бывало!
А другой молодой воин, как бы пылая душой за сказку и готовый чуть не в драку с тем, кто усомнился, громко и заносчиво произнес:
— А что такого, что о двух головах?.. Да у нас вот в Барышове телок с двумя головами был же!..
Слова его были встречены сочувственно.
Он ободрился:
— И, может бы, корова выросла бы о двух головах, да только что поп велел его утопить!..
И тут пошло!
— То еще не диво! — вскричал один. — Вот у нас под Смоленском панья одна, или, просто сказать, боярыня, принесла ребенка. И при нем все зубы. Да это еще что, — младенец сам себе имя провещал: «Назовите, говорит, меня Иваном!..» Дак поп его чуть в купель не выронил!..
— То к войне!..
— А у нас в Медвежьем бабка раны сшивает! Князь хотел ее к себе взять — не поехала: «Где, говорит, родилась, тут и умру!»
— А под Тверью у нас два года земля горела. Аж вся рыба в воде дымом пропахла!
— А у нас осенесь буря сделалась на Волге. И одного хрестьянина, и с телегой и с конем вместе, перенесло через Волгу… Ну, телега с лошадью потом нашлися, на сосну их закинуло… А человек — без вести!
— Все может быть, все может быть!..
— Эх, робята, — произнес один из воинов мечтательно, лежа на спине поверх разостланной епанчи и глядя в черное, как котел, небо, — хотел бы я в тех землях пожить, где темьян-ладан родится… в этом самом Ерусалиме!.. Про Ерусалим у нас рассказывал один богомол, странник: близко, дескать, его, где обитал он в гостинице, тут же, говорит, возле стены, в пещерке, пуп земной!..
Помолчали.
— Нам вот тоже поп рассказывал: на море-де, на Андреантическом, на окияне, этот ладан-темьян прямо с неба падает.
— Ну, эко диво! — не сдался другой. — У нас вот на Кидекше, как раз на Успеньев день, облако на луг упало, и сделался из его кисель!..
На этот раз молчанье было необыкновенно длительно. Кто-то вздохнул… Кто-то проглотил слюнки.
— Все может быть, все может быть! — произнес в раздумье старый воин.
— Да-а… — вырвалось от всей души у другого.
— Почаще бы нам, крестьянам, да по всем бы по деревням такие облака падали!..
— Ну, а что толку? — возразил кто-то с горькой насмешкой. — Все равно, покуда наш брат хрестьянин ложку из-за голенища вынет, князья-бояре весь кисель расхватают.
Послышался общий хохот.
— Это уж так!..
— Это истинно! Работному люду ничего не достанется!
И сам собою разговор свернулся на надвигающийся голод.
— Да-а! Еще урожай обмолотить не успели православные, а купцы уже по восьми кун за одну кадь ржи берут! Как дальше жить будем?
Эти последние слова произнес дородный дружинник — светлобородый силач, пышущий здоровьем. Несоответствие его внешности со словами о голоде вызвало у некоторых невольную шутку:
— Гляди, Иван, как бы ты от голоду не отощал вовсе: уж и так одни кости да кожа!
Воины засмеялись.
Однако дородный воин отнюдь не смутился этим и скоро заставил замолчать насмешников.
— Правильно, — спокойно возразил он. — Я-то не жалуюсь: сыт-питанен. Мы, дружинные, на княжеских хлебах живем, нам и горя мало! Ну, а старики твои, Митрий, или там сестры, братья, суседи?! А?! Замолк, нечего тебе сказать! А вот мне об этих днях из нашей деревни весть прислали: пишут, что сильно голодают в нашей округе. Уж траву-лебеду стали к мучке-то примешивать. Ребятишки пухнут от голоду. Старики мрут…
Его поддержали:
— Что говорить! Худо простому люду живется: и под боярами, и под татарами! А хуже нет голода!
Разговор пошел горестный, тяжелый.
Говорили и о чуме, которая нет-нет да и наведывалась в Новгород:
— Харкнет человек кровью — и по третьему дню готов!..
— Княжеский доктор говорит: этот, дескать, мор черный, его из-за моря привозят. Купцы.
— Да уж он знает, Аврам!.. Все, поди, черны книги прочел!.. Он многих в народе вылечил.
— Добрый лекарь! А Только — голод да нищета, дак и лекарства — тщета!..
— Нет, в стары времена куда легче жили!.. Нынче богаты бедных поесть хотят, ровно бы волки, живоядцы!..
После голода и чумы заговорили о татарах:
— Слышь ты, окаянны хочут всю молодежь с собой на войну погнать… Да Олександр Ярославич, дай ему бог веку, он заступил: не дал!
— Авось и опять съездит — отмолит!
— Ох, Орда, ох, Орда немилостивая!.. Ханы эти да баскаки наскакивают!.. И все — господин на господине!..
— Ну и у них не все одинаки: всякого жита по лопате, есть и у них черна кость, бела кость!..
— Побывал я, братцы, у ихнего хана, у Менгуя, и во дворце… ну, как же? — когда Ярославича своего сопровождал… Ох, дворец, ох, дворец! Ум меркнет!.. Не хочется и вон идти!..
— На нашей же все на кровушке строено!
— Это точно!..
— Вот мне матерь моя, Пономаревой рукой, пишет: чегойто на ихнего князя, на Пронского, осерчал багадур ихний, баскак этот самый. И вот поехал со своими, с татарами, саморуком дани собирать с хрестьян. Ну вот, матушка моя и пишет: все наше рухло пограбили! «Теперь, говорит, нету тебе, Саввушка, и наследия отцовского!..» Ну кто ж я теперь — всему лишенец?.. Теперь уж и не вздумай отойти от князя!..
— Не горюй, — утешал его товарищ, — было бы жито, а то — прожито!..
А тем временем тот, кто побывал с Невским у великого хана, вел свой неторопливый рассказ о татарах:
— Замков на анбарах они действительно не знают: воровство наказуют люто. Ежели ты, к примеру, одного коня украл, то отдай девять…
— Ой-ой!..
— Так-то вот! А то просто голову рубают — и все… Но живут грязно. Немыслимо! Им Чингиз-хан мыться запретил, одежу стирать запретил.
— Неужели бань нету? — почти в ужасе спросил кто-то.
Рассказчик рассмеялся:
— Да ежели кто у них начнет воду на себя плескать, обмываться, дак они сейчас же ему голову отрубят: вода, говорят, она святая, не смей ее грязнить!..
Раздался хохот.
— Есть же дурачья на белом свете!..
— Рубахи свои, и всю одежду, и чепаны дотоле носит, не сымая, покуда не изветшает и само не свалится! И чего скупятся, не знаю: ведь когда мы с Александром Ярославичем были у того ихнего царя, так ведь, кроме нас, на поклон к ему три тыщи царей съехалось!
Раздался гул ужаса и изумленья.
— И вот ты с ними и поборись — с татарами!..
— А у нас-то, у русских, чего нету?! Оружия ли? Хлеба ли? Скота ли?.. Необъятная сила!.. Когда бы наши князья за одно сердце все стали, так этот бы Менгуй-Батый хрипанул бы одного разу, да и пар из него вон!..
— Ну, какой там — за одно сердце! Друг друга губят!.. Вон родной дядя, Святослав Всеволодич, под нашего-то подыскивается в Орде!..
— Нашему трудно!.. У прочих князей и понятия нет, чтобы помочь, поддержать! Один Ярославич, один!..
— Какой там — помочь, поддержать! Другой князек приедет к нашему-то, чело клонит перед ним, а ты стоишь, и у тебя сердце трепещет: а как да у него нож в сапоге, за голенищем? Так глаза с него и не спущаешь!..
— Да и бояре наши — тоже господа пресветлые! — им бы только мамон свой набить да всячески гортань свой услаждают!.. Об отечестве мало кто думает!..
В те разговоры — об Орде, о князьях и боярах — вструился рядом текущий разговор о божественном. Кто-то чинно и книжно повествовал о чудесах святителя Николая, епископа Мирр Ликийских. Рассказ подходил к концу. И надо же было напоследок этак промолвиться!..
— Ну и вот, стало быть, говорит ему Никола-угодник, пленнику этому, греку… ну, понятно, на своем языке, по-гречески…
— Полно! Не говори несусветицу! — закричал вдруг один из слушателей. — Про святого рассказываешь — про Миколуугодника! — и как же это он у тебя не по-русски заговорил?.. Да святые, они все русского народу были! А как же?..
И возмутившийся слушатель обвел ярым оком всех окружающих и, доказуя, начал считать, пригибая пальцы:
— Петро-апостол. Ну? Иван-богословец! Ну? — Он торжествующе посмотрел на всех.
Дружинника, что вел рассказ про святителя Николая, затюкали.
Но он, выжидая свой миг, молчал и хитро улыбался. А когда наступил миг молчанья, он спросил у своего противника, заранее торжествуя победу:
— Ну, а Христос?
Но лучше бы ему не спрашивать. Возмутившийся ересями его, старый дружинник повел руками, как бы всех призывая в свидетели:
— Нет, вы послушайте, послушайте, православные! У него уж и Христос нерусской стал! А?.. Нет, что-то ты заговариваться начинаешь, парень!.. Слушать тебя и то грешно!..
Он поднялся с кошмы, на которой лежал, и, возмущенный, отошел к другому кругу — к тому, где беседовали о татарщине, о князьях, о боярах.
Гринька Настасьин тоже среди воинов у костра. Думал ли он когда, что доживет до такого счастья! Вот он сидит у костра, а рядом с ним, локоть к локтю, совсем как простой человек, сидит русобородый богатырь — начальник всей путевой дружины Невского. И зовут этого витязя Таврило Олексич! Да ведь это он самый, что в битве на Неве богатырствовал и навеки себя прославил в народе. О нем и сам Александр Ярославич рассказывал Гриньке.
Олексич и Гринька дружат. Богатырь сделал ему деревянный меч, как настоящий!..
— Ничего, Григорий, — сказал ему Олексич, — пока деревянный; вырастешь — так настоящим пластать будешь… Может, и на татарах свой меч испытать придется!..
…Воинам поспел ужин. Все принялись сперва за горячий кулеш, а потом за баранину.
Таврило Олексич положил на большую лепешку, как на блюдо, сочно-румяный большой кусок жаркого и подал Гриньке.
— Кушай, кушай, отрок! — ласково сказал он, погладив его по голове. — Уж больно ты худ, набирайся сил, кушай!..
Сам он тоже взял добрый кус барашка, сел рядом с Гринькой под сосну и принялся есть.
— Ешь! — еще раз сказал он мальчику. — Хочешь воином быть добрым — ешь побольше! От еды сила! — наставительно пояснил он и ласково подмигнул Гриньке.
Увидав своего витязя-друга в таком светлом расположении духа, Гринька вполголоса сказал ему:
— Дяденька Таврило, а потом расскажи мне про Невску битву.
Олексич хмыкнул и усмехнулся:
— Да ведь уж который раз я тебе про нее рассказывал. Поди уж, затвердил все наизусть. Ну ладно, отужинаем — там видно будет…
Такой ответ означал согласие. Сердце Гриньки трепетало от радостного ожидания, хотя и впрямь уже который раз носился он мысленным взором над Невским побоищем, слушая рассказы своего друга.
Едва только задружил Гринька Настасьин с Гаврилой Олексичем и едва узнал от людей, что это тот самый Олексич, так покою не стало витязю от настойчивых просьб мальчика: расскажи да расскажи, как били шведских рыцарей на Неве.
Сперва богатырь больше отшучивался. И все-то выходило у него до чрезвычайности просто, будто и рассказывать не о чем.
— А что ж тут такого? — добродушно отвечал он Гриньке. — Знамо, что побили их крепко. Уложили их там, на болоте, немало, рыцарей этих. А и сам ихний герцог Биргер насилу утек от Ярославича: живо коня заворотил! А все-таки Александр Ярославич большую ему отметину положил копьем на лицо — до веку не износить!
И, сказав это, Таврило Олексич вдруг ожесточился и суровым голосом произнес:
— Да и как их было не бить? Пошто вы в чужую землю пришли кровь человеческую проливать? Пошто у нас, у Новгорода Великого, водный путь хотите отнять?! Зачем море закрываете? Задушить, стало быть, хотите! Русский народ сам кровопролития не затевает, это уж нет! Ну, а если незваны гости к нам ломятся — тут руке нашей от сохи до меча дотянуться недолго! Я ратай[37], я и ратник!
Он замолк. Но тут снова и снова Гринька в нетерпении принимается теребить Олексича за рукав:
— Дядя Таврило, а расскажи, как ты на шведский корабль по доскам въехал, ну расскажи!
— На коне взъехал. И што тут рассказывать!
Гринька не унимался:
— Нет, а как чуть королевича шведского не захватил?
— А вот же не захватил! — мрачновато ответствовал Олексич. Но тут, видно, неудержимые поднялись в его памяти воспоминания, и, уступая им, неразговорчивый богатырь рассмеялся и добавил: — Худоногий он был у них, королевич-то. Вроде как расслабленный. Привезли они его с собой из-за моря нарочно: на новгородский престол сажать. Ишь ты ведь! — воскликнул в негодовании Олексич, как будто все это сейчас происходило, а не десять лет тому назад. Рассказ его продолжался: — Ну, пришли мы, сам знаешь, на реку Неву, устье Ижоры, речка такая впала в Неву. Ино там они и вылезли, шведы, из кораблей на сушу. Видимо их невидимо! Девять тысяч кованой рати. Девять тысяч!.. — повторил Олексич, потрясая рукой. — Ну, а нас-то всех вместе и с ладожанами и карелой — и до тысячи не дотягивало! Ну, да ведь где же Александру Ярославичу было воинов собирать! Кто с ним был, с теми и ударил… Грянули мы на них внезапно. Они думали: мы рекой Волховом поплывем, а мы прямиком через леса, через болота — прямо на устье Ижоры. Возов с собой не брали. Александр Ярославич нам даже и щитов не велел с собою брать: «Меч верней щита!»
Подошли мы к их стану, солнышко взошло уж высоко. Ну, вот этак… — Олексич показал рукою. — Словом, бойцу с коня копьем достать… Но уж все ихнее войско на ногах, гудит!.. Трубы поют, сурны, в медные тарелки бьют, в бубны великие колотят! Мы смотрим. А из бору еще не выходим… Но вот Александр Ярославич расставил нас всех — и дружину свою, и полк весь: кому откуда ударить. Сам он на белом коне боевом… Вот, вижу, поднял он меч свой… Слышу, крикнул: «Вздымайте знамя!» — и враз опускает меч: «Вперед, зз отечество!» Ну, тут уж и ринулись мы все из темного бору! Бурей!
Олексич зажмурился: должно быть, так, с закрытыми глазами, еще явственнее подымались в его душе образы великой битвы, еще слышнее становились ратные крики, ржание коней, шум и звон давно минувшей сечи…
Гринька слушал, не смея дыхание перевести, боясь пошевелиться. И только тогда, когда нестерпимо длинным показалось ему молчание друга, мальчуган охрипшим от волнения голосом спросил:
— А отчего у них трубы трубили?
— А! Трубы-то? — отвечал, как очнувшись, Таврило Олексич. — А это, видишь ли, паренек, как раз королевич ихний на берегу обход войску делал. Сановники с ним, свита, сам герцог. Рыцари вокруг него — как за стальной стеной идет! А мне с коня-то все видать как на ладони… И со мной молодцов немало новгородских. Дружина добрая подобралась! Молодцы — не выдавцы! Все мы из одной братчины были — кожевники, чеботари! Костя Луготинич, Юрага, Намест, Гнездило… Как железным утюгом раскаленным в сугроб, так и мы в гущу в самую этих шведов вломились. Даром что кованая рать зовутся, в панцири закованы с головы до ног; и шеломы-то у них не людские, а как ведерко глухое, железное на голове, а против рта решетка. Поди-ка дойми такого! А ничего, секира прорубит! Ломим прямо на королевича… Тут дворяне его переполошились, хотят на руки его вскинуть — да и на корабль. А он им не дается: зазорно ему. Однако испугался… Герцога, видать, нету уже при нем. Вот уж он, герцог, на вороном коне мчится наперерез Ярославичу. Тоже в панцире весь. Только решетка на лице откинута, усы, как рога, в стороны топорщатся… Нет-нет да и осадит коня, да и зычно этак крикнет по-своему, по-латынски, воинам своим… И те заорут ему вослед… Опамятовались: бьются крепко.
Но, однако, одолеваем мы их, ломим. Грудим их к воде, к воде! Нам Ярославича нашего отовсюду видать: островерхий шлем золоченый на нем сверкает на солнце, кольчуга, красный плащ на ветру реет, меч, как молния, блистает, разит! Вот видим: привстал наш богатырь на стременах, вздынул руками меч свой, опустил — и валится шведский рыцарь под конское копыто! А Ярославич наш уж на другого всадника наринул, глядишь — и этому смерть!.. Бьется. Сечет мечом нещадно. Конем топчет. Но всю как есть битву своим орлиным оком облетает. Видит все. И знаем: каждого из нас видит. Злой смертью погибнуть не даст: видит, кому уж тесно станет от врагов, одолевают, — туда и бросит помощь. Правит боем! Голос у него, знаешь сам, как серебряная труба боевая! Ведь стон кругом стоит, гул; щиты — в щепки, шлемы — вдребезги; обе рати орут; раненых коней ржание; трубы трубят, бубны бьют… А князь наш кинет свой клич боевой — и мы его везде слышим!.. Мимо нас, новгородцев, промчится и во весь свой голос: «За господина Великий Новгород! За святую Софию!»… И мы ему отзовемся. И того пуще ломим!..
На кораблях у шведов, на ладьях, на лодках невесть что началось! Заторопились, паруса поднимают. А ветра нету: не море ведь! Вздуется пузом парус, да тут же и опадет, заполощет… Крику, шуму, ругани! А толку нет никакого: отплыть не могут. Шестами в дно стали упираться, веслами гребут — ни с места! Лодки перегрузили, те опрокинулись. Тонет народ, барахтается в Неве: в панцире много ли поплаваешь!
Наш народ русский знаешь ведь какой: ему, когда распалится в битве, что огонь, что вода! Миша был такой, тоже новгородец… Ну, этот из боярских детей, с ним дружина своя пришла… И богатырь был, богатырь… Нынче уж такого редко встретишь! Так вот этот Миша с дружиной прямо в Неву кинулся, где бродом по грудь, где вплавь, и давай топором корабли и ладьи рубить. Три корабля утопил. Сильно похвалил его Александр Ярославич!
…Дальше вскользь упомянул Таврило Олексич, как увидал он — волокут под руки шведского королевича по сходне на корабль — и ринулся на коне вслед за ним. Но опоздал: шведы успели втащить королевича, а когда Олексич въезжал На сходни, враги столкнули сходни в воду. Упал вместе с конем и Олексич. Однако выплыл и вновь кинулся в битву…
— Э-эх! — воскликнул тут с горечью сожаления рассказчик. — Ну, за малым я не настиг его! Ну, да ведь с разгону-то не вдруг проломишься, хотя бы и на коне. Уж больно густо их, шведов, было вокруг него. Люди ведь с оружием — не шелуха, не мякина!.. — добавил он как бы в оправдание…
Рассказал он Гриньке и о том, как юный воин Савва пробился к самому шатру герцога Биргера, уничтожил охрану, а затем подрубил позолоченный столб, на котором держался весь шатер. Шатер с шумом рухнул на глазах всего войска. И это послужило знаком к повальному бегству шведов…
Рассказал он и о гибели другого юноши — Ратмира.
— Дяденька Таврило! А ты видел, как его зарубили? — спросил Настасьин.
Олексич тяжело вздохнул. Понурился. Сурово смахнул слезу.
— Видал… — ответил он сумрачно. — Сильно он шел среди врагов. Бежали они перед ним! А только нога у него поскользнулась — упал… Тут они его и прикончили. Да! — добавил он, гордо вскидывая голову. — Хоть совсем еще мальчишечко был — годков семнадцати, не боле, — а воистину витязь! Любил его Ярославич. Плакал над ним!
Так закончил свой рассказ о гибели Ратмира Таврило Олексич. И вновь погрузился в думу, как бы созерцая давно минувшую битву.
— И вот, как сейчас, вижу: кончили мы кровавую свою жатву. Отшумело побоище… И вот подымается на стременах Александр Ярославич наш, снял перед войском шлем свой и этак, с головой непокрытой, возгласил во все стороны, ко всем бойцам: «Спасибо вам, русские витязи! — кликнул. — Спасибо вам, доблестными явили себя все: и новгородцы, и владимирцы, и суздальцы, и дружинник, и ополченец!.. Слава вам! — говорит. — Постояли за господина Великий Новгород. Постояли и за всю Русскую Землю!.. Слава и вечная память тем, кто жизнь свою сложил в этой сечи за отечество! Из века в век не забудет их народ русский!..» Вот как он сказал, Ярославич… Да!.. — убежденно заключил Таврило Олексич. — Заслужил он свое прозвание от народа — Невской!..
Произнеся эти слова, Таврило Олексич вдруг сурово свел брови. На лице его изобразилась душевная борьба. Казалось, он раздумывает, можно ли перед мальчишкой, перед отроком, сказать то, о чем он сейчас подумал… Наконец он решился.
— Да! — сказал он жестоко и горестно. — Невской зовем. Всех врагов победитель! Мы же за ним и в огонь и в воду пошли бы… Так пошто же он перед татарами голову клонит?!
Эти слова Олексича долго были для Гриньки словно заноза в сердце.
Ночной ужин, воинов в самом разгаре. Лесной костер гудит и ревет. Спать никому не хочется. Затевают борьбу. Тянутся на палке. Хохот. Шутки.
Вот подымается с земли молодой могучий дружинник. Потягивается после сытного ужина и говорит:
— Эх, меду бы крепкого, стоялого ковшик мне поднести!
В ответ ему слышатся шутливые возгласы.
— А эвон в ручеечке мед для тебя журчит. Медведь тебе поднесет: он здесь хозяин, в этакой глухомани!.. — слышится чей-то совет.
Тот, кто пожелал меду, ничуть не обижается на эти шутки. Напротив, он подхватывает их. Вот подошел к большому деревянному бочонку-лагуну с длинным носком. Лагун полон ключевой, студеной воды. Парень, красуясь своей силой, одной рукой поднимает лагун в уровень рта и принимается пить из носка, закинув голову. Он пьет долго. Утолив жажду, он расправляет плечи и стучит кулаком в богатырскую грудь.
— Ого-го-го! — весело орет он на весь бор. — Ну, давай мне теперь десяток татаринов, всех голыми руками раздеру!.. Даже и меча не выну…
— Храбер больно! — ехидно осадил его другой воин. — Которые побольше тебя в Русской Земле — князья-государи, да и то перед татарами голову клонят!..
— Ну, да то ведь князья!
— Им попы велят!.. Попы в церквах за татарского хана молятся! — послышались голоса, исполненные горестной издевки.
Молодой воин, что похвалялся управиться с десятью татарами, гордо вздернул голову, презрительно хмыкнул и сказал:
— То правильно! Старшаки наши, князья, все врозь. Оттого и гибель Земле. Дерутся меж собой. Народ губят. А когда бы да за одно сердце все поднялись, тогда бы Батый этот самый хрипанул бы одного разу, да и пар из него вон!
— Дожидайся, как же! — послышался тот же язвительный голос, что осадил парня. — Станут тебе князья против татарина за едино сердце! Им бы только в покое да в холе пожить. Уж все города под татарскую дань подклонили!.. Больше всех наш Александр Ярославич старается. Что ни год — все в Орду с данью ездит, ханам подарки возит. Татар богатит, а своего народа не жалко!
При этих словах, сказанных громко и открыто, у Настасьина кусок застрял в горле. От горькой обиды за князя слезы навернулись на глаза. Гринька с жалобным ожиданием глянул на Гаврилу Олексича: чего же он-то на них не прикрикнет, не устыдит их, не заступится за Александра Ярославича?!
Олексич сидел неподвижно. Он, правда, нахмурился, однако в разговор не вмешался.
За князя Александра заступился один старый воин, богатырского вида, с большой седой бородой, распахнутой на оба плеча.
— Полноте вам, ребята! — укоризненно и вразумляюще произнес он. — Вы Батыева приходу не помните: маленьки в ту пору были. А я воевал с ним!.. Так я вам вот что скажу. Александр Ярославич мудро строит: с татарами — мир! Крови хрестьянской жалеет!.. Куда же нам сейчас с этакой силой схватиться, что вы!.. Когда бы одни татары, а то ведь они сорок племен, сорок народов с собой привели! Помню, где хан Батый прошел со своими ордами конными, там и лесочков зеленых не стало: все как есть татарские кони сожрали. Где, бывало, березовый лесок стоял-красовался, там после орды словно бы голые прутья из веника торчат понатыканы!.. На одного на нашего десять татаринов наваливалось!.. Да что говорить: ужели воитель такой победоносный, Александр наш Ярославич, да не знает, когда нам подняться на татар? Знает! Погодите, придет наш час: ударим мы на Орду…
Молодые воины горьким смехом ответили на эти вразумляющие слова.
— Дождемся, когда наши косточки в могиле истлеют!.. — сказал один.
— Дань в Орду возить — оно куда спокойнее!..
— Дорогу туда князь затвердил: ему виднее! — выкрикнул третий.
И тогда, как стрела, прыгнувшая с тугой тетивы, вскочил Гринька. Он швырнул наземь кусок жаркого и лепешку, данную ему Олексичем. Голос мальчика зазвенел.
— Стыдно вам! — гневно выкрикнул он сквозь слезы. — Да разве мало Александр Ярославич поту кровавого утер за Землю Русскую?! Эх вы!
Голос ему перехватило. Он махнул рукой и кинулся прочь от костра — в глухую тьму бора.
Александр сидел на завалинке избы — большой, двухъярусной избы хозяйственного, не деленного с сынами северянина — и, опахнув плечи просторною и легкой шубою, крытой желтым атласом, прислонясь затылком к толстому избяному бревну, смотрел прямо перед собою в синее небо.
Светоносные толпища облаков — недвижные, словно бы с ночи застигнутые в небесной синеве, — были объемны и резко отъяты от воздуха, словно глыбы мрамора.
Синь… тишь… Ласточки вереницами кружатся над озером. Где-то булькал ручей. Завалинка, на которой сидел Невский, была обращена к огороду, и едва не у самих ног князя лежали валуны капустных кочанов: до ноздрей его доходил их свежий запах. Дальше видны были желтые плети уже пустых огуречных гряд. А еще дальше, под самым тыном, — большой малинник и долбленые колоды ульев.
Солнце, пронизывая затуманенный лес, раскладывало рядком, по косогору опушки, длинные светлые полосы: словно бы холсты собралось белить! Быстрый луч пронесся по обширной поляне перед огородом, на которой высились войлочные шатры воинов, — пронесся — и как бы спутал, расшевелил пряди тумана, подобные прядям льна. Туман медленно, нехотя, словно невыспавшийся седой пастух, растолканный мальчиком-подпаском, подымался с зеленой, обрызганной росою луговины, цепляясь за все — за траву, за войлок шатров, за косматый лапник елей.
А далее, за поляной, в глубине леса, словно бы зеленые округлые фонари, сквозь плотный мрак елей светлелись кусты. Но уже не было слышно из этих кустов подлесника радостного чиликанья, посвиста и перепархиванья пташек. Бор уже дышал погребом.
Косые, наполненные туманом столбы солнечного света прошиблись там и сям, между черными стволами елей, и уперлись нижними ширящимися концами в землю, подобные желтым, свежевытесанным брусьям, которые еще народ не успел вывезти из бора, и так вот поприслоняли по всему лесу к деревьям.
Гулкий звук, подобный выхлопыванью палкой тугой перины, раздавшийся в тишине лесного утра, привлек внимание Александра.
Князь прислушался. Звук исходил из-за угла избы, справа, то есть со двора. Двор старика был как добрая крепостца: крытый со всех сторон, образованный стенами амбаров и завозен, и только по самой середине его четырехугольный просвет в небо.
Александр Ярославич поднялся на ноги, оставя шубу на завалинке, и осторожно прошел из огорода во двор. Когда он присмотрелся со свету к полумраку крытого двора, он увидел вот что.
Как раз по светлому четырехугольнику середины ходили чинно и неторопливо — по кругу, один чуть позади другого, — двое хозяев: сам Мирон Федорович, матерой старичище, и старший сын его Тимофей — покрупнее отца, русобородый богатырь, который уже года три-четыре как был женат и уже имел двоих ребятишек, хотя и жил все еще при отце.
Мирон Федорович, придерживая Тимофея за рукав белой длинной рубахи, легонько подталкивая его перед собою, не торопясь хлестал его по спине веревочными вожжами.
А сын Тимофей гудящим басом, так же мерно, как мерно хлестал его отец, приговаривал все одно и то же:
— Тятя, прости!.. Тятя, прости!..
Отхлестав Тимофея, сколько он счел нужным, суровый родитель перехлестнул вожжи и повесил их на деревянный гвоздь в столбе навеса.






