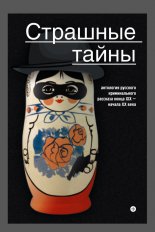Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю Джонсон Борис

© Boris Johnson 2014
© Yousuf Karsh, Camera Press, London
© Rex/Micha Theiner
© Галактионов А. В., перевод на русский язык, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015
КоЛибри®
* * *
Лео Ф. Джонсону
Введение
Собака по кличке Черчилль
Во времена моего детства не было никаких сомнений в том, что Черчилль – величайший государственный деятель из тех, которых когда-либо дала миру Британия. С раннего возраста у меня было довольно четкое представление о том, что он сделал: вопреки всем трудностям привел мою страну к победе над одной из самых отвратительных тираний в истории человечества.
Я знал ключевые моменты биографии Черчилля. Мы с братом Лео настолько усердно изучали иллюстрированную книгу Мартина Гилберта о жизни Черчилля, что запомнили подписи ко всем фотографиям.
Мне было известно о его мастерстве в искусстве составления речей, и мой отец (подобно многим отцам в те годы) периодически цитировал некоторые из его знаменитых высказываний. Я знал уже тогда, что это искусство исчезает. Черчилль любил пошутить, не отличался почтительностью и даже по стандартам своего времени не был политически корректен.
За ужином нам рассказывали апокрифические истории, например о том, как Лорд – хранитель печати пришел к Черчиллю, когда тот был в туалете. «Скажите Лорду – хранителю печати, которому я нужен, что я запечатан в своем нужнике», – распорядился Черчилль («Tell the Lord Privy Seal that I am sealed to my privy»). Мы знали и его ответ Бесси Брэддок, члену парламента от лейбористов, которая упрекнула его в том, что он пьян. Черчилль сказал с ошеломительной грубостью: «Моя дорогая Бесси, а вы уродливы. Я к утру протрезвею, вы же так и останетесь уродиной».
Я также кое-что слышал о министре-консерваторе и гвардейце. Вы, наверное, знаете эту историю и без меня. Тем не менее я расскажу ее каноническую версию, которой со мной поделился сэр Николас Сомс, внук Черчилля, за ланчем в отеле «Савой».
Даже делая скидку на то, что Сомс блестящий рассказчик, в этой истории есть отзвук правды, которая свидетельствует о великодушии Черчилля, – это его свойство будет в числе основных тем книги.
– Один из его министров-консерваторов был содомитом, если вы понимаете, что я имею в виду, – громко сказал Сомс, так что было слышно во всем ресторанном зале, – и при этом большим другом моего дедушки. Его постоянно ловили, но в те дни пресса не караулила на каждом углу, и в нее ничего не просочилось. Но однажды он зашел слишком далеко – его поймали, когда он совокуплялся с гвардейцем на скамейке Гайд-парка в три часа ночи. Кстати, это было в феврале.
Об этом немедленно доложили Главному Кнуту[1], который позвонил Джоку Колвиллу, личному секретарю дедушки.
– Джок, – сказал Главный Кнут, – боюсь, у меня плохие новости об имярек. Ничего особенного, но об этом стало известно прессе. Они наверняка растрезвонят.
– Боже мой, – сказал Колвилл.
– Я думаю, что мне надо поехать к премьер-министру и лично сообщить ему об этом.
– Да, я так полагаю.
И Главный Кнут поехал в Чартвелл (особняк Черчилля в Кенте), он вошел в кабинет дедушки, где тот работал за конторкой.
– Да, Главный Кнут, – сказал дедушка, слегка оборотившись, – чем я могу быть полезен?
Главный Кнут рассказал о прискорбном инциденте и заключил:
– Он должен уйти.
Во время последовавшей длительной паузы Черчилль дымил сигарой. Затем он сказал:
– Я правильно понял, что имярек был пойман с гвардейцем?
– Да, премьер-министр.
– В Гайд-парке?
– Действительно, премьер-министр.
– На скамейке парка?
– Верно, премьер-министр.
– В три часа ночи?
– Да, премьер-министр.
– И это в такую погоду! Господи, как я горд быть британцем!
* * *
Я знал, что в молодости он проявлял чудеса храбрости, что видел кровопролитие своими глазами и в него стреляли на четырех континентах. Он был одним из первых людей, поднявшихся на аэроплане. Я знал, что в школе Харроу его считали коротышкой – его рост был лишь 170 см, а обхват груди 79 см; что он поборол заикание, депрессию, ужасного отца и стал величайшим из англичан.
Я считал, что в нем было что-то священное и магическое, ведь мои дедушка с бабушкой хранили первую страницу Daily Express от того дня, когда он умер в возрасте девяноста лет. Я был доволен, что родился за год до этого: чем более я читал о нем, тем более гордился, что застал его в живых. И тем сильнее мне становится горько и странно, что сегодня, спустя пятьдесят лет после его смерти, существует опасность, что память о нем, если и не исчезнет, будет неполной и несовершенной.
Как-то я покупал сигару в аэропорту ближневосточной страны, которая своим существованием, возможно, обязана Черчиллю. Я заметил, что сигара называется «Сан-Антонио Черчилль», и спросил у продавца в магазине беспошлинной торговли, знает ли он, кто такой Черчилль. Он тщательно прочитал имя, а я произнес его. «Шершиль?» – переспросил продавец в недоумении. «Во время войны, – подсказал я, – Второй мировой войны…» Похоже, что-то смутное, еле различимое забрезжило во мраке его памяти. «Старый лидер?.. Да, возможно. Но не вполне уверен». И пожал плечами.
Что ж, этот продавец ничуть не уступает многим современным детям. Те из них, которые проявляли прилежание в классе, полагают, что Черчилль был парнем, который сражался с Гитлером, чтобы спасти евреев. Но большинство современных молодых людей, согласно недавнему опросу, считают, что Черчилль – это собака из британской страховой рекламы.
И мне это очень досадно, ведь столь незаурядная личность наверняка была бы интересна молодежи наших дней. Их привлекли бы его брызжущая через край эксцентричность, театральность, неповторимый стиль одежды, но в первую очередь – его совершенная гениальность.
Я хочу донести понимание его гениальности до тех, кто не вполне осознает ее или позабыл о ней. Я отдаю себе отчет в том, что в моей попытке есть некоторая дерзость.
Я не профессиональный историк, а как политик я не достоин развязывать шнурки на ботинках Черчилля или даже на ботинках Роя Дженкинса, написавшего великолепную однотомную биографию премьер-министра. Как исследователь Черчилля я нахожусь в тени Мартина Гилберта, Эндрю Робертса, Макса Гастингса, Ричарда Тойе и многих других.
Я знаю, что о нашем герое выходит около сотни книг в год, и тем не менее полагаю, что пришло время для новой оценки, ведь мы не можем принимать без доказательств его реноме. Солдаты Второй мировой постепенно уходят от нас, мы теряем тех, кто помнил звук его голоса. Меня беспокоит опасность того, что из-за тумана, сгущающегося над прошлым, будет забыта масштабность его свершений.
Расхожее мнение наших дней состоит в том, что Вторая мировая война была выиграна русской кровью и на американские деньги. И хотя это отчасти верно, верно и то, что без Черчилля Гитлер наверняка бы победил.
Под этим я имею в виду, что нацистские перемены в Европе могли стать необратимыми. Сегодня мы с полным на то основанием жалуемся на несовершенство Европейского союза, забывая о сущем ужасе того очень возможного из возможных миров.
Мы должны помнить об этом, как и о том, какой вклад британский премьер-министр внес в современное мироустройство. По всему земному шару – от Европы до России, Африки и Ближнего Востока – мы находим последствия его созидательных замыслов.
Черчилль значим и сегодня, потому что он спас нашу цивилизацию. И ключевой пункт состоит в том, что только он мог сделать это.
Он – ярчайшее человеческое опровержение марксистских историков, которые ставят во главу угла довлеющие и обезличенные экономические отношения. Смысл «фактора Черчилля» в том, что решающий вклад может внести и один человек.
Снова и снова на протяжении семидесяти лет общественной деятельности его личность оказывала влияние на события мира, причем в значительно большей степени, чем об этом помнят в наши дни.
В начале ХХ в. он стоял у истоков государственной системы социального обеспечения. Он способствовал тому, что у британских рабочих появились центры занятости, перерывы на чаепитие и страхование по безработице. Черчилль создал танк и Королевские военно-воздушные силы. Он решительно повлиял на действия Британии во время Первой мировой войны и содействовал ее победе. Черчилль был незаменим при создании Израиля (и некоторых других стран). Не будем также забывать проводимую им кампанию за объединение Европы.
Подобно бобру, который перегораживает плотиной реку, Черчилль несколько раз вставал на пути потока истории и изменял ее течение – наиболее сильно в 1940 г.
Древние греки говорили: «Личность – это судьба человека», и я с ними согласен. Если это так, тем более глубинным и интригующим становится вопрос о том, каким образом формируется личность.
Какие стихии дали ему талант сыграть эту исполинскую роль? В каких кузницах были выкованы его острый ум и железная воля? Вот в чем вопрос, и я почти вторю Уильяму Блэйку:
- Что за горн пред ним пылал?
- Что за млат тебя ковал?
- Кто впервые сжал клещами
- Гневный мозг, метавший пламя?[2]
Но сначала давайте попытаемся прийти к согласию в отношении того, что он сделал.
Глава 1
Предложение Гитлера
Если вы хотите узнать об одном из решающих событий в последней мировой войне и поворотном моменте в истории человечества, идите за мной. Я проведу вас в тусклую комнату в палате общин – вверх по лестнице, через скрипучую старую дверь, вдоль по плохо освещенному коридору, и вот мы на месте.
По очевидным причинам безопасности вы не найдете эту комнату в путеводителях по Вестминстерскому дворцу; да и экскурсоводы обычно не показывают ее. Впрочем, историческое помещение, о котором я говорю, уже не существует. Оно было разрушено при немецкой бомбардировке, но его копия весьма близка к оригиналу.
Эта одна из тех комнат, которые использует премьер-министр для встреч с коллегами из палаты общин. Интерьер не представляет особого интереса, он вполне предсказуем.
Представьте себе обилие зеленой кожи и латунных обивочных гвоздей, дубовую панельную обшивку с крупнозернистой структурой, обои дизайна Огастеса Пьюджина и несколько криво висящих оттисков. Также вообразите клубы дыма, ведь это событие происходило в послеполуденные часы 28 мая 1940 г., а тогда многие политики, включая нашего героя, были заядлыми курильщиками.
Многостворчатые окна пропускали мало света, но представители общества легко узнали бы действующих лиц. Их было семь, и они составляли британский кабинет военного времени.
Глубину кризиса отражало то, что заседание кабинета продолжалось с небольшими перерывами уже третий день. Они встретились девятый раз с 26 мая, но так и не могли дать ответ на экзистенциальный вопрос, который встал перед ними и всем миром.
В одном из кресел сидел премьер-министр Уинстон Черчилль. Рядом с ним – чопорный Невилл Чемберлен, как обычно со стоячим воротником и щеточкой усов. Он – бывший премьер-министр, которого столь бесцеремонно сменил на посту Черчилль. Обоснованно или нет, Чемберлена обвиняли в фатальной недооценке угрозы Гитлера и провале политики умиротворения. Когда, незадолго до описываемых событий, нацисты вытеснили британские войска из Норвегии, все шишки посыпались на Чемберлена.
Также в заседании участвовал министр иностранных дел – высокий, бледный и костистый лорд Галифакс, его левую руку, парализованную от рождения, прикрывала черная перчатка. В комнате находился и Арчибальд Синклер, лидер Либеральной партии, из которой Черчилль вышел в 1923 г. Здесь же Клемент Эттли и Артур Гринвуд – представители Лейбористской партии, которой Черчилль порою адресовал самые яростные инвективы. Протокол заседания вел сэр Эдуард Бриджес, секретарь кабинета.
Перед собравшимися стоял очень простой вопрос, над ним они ломали голову последние дни, а приходившие новости были все безотраднее. Хотя никто не произнес его явно, но все понимали, в чем он состоит. Должна ли Британия сражаться? Было ли разумно посылать молодых солдат на смерть в войне, казавшейся проигранной? Или же Британии надо пойти на сделку, которая, быть может, спасет сотни тысяч жизней?
А если она будет заключена и война фактически закончится с выходом из нее Британии, может ли эта сделка спасти жизни миллионов людей во всем мире?
Я думаю, что мало кто из людей моего поколения, не говоря уже о поколении моих детей, в полной мере осознает то, насколько близко в 1940 г. мы подошли к тому, чтобы Британия прекратила сражаться. В пользу этого решения были весомые рациональные доводы, а многие вдумчивые и влиятельные люди призывали к «переговорам».
Нетрудно увидеть, почему они так считали. Новости из Франции были не просто плохими – они были невероятно плохими, и не было никакой надежды, что они улучшатся. Немецкие войска стремительно продвигались к Парижу, нанося нокаутирующие удары по французским оборонительным позициям. Они делали это с такой презрительной непринужденностью, что казались новой военной «высшей расой», полной усердия и исключительной эффективности. Танки Гитлера легко преодолевали не только низины, но и казавшиеся неприступными арденнские ущелья. Смехотворная линия Мажино была прорвана.
Сколь патетичны были французские генералы – немощные седовласые старцы в кепи а-ля инспектор Клузо. Всякий раз, когда они отступали к новой линии обороны, оказывалось, что неприятель уже там. Французов с воем атаковали пикирующие бомбардировщики «Штука», и немецкие танки продолжали стремительный поход.
Британский экспедиционный корпус был отрезан вблизи Ла-Манша. Попытка его контрнаступления была отражена, теперь он готовился к эвакуации из Дюнкерка. Если бы Гитлер послушал своих генералов, он полностью бы уничтожил британский корпус. Его ас генерал Гудериан со своими танками мог бы взломать оборону практически беззащитного клочка земли, убить или захватить в плен большинство военнослужащих. Тем самым он бы лишил нашу страну физической возможности сопротивляться.
Но Гитлер предпочел задействовать люфтваффе. Немецкая авиация обстреливала британские позиции из пулеметов и закидывала бомбами, море было переполнено плававшими трупами, а оставшиеся в живых тщетно стреляли в воздух из винтовок Ли-Энфилд. В тот день, 28 мая, всем – и генералам, и политикам, да и широким кругам общества – казалось крайне вероятным, что большая часть британского экспедиционного корпуса будет потеряна.
Перед кабинетом военного времени стояла перспектива самого большого унижения вооруженных сил со времен утраты американских колоний. Положение казалось безвыходным. Кровь стынет в жилах, если вспомнить, какой карта Европы представала собравшимся.
Уже два года, как поглощена Австрия, отсутствует Чехословакия, сокрушена Польша. За последние несколько недель Гитлер добавил к своему портфелю завоеваний леденящий душу список. Он захватил Норвегию, без каких-либо усилий перехитрив британцев, включая Черчилля, который несколько месяцев вынашивал обреченный план, как опередить немцев.
Гитлер чуть больше чем за четыре часа захватил Данию. Капитулировала Голландия, а бельгийский король малодушно поднял белый флаг в полночь с 27 на 28 мая. С каждым часом все больше французских солдат сдавались в плен – некоторые после неслыханного по храбрости сопротивления, другие же с безысходной, фаталистической легкостью.
Главное геополитическое заключение мая 1940 г. состояло в том, что Британия – Британская империя – оказалась в одиночестве. Помощи было ждать не от кого, по крайней мере в ближайшее время. Итальянцы были против нас. Фашистский лидер Муссолини ранее заключил с Гитлером «Стальной пакт». Поскольку казалось, что Гитлер непобедим, Муссолини намеревался в скором времени вступить в войну на стороне Германии.
Русские подписали тошнотворный пакт Молотова – Риббентропа, по которому они поделили Польшу с нацистами. По понятным причинам американцы испытывали аллергию к европейским войнам: во время Первой мировой войны они потеряли более 56 000 человек, а если учесть жертв эпидемии гриппа – то более 100 000. Несмотря на риторические призывы Черчилля, издалека доносился лишь шепот их симпатий. Не было никаких признаков того, что американская кавалерия, трубя, перевалит через вершину холма и придет на помощь.
Присутствующие в комнате представляли, каковы будут последствия, если Британия продолжит сражаться. Они знали все о войне, некоторые из них участвовали в Первой мировой войне, и ужасной памяти о той бойне было лишь двадцать два года – она отстояла от них по времени меньше, чем война в Персидском заливе отстоит от нас.
Горе пришло почти в каждую британскую семью. Вправе ли они были требовать, чтобы народ снова шел на войну? И с какой целью?
Если судить по протоколу заседания, первым слово взял Галифакс. Он перешел прямо к делу и высказал те соображения, над которыми размышлял несколько дней.
Галифакс производил незабываемое впечатление. Он был высок, очень высок, с его ростом в 195 см он на четверть метра возвышался над Черчиллем – хотя за столом, я полагаю, его преимущество не было столь заметно. Он был выпускником Итона и Оксфорда, ставшим благодаря научным достижениям стипендиатом-исследователем колледжа Всех Душ (All Souls College). Куполообразный лоб Галифакса красноречиво свидетельствовал о его интеллекте. Не забывайте, что Черчилль не получил университетского образования, да и в Королевское военное училище в Сандхерсте он поступил с третьей попытки. Судя по хронике тех лет, Галифакс говорил низким мелодичным голосом, с четким произношением, подобающим его классу. Он глядел на собравшихся сквозь толстые круглые очки и, наверное, поднимал вверх слегка сжатую правую руку, чтобы акцентировать свои доводы.
Он сообщил, что итальянское посольство известило о готовности выступить посредником в переговорах, время которых пришло для Британии. Информацию об этом передал сэр Роберт Ванситарт. Галифакс сделал ловкий ход, упомянув это имя, ведь дипломат Ванситарт был известен антинемецкими взглядами и яростным отторжением политики умиротворения Гитлера. Но смысл итальянского предложения, с его изысканной и привлекательной оберткой, был вполне очевиден.
Это была не просто инициатива Муссолини, а, вне всякого сомнения, сигнал его старшего партнера. Щупальце Гитлера, извиваясь по Уайтхоллу, проникло в самое сердце палаты общин. Черчилль точно понимал, что происходит. Он знал, что отчаявшийся французский премьер находится в Лондоне, а тот в действительности только что встречался с Галифаксом за ланчем.
Месье Поль Рейно осознавал, что Франция разбита, а также (чему отказывались верить его английские собеседники), что ее армия, подобно оригами, сворачивается с волшебной скоростью. Рейно понимал, что он войдет в круг самых презренных людей в истории Франции. Он надеялся, что если удастся убедить Британию также начать переговоры, его унижение будет разделено и уменьшено, а главное – ему удастся добиться более приемлемых условий для Франции.
Смысл послания, переданного итальянцами, поддержанного французами и исходившего от немцев, состоял в том, что Британии нужно образумиться и смириться с реальностью. Мы не знаем в точности, какие слова Черчилль использовал для ответа, у нас есть лишь лаконичное и, наверное, облагороженное резюме сэра Эдуарда Бриджеса. Нам также неизвестно, каким предстал премьер-министр перед коллегами в тот день, хотя мы можем догадываться.
Свидетельства современников отмечают, что Черчилль начал показывать признаки усталости. Ему было шестьдесят пять, и он сводил с ума генералов и свой штат служащих привычкой работать глубоко за полночь, подпитываясь бренди и ликерами. Он совершал множество телефонных звонков по Уайтхоллу, требуя документов и информации, и созывал совещания в то время, когда здравые люди почивают со своими женами.
Как всегда, он был облачен в странное викторианско-эдвардианское одеяние: черный жилет, карманные часы с золотой цепочкой, брюки в полоску – он с успехом мог бы сыграть страдающего от похмелья дородного дворецкого в сериале «Аббатство Даунтон». Говорят, что он был бледен и одутловат, и это похоже на истину. К этому добавьте сигару, пепел на одежде, сжатые челюсти с потеком слюны.
Он рекомендовал Галифаксу прекратить разговоры на эту тему. Как сформулировано в протоколе: «Премьер-министр сказал, что с очевидностью французское намерение было в том, чтобы синьор Муссолини действовал посредником между нами и герром Гитлером. А он [Черчилль] был решительно против такого расклада».
Черчилль понимал, что подразумевало это предложение. Его страна была в состоянии войны с Германией с 1 сентября предшествовавшего года. Британия воевала за принципы и свободу – нужно было защитить себя и империю от одиозной тирании и по возможности изгнать немецкие армии из покоренных государств. Начать «переговоры» с Гитлером или его эмиссарами, сесть для обсуждения за какой-либо круглый стол – означало одно и то же.
Стоит Британии принять итальянское посредничество – в ту же минуту расслабятся напрягшиеся мышцы сопротивления, рассеется боевой дух, и над страной незримо будет поднят белый флаг.
Итак, он сказал решительное «нет» Галифаксу – можно предположить, что этого было достаточно, ведь премьер-министр высказался по вопросу жизни или смерти нации. В другой стране дебаты, скорее всего, завершились бы. Но не так работает британская конституция. Премьер-министр первый среди равных – primus inter pares, – и ему нужно увлечь за собой коллег, убедить их. Чтобы понять дальнейшую динамику обсуждения, необходимо напомнить о неустойчивости положения Черчилля.
Он был на посту премьер-министра менее трех недель, и не было до конца ясно, кто за столом был его настоящим союзником. Эттли и Гринвуд, лейбористская квота в кабинете, оказывали ощутимую поддержку, Гринвуд даже в большей степени, чем Эттли. То же можно сказать о либерале Синклере. Но их голоса не были решающими. Тори были крупнейшей партией в парламенте. Им Уинстон Черчилль был обязан своими полномочиями, а тори отнюдь не были уверены в нем.
Ведь только став молодым членом парламента от консерваторов, он подвергал собственную партию нападкам и насмешкам. Затем он стал дезертиром и перешел в Либеральную партию, и, хотя в конечном счете он вернулся в ряды тори, слишком многие из них считали его беспринципным оппортунистом. За несколько дней до описываемых событий тори бурно приветствовали со своих скамей появление Чемберлена в палате общин, а их реакция на Черчилля была крайне сдержанной. И теперь Черчилль сидел рядом с двумя влиятельнейшими тори: самим Чемберленом, лордом-председателем Совета[3], и Эдуардом Вудом, лордом Галифаксом, министром иностранных дел.
Оба конфликтовали с Черчиллем в прошлом и, при их складе ума, имели основания считать его не только пышущим энергией, но также иррациональным и абсолютно авантюристичным.
В свою бытность канцлером казначейства Черчилль привел Чемберлена в немалое раздражение планом по урезанию налогов на бизнес. Чемберлен опасался, что при этом будут несправедливо уменьшены доходы консервативных муниципалитетов. А вспомните те нескончаемые упреки, которыми Черчилль осыпал Чемберлена за неспособность противостоять Гитлеру. Что касается Галифакса, он был вице-королем Индии в 1926–1931 гг. и также объектом критики Черчилля, у которого, на взгляд Галифакса, была саркастическая и реакционная оппозиция всему, что имело привкус индийской независимости.
Был и дополнительный аспект в политическом положении Галифакса, который в те зловещие майские дни негласно поднимал его авторитет даже по сравнению с Черчиллем. Решающий удар по Чемберлену был нанесен 8 мая, когда многие тори отказались поддержать его в дебатах по Норвегии. На ключевом заседании 9 мая стало известно, что уходящий премьер-министр видит Галифакса своим преемником. Король Георг VI также предпочитал Галифакса. Многие в Лейбористской партии, в палате лордов и прежде всего на скамейках тори хотели бы видеть Галифакса на посту премьер-министра.
То, что им стал Черчилль, произошло из-за того, что Галифакс после жуткой двухминутной паузы, последовавшей за высказанным ему предложением Чемберлена занять пост, ответил отказом. Это решение было обусловлено не только тем, что ему представлялось крайне трудным руководить правительством из неизбираемой палаты лордов, но и тем, что, по его словам, невозможно быть капитаном, когда на палубе появляется необузданный Уинстон Черчилль.
Тем не менее то, что король предпочел бы видеть его премьер-министром, придавало Галифаксу уверенности. Несмотря на жесткую оппозицию Черчилля, Галифакс продолжил перепалку. Но то, что предлагал он, было воистину постыдным, если судить задним умом.
Суть его слов была в том, что необходимо начать переговоры с итальянцами, которых благословлял на то Гитлер. Как уступку с целью получения выгоды в дальнейшем он предлагал передачу им некоторых британских владений. Хотя он не уточнил, о каких владениях шла речь, возможно, подразумевались Мальта, Гибралтар и доля управления Суэцким каналом.
У Галифакса было несомненное хладнокровие, раз он мог предлагать такое Черчиллю. Поощрять агрессию началом переговоров? Передать британские авуары нелепому тирану Муссолини с его выступающими челюстями и высокими сапогами?
Черчилль повторил свои возражения. Если мы по совету французов встанем на путь переговоров, то эта скользкая дорожка приведет нас к капитуляции. Наша позиция будет гораздо сильнее, если Гитлер постарается организовать вторжение и потерпит при этом неудачу.
Но Галифакс не унимался: мы получили бы лучшие переговорные условия сейчас, когда Франция не разгромлена окончательно и поэтому люфтваффе еще не переключилось на нас и не бомбит наши авиационные заводы.
Это пораженчество бедного Галифакса сейчас воспринимается с сильнейшим раздражением. Но мы должны понять и простить его упорство в заблуждениях. Знаменитая филиппика Майкла Фута «Виновные люди», изданная в июле 1940 г. и направленная против политики умиротворения, в немалой степени способствовала подрыву репутации Галифакса.
Он ездил в 1937 г. на встречу с Гитлером, при этом случился знаменитый казус, когда он принял Гитлера за лакея. Но мы также должны признать, что Галифакс вступил в непростительно дружеские отношения с Герингом. Оба любили верховую охоту на лис, и Геринг прозвал его с омерзительной закадычностью «Галалифаксом» из-за немецкого охотничьего крика «Halali». Однако совершенно неверно было бы считать Галифакса апологетом нацистской Германии либо пятой колонной в британском правительстве. Он по-своему был не меньшим патриотом, чем Черчилль.
Ему казалось, что он видит путь, как защитить Британию, сохранить империю и спасти множество жизней. В своих представлениях он не был одинок. Британский правящий класс изобиловал – или, по крайней мере, был заметно заражен – сторонниками уступок Гитлеру и теми, кто симпатизировал ему. В их числе не были только Митфорды и другие последователи доморощенного дуче сэра Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов.
В 1936 г. леди Нелли Сесил отметила, что почти все ее родственники были «благосклонны к нацистам». Причина этого была проста. В 30-е гг. «сливки общества» сильнее, чем Гитлера, опасались большевизма и подстрекательной коммунистической идеологии передела. В фашизме они видели бастион против «красных», и у этих взглядов была политическая поддержка на самом верху.
Дэвид Ллойд Джордж побывал в Германии, он был настолько впечатлен фюрером, что уподобил его Джорджу Вашингтону. Бывший британский премьер-министр заявил, что Гитлер – «прирожденный лидер». Он хотел, чтобы «человек столь же высочайших качеств встал во главе власти в нашей стране». Поразительно, насколько был одурманен герой Первой мировой войны, тот человек, который привел Британию к победе над кайзером!
Убеленный сединами валлийский волшебник был околдован сам. Бывший политический наставник Черчилля стал отъявленным пораженцем. Вскоре и пресса подхватила эту мелодию. Daily Mail упорно вела кампанию за то, чтобы у Гитлера было право распоряжаться в Восточной Европе по своему усмотрению, ведь так он мог лучше поколотить большевиков. «Если бы Гитлера не было, – писала Daily Mail, – вся Западная Европа сейчас бы громко призывала подобного воителя».
The Times настолько придерживалась политики умиротворения, что, как рассказывал редактор Джеффри Досон, он, просматривая гранки, непременно выкидывал пассажи, которые могли обидеть немцев. А газетный барон Бивербрук самолично запретил колонку Черчилля в Evening Standard на том основании, что он слишком жестко критиковал нацистов. Респектабельные выразители либеральных взглядов, такие как Джон Гилгуд, Сибил Торндайк, Джордж Бернард Шоу, театрально призывали правительство «рассмотреть возможность» переговоров.
Конечно, за предшествовавший год настроение в обществе серьезно изменилось, антинемецкие взгляды ширились и укреплялись. Все же отметим, что неправоту Галифакса несколько умаляет то, что в своем миротворчестве он пользовался поддержкой многих британцев из разных слоев общества. Итак, в тот критический час продолжался спор между Галифаксом и премьер-министром.
Снаружи был теплый и великолепный майский день, каштаны в Сент-Джеймсском парке украсились свечами соцветий. А внутри продолжался пинг-понг.
Черчилль сказал Галифаксу, что любые переговоры с Гитлером – ловушка; попав в нее, Британия окажется в полной власти фюрера. Галифакс заявил, что не мог понять, чем так плохо французское предложение.
Чемберлен и Гринвуд также приняли участие в разговоре, сделав довольно бесполезное замечание, что оба варианта – и продолжать сражаться, и начать переговоры – были довольно рискованны.
Когда время приближалось к пяти часам, Галифакс сказал, что ничто в его предложении, даже отдаленно, не может расцениваться как окончательная капитуляция.
По словам Черчилля, шансы того, что Британии предложат приемлемые условия, были один к тысяче.
Положение было патовым, и вот тогда, согласно большинству историков, Черчилль сделал гениальный ход. Он объявил перерыв в заседании до 7 часов вечера. А затем собрал кабинет министров в полном составе – 25 человек из всех ведомств. Многие из них должны были услышать его в качестве премьер-министра в первый раз. Постарайтесь понять его положение.
Он не мог переубедить Галифакса, как и просто сокрушить или проигнорировать его. Только накануне министр иностранных дел был настолько смел, что обвинил Черчилля в том, что тот несет «ужасный вздор». Если бы Галифакс ушел в отставку, положение Черчилля значительно ухудшилось бы: ведь его первую попытку как военного руководителя, кампанию в Норвегии, нельзя было признать удачной. Он разделял большую долю ответственности за это фиаско.
Апелляция к разуму провалилась. Но чем больше аудитория, тем более жаркой становится атмосфера – пришло время воззвать к чувствам. Он произнес ошеломительную речь перед кабинетом министров в полном составе. В ней не было даже намека на интеллектуальную сдержанность, которую должно проявлять на совещаниях в узком кругу. Это был «ужасный вздор» на стероидах.
Пожалуй, лучший отчет о той встрече содержится в дневнике Хью Далтона, министра экономической войны, и нет никаких причин не доверять ему. Черчилль начал довольно спокойно:
Несколько последних дней я провел в сосредоточенных размышлениях, не надлежит ли нам начать переговоры с тем человеком [Гитлером].
Но совершенно необоснованно полагать, что, если бы мы постарались заключить мир сейчас, нам удастся получить лучшие условия, чем те, которые мы можем отвоевать. Немцы потребуют наш флот (и назовут это разоружением), наши морские базы и многое другое.
Мы станем подъяремным государством. В нем Гитлер, наверное, создаст марионеточное британское правительство, возглавлять которое будет Мосли или подобный ему субъект. И куда это нас в конечном счете приведет? Впрочем, у нас есть огромные резервы и преимущества.
Речь завершалась шекспировской кульминацией:
Я убежден, что каждый из вас восстанет и низвергнет меня с моего места, допусти я хоть на миг возможность переговоров или капитуляции. Если долгой истории нашего острова суждено пресечься, то пусть это случится лишь тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь своей кровью.
Последние слова настолько потрясли людей в комнате, что они, как вспоминают и Далтон, и Лео Эмери, разразились возгласами одобрения и криками. Некоторые из них подбежали к Черчиллю и стали хлопать его по спине. Черчилль беспощадно драматизировал и персонифицировал дебаты.
Это не какой-то дипломатический менуэт. Это – речь накануне битвы, в ней голос крови и древних сражений, в ней призыв встать на защиту своей страны перед лицом смертельной угрозы. Дебаты были завершены. Когда в 7 часов возобновилось заседание кабинета военного времени, Галифакс уже не оппонировал. У Черчилля была явная и шумная поддержка со стороны министров.
В течение года с момента принятия этого решения – сражаться, а не договариваться – были убиты 30 000 британских мужчин, женщин и детей, почти все они были погублены немцами. Крайне трудно представить, что у какого-либо из современных британских политиков, встань перед ним выбор – унизительный мир или избиение невинных, хватит мужества пойти по пути Черчилля.
Даже в 1940 г. никто другой не мог бы стать подобным лидером – ни Эттли, ни Чемберлен, ни Ллойд Джордж и уж конечно не 3-й виконт Галифакс, бывший самой заметной альтернативой.
Черчилль придумал каламбур и дал Галифаксу прозвище Холифокс[4], отчасти из-за того, что тот был набожен, отчасти из-за того, что любил верховую охоту, но в основном из-за его тонкого лисьего ума. Пусть лис знает множество вещей, но Черчилль знал самое главное.
Он видел четче, чем Галифакс, и был готов к тому, что будет принесено множество жертв. У Черчилля было огромное, почти безрассудное нравственное мужество, чтобы понять, что война будет ужасна, но капитуляция была бы несравненно хуже. Он был прав. Постараемся понять это, представив май 1940 г. без него.
Глава 2
Нечерчиллева Вселенная
Давайте вернемся назад, к тому моменту 24 мая 1940 г., когда Хайнц Гудериан, один из самых бесстрашных танковых командиров в истории, находился на грани выдающегося триумфа. Его танки в яростных боях форсировали канал Аа в Северной Франции. После тяжелой эксплуатации бронетехнике дан перерыв, она негромко урчит на солнце, а Гудериан готовится к решающему штурму британских позиций.
Его добыча находится от него в 30 километрах – 400 000 человек британского экспедиционного корпуса: дрожащих, испуганных, готовящихся к позору пленения. Все, что нужно сделать Гудериану, – дать полный ход мощным двигателям Maybach, стремительным маршем двинуться к Дюнкерку – и британская армия будет разбита. После этой потери у островитян пропадет способность к сопротивлению. Но вдруг Гудериан получает приказ из Берлина, впоследствии он будет называть его катастрофическим.
По не до конца понятным причинам Гитлер велел ему остановиться и ждать. Гудериан подчинился, но он жестоко разочарован. Следующие несколько дней, из-за того что эвакуация идет крайне медленно, британское горло совершенно неприкрыто и к нему поднесен нацистский нож.
В этих ужасающих условиях британский кабинет военного времени размышляет, как действовать дальше – сражаться или договариваться. А теперь представьте, что из этого уравнения со многими переменными исчез Черчилль.
Пусть, как в шоу «Монти Пайтон», гигантская рука опустится с небес и унесет его из той прокуренной комнаты. Или предположим, что он отдал богу душу в молодости, в одном из тех происшествий, когда он бесстрашно глядел в лицо смерти, надеясь перехитрить ее. Вообразим, что его немыслимое везение закончилось и за несколько лет до описываемых событий его пронзило копье дервиша или прострелило самодельное ружье ценою в десять рупий, что он потерпел крушение на брезентово-веревочном летательном устройстве или погиб в окопе.
Мы предоставим судьбу Британии и мира Галифаксу, Чемберлену, представителям Лейбористской и Либеральной партий. Вели бы они переговоры с Гитлером, как предлагал министр иностранных дел? Да, почти наверняка.
Чемберлен уже был физически немощен, через несколько месяцев он умрет от рака. Его невозможно было представить лидером в военное время, поэтому он и был устранен с поста премьер-министра. Мы знаем позицию Галифакса – он хотел договариваться. А у прочих не было ни влияния в парламенте, ни воинственного духа, чтобы руководить страной во время страшных опасностей и противостоять Гитлеру.
Черчилль – и только Черчилль – провозгласил противостояние нацистам своей миссией. В некотором смысле его возражения Галифаксу можно назвать эгоистичными.
Он сражался за свое политическое бытие, за доверие общества – если бы он уступил Галифаксу, то стал бы политическим трупом. Его престиж, репутация, перспективы, эго – все, что значимо для государственного деятеля, – стояли на кону, когда он настаивал на продолжении сопротивления. Некоторые историки из-за этого ошибочно считают, что он сражался за свои интересы, а не за интересы Британии.
За последние несколько лет на корпусе исторических исследований выступила неприглядная сыпь ревизионистских опусов, в которых предполагается, что Британия должна была сделать то, на что надеялись и за что молились столь многие люди на всех уровнях общества, – заключить сделку с нацистской Германией. Аргументация доходит до утверждений о возможности мирного сосуществования Британской империи и Третьего рейха. Несомненно, Гитлер мог бы произнести немало слов в поддержку этой идеи.
В 30-е гг. он несколько раз посылал Риббентропа, чтобы тот завел полезные знакомства в правящих кругах Британии, и у этих поездок был немалый успех. Как утверждают, в 1938 г. Галифакс имел неосторожность заявить адъютанту Гитлера, что он хотел бы видеть «завершением своей работы то, как фюрер рядом с английским королем войдет в Лондон под приветственные возгласы английского народа».
Как мы уже видели, многие представители аристократии и среднего класса испытывали эти прискорбные чувства к гитлеризму, в том числе бывший монарх Эдуард VIII. И даже теперь, в эти зловещие дни 1940 г., Гитлер порою высказывал восхищение Британской империей, а также говорил о том, что не в интересах Германии сокрушить Британию. Ведь это пойдет только на пользу соперничающим державам – Америке, Японии и России.
Мы, англичане, также были арийцами, хоть и не представителями генетически выделенного тевтонского варианта этой расы. Британия и ее империя могли бы выжить в роли младшего партнера, представляющего несомненный исторический интерес, но упадочнического в своей основе – что-то вроде греков по отношению к нацистскому Риму.
Многие думали, что бесчестие – приемлемая цена, ее можно заплатить, чтобы сохранить империю и предотвратить кровопролитие. Дело было не в том, что они хотели сделки с Гитлером, а в том, что считали ее неизбежной.
Так же полагали и многие французы: адмирал Дарлан из французского флота был убежден в поражении Британии, и в 1940 г. он готовился объединить силы с Германией.
В числе людей с такими взглядами были и американцы, например их несуразный посол того времени в Лондоне, ирландец по происхождению, Джозеф Кеннеди, бутлегер, мошенник и отец Джона Кеннеди. Он нескончаемо запрашивал аудиенций у Гитлера и посылал, вздыхая, мрачные депеши в Вашингтон. «С демократией в Англии покончено», – заявил он под конец 1940 г., незадолго до того, как был отозван.
Конечно, и он, и Галифакс, и умиротворители были неправы. Так же неправы и ревизионисты сегодняшнего дня. Но чтобы противостоять их галиматье, нам необходимо понять, что случилось бы при исполнении их желаний.
Я с неизменной настороженностью воспринимаю историю в сослагательном наклонении, ведь цепочка причин и следствий в таких умозаключениях не столь безусловна. События нельзя уподобить бильярдным шарам, один из которых с очевидностью ударяет по другому. И даже в бильярдах может наступить хаос.
Выньте мельчайшую частичку из нагромождения факторов – и невозможно предсказать, что случится в дальнейшем. Тем не менее из всех исторических построений «а что, если» данное наиболее популярно. Некоторые из наших лучших современных историков провели этот мысленный эксперимент и с неизбежностью пришли к одному и тому же заключению: если вы устраните британское сопротивление в 1940 г., вы создадите условия для непоправимой катастрофы в Европе.
Гитлер почти наверняка победил бы. Ведь он сумел бы начать операцию «Барбаросса» – вторжение в Советский Союз – значительно раньше, чем в июне 1941 г. У него бы не было этих надоедливых британцев, беспокоящих его в Средиземноморье и североафриканской пустыне, связывающих его войска и вооружение.
Всю свою ярость Гитлер мог бы обрушить на Россию, которую собирался завоевать всегда, даже в тот момент, когда, скрестив пальцы за спиной, одобрил договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. И он мог бы удачно завершить военную кампанию до наступления морозного ада. Но и в действительности достижения вермахта были ошеломительными: нацисты захватили миллионы квадратных километров и миллионы людей. Они взяли почти весь Сталинград и вышли к конечной остановке московского трамвая[5]. Представьте, что они взяли Москву, обезглавили коммунистический режим и довели Сталина до острого психоза, который он не может преодолеть. У него уже был нервный срыв, когда немецкие войска вторглись в Советский Союз.
В этих условиях, как предполагают историки, произошел бы стремительный обвал коммунистической тирании, которому, наверное, способствовали бы принадлежавшие среднему классу жертвы коллективизации. Было бы сформировано пронацистское марионеточное правительство. И что дальше?
У Гитлера, Гиммлера и их сатанинских приспешников появилось бы гигантское полотно, от Атлантики до Урала, чтобы запечатлеть их омерзительные представления о правильной власти. Не будь Британии, никто бы не остановил их, не препятствовал им, не воспользовался своей моральной репутацией по меньшей мере для их осуждения.
В Америке победили бы изоляционисты: если Британия не собирается рисковать жизнями своих людей, зачем это делать им? В Берлине Альберт Шпеер поторопился бы со своими сумасшедшими планами по созданию новой столицы мира, которую предполагалось назвать «Германия».
В ее сердце должен был стоять Зал Народа – экзальтированная гранитная версия римского Пантеона – здание столь огромное, что купол лондонского собора Святого Павла поместился бы в круглом отверстии в его своде. Предполагалось, что Зал Народа будет вмещать 100 000 человек и от их песнопений и возгласов в здании могут быть осадки: по мере того как теплые выдыхания поднимаются вверх, они конденсируются и падают каплями на головы пылких фашистов.
Это кошмарное сооружение должен был увенчивать гигантский орел, и оно в целом походило бы на прусский шлем космических масштабов – высотой в 290 м, почти как у лондонского небоскреба The Shard. От него расходились бы лучами другие громадные символы господства: арка, в два раза превосходящая Триумфальную арку Парижа, колоссальные железнодорожные вокзалы. От них двухэтажные поезда мчались бы со скоростью 190 км/ч, чтобы довезти немецких поселенцев до Урала, Каспия и других восточноевропейских территорий, откуда планировалось изгнать славянских «недочеловеков».
Замысел был в том, что рейх и фашистские государства-клиенты будут охватывать все европейское пространство, за исключением Швейцарии (хотя и в отношении нее имелся секретный план вторжения). Как уже было отмечено в нескольких романах-антиутопиях, эта часть света стала бы зловещим вариантом Европейского союза.
В 1942 г. доктор Вальтер Функ, министр экономики Германии и президент Рейхсбанка, написал статью, в которой призывал к созданию Европейского экономического сообщества – Europische Wirtschaftsgesellschaft. Он предлагал единую валюту, центральный банк, общую сельскохозяйственную политику и высказывал другие знакомые нам идеи. О чем-то подобном говорил и Риббентроп, однако необходимо признать, что Гитлер был против такого объединения, поскольку в нем недостаточно жестко управлялась прочая часть нацистского Евросоюза.
В этом контролируемом гестапо нацистском Евросоюзе власти беспрепятственно могли бы проводить ненавистную расовую политику. Нацисты начали свои преследования в 30-е гг., задолго до того как Черчилль пришел к власти и принял решение о продолжении сопротивления. Уже в то время они перемещали еврейское и польское население.
Нацисты строили гетто вблизи железнодорожных узлов, что было прелюдией к депортациям, а, как Эйхман позднее признавал на судебном процессе, депортация означала ликвидацию. В случае победы они с новым размахом продолжили бы массовое истребление тех, кого считали неполноценными – евреев, цыган, гомосексуалистов, слабоумных и лиц с наследственными болезнями.
Они бы ничем не ограничивали полет своего воображения в экспериментах над людьми: невероятно ужасных, бесстрастных, бесчеловечных и самонадеянных. Уинстон Черчилль был совершенно прав, когда позднее, летом 1940 г., говорил, что Европа погружается «в пропасть новых Темных веков, которые становятся еще более зловещими и, возможно, затяжными из-за света извращенной науки».
Вот таков наиболее вероятный альтернативный мир. Но была бы жизнь лучше, если бы Гитлер не преуспел в России и Сталин сумел отбить его натиск?
Мы стали бы свидетелями разделения Европы между двумя типами тоталитаризма: в одной ее части царит террор КГБ или штази, а в другой – гестапо. И повсюду население, лишенное возможности протестовать, живет в постоянном страхе ночного стука в дверь, ареста по любому поводу, лагерей.
В современном мире около двухсот государств, и 120 из них утверждают, что в них та или иная разновидность демократии, что они поддерживают право избирателей самим решать свою судьбу. Итак, большая часть мира, хотя бы на словах, поддерживает идею демократии, которая, по замечанию Черчилля, является наихудшей формой правления, за исключением всех остальных. Но если бы господствовали Сталин и Гитлер или кто-либо один из них, можно ли было всерьез надеяться на сегодняшнее торжество демократии?
Человечество с его суеверной привычкой вменять вердикт о правоте ходу истории усвоило бы мрачный урок: боги покровительствуют тираниям, так что тирания – то, что необходимо нашему несовершенному роду.
Мы в Британии примирились бы со своим моральным банкротством, и так легко представить себе, что Галифакс (либо Ллойд Джордж, либо еще кто-нибудь) убедил избирателей, что замирение – это то, к чему они стремятся. Но в этом они, разумеется, обманывали бы сами себя.
Как вы думаете, могла бы Британия с помощью этой трусости обеспечить мир с нацистами? Как отмечал Черчилль на заседании кабинета, любая сделка, заключенная с Гитлером, будет означать разоружение флота и фатальное ослабление британской способности к долгосрочной обороне или ответному удару.
И ключевой пункт состоял в том, что немыслимо было полагаться на какой-либо договор с Гитлером. Черчилль оказался неопровержимо прав в своих предупреждениях о сущности нацизма – а он их делал уже в начале 30-х гг., когда побывал в Германии и увидел парады юнцов с блестящими глазами. В бессчетном количестве речей и газетных статей он высказывался о лежащем в основе нацизма нравственном зле, которое столь многие предпочитали не замечать, о присущих этому режиму реваншизме и агрессивности. Ремилитаризация Рейнской области, события в Чехословакии и Польше убедительно свидетельствовали о правоте Черчилля, о том, что Британии настоятельно требовалось перевооружаться.
Многие историки сослагательного наклонения указывают, что нацисты значительно опережали своих соперников в разработке наиболее смертоносных видов вооруения XXI века: у них были первые реактивные истребители и первые баллистические ракеты дальнего действия. А теперь представьте, что немецкие ученые настолько отчаянно стремились поспособствовать поражению Советского Союза, что первыми создали атомное оружие.
Подумайте о судьбе Британии все вы, кого искушают ревизионистские аргументы, кто втайне прикидывает, не было ли этой стране выгоднее заключить сделку. Британия оказалась бы в одиночестве перед лицом враждебного континента, объединенного зверским тоталитаризмом и оснащенного ракетами с ядерными боеголовками, стоящими на пусковых площадках Фау-2 в Пенемюнде. Было бы новое рабство, а быть может, и того хуже.
Гитлер велел Гудериану остановить танки на рубеже канала Аа не потому, что был тайным англофилом. Он придержал руку полководца не из-за симпатии к собратьям по арийской расе. Многие из серьезных историков соглашаются с Гудерианом: фюрер просто совершил ошибку. Он сам был захвачен врасплох скоростью своего завоевания и опасался ответного удара.
Правда состоит в том, что Гитлер видел в Британии не потенциального партнера, а врага. Хотя он порою одобрительно бормотал о Британской империи, он также призывал к полному уничтожению ее вооруженных сил. И отменил масштабные планы вторжения в Британию (операция «Морской лев») не оттого, что хотел в какой-то мере пощадить британцев.
Причиной был риск, ставший слишком большим, и то, что один человек призывал свою страну сражаться повсюду: на побережье, на холмах, в местах высадки десанта. И этот человек говорил своим министрам, что он скорее умрет на земле, захлебываясь собственной кровью, чем сдастся.
Гитлеровская операция «Морской лев» предусматривала не только вторжение, но и порабощение. Фюрер собирался убрать колонну Нельсона с Трафальгарской площади и установить ее в Берлине. Геринг планировал ограбить лондонскую Национальную галерею, изъять из нее всю коллекцию. Они даже намеревались пойти на такую подлость, как отправить Мраморы Эльджина обратно в Афины. Был составлен черный список британских политических фигур с выраженными антинацистскими взглядами – вошедшие в него, по всей видимости, были бы посажены в тюрьму или расстреляны. На каком-то этапе Гиммлер предлагал убить или поработить 80 процентов британского населения.
Таковы были возможные плоды сделки, заключить которую предлагал Галифакс. Британцы не только бы стали соучастниками тоталитарной тирании, которая готовилась поглотить Европу. Вполне возможно, если не крайне вероятно, что со временем они сами были бы сокрушены.
Пойди Британия на эту сделку в 1940 г. – и это последний и самый важный пункт, – не было бы освобождения материка. Страна стала бы не очагом сопротивления, а унылым вассальным государством в инфернальном нацистском Евросоюзе.
Не было бы польских солдат, обучающихся с британской армией, не было бы чешских летчиков в Королевских ВВС, не было бы «Свободной Франции», надеющейся искупить национальный позор.
И разумеется, не было бы ни ленд-лиза, ни транспортных судов «Либерти», ни даже призывов в адрес Америки отказаться от изоляционизма. Не было бы планов высадки в Нормандии, жертвенного героизма в секторе Омаха, никаких надежд, что Новый Свет со всей своей силой и мощью придет на помощь для освобождения Старого.
Америка никогда не стала бы стороной в европейском конфликте, пойди Британия на ошибочный и безумный шаг по заключению сделки в 1940 г. Взгляд в прошлое показывает, как невероятно близки мы были к нему, какой широкой поддержкой пользовалась идея переговоров.
Я не знаю, уместно ли сравнивать историю с поездом, мчащимся по железнодорожным путям, но давайте уподобим гитлеровский период одному из тех гигантских и стремительных двухэтажных экспрессов, которые по плану фюрера должны были перевозить немецких поселенцев.
Локомотив несется со свистом, рассекает ночь. Он спешит к окончательной победе. И вдруг кто-то забирается на парапет железнодорожного перехода и роняет лом, который заклинивает стрелку. И вся махина терпит жуткое крушение, превращается в искореженную и шипящую груду металла. Уинстон Черчилль был именно тем ломом судьбы. Нацистский поезд мчался бы дальше, если бы Черчилль не был на своем месте и не оказывал сопротивление. Поразительно, если учесть его предыдущую карьеру, что он вообще там оказался.
Глава 3
«Дикий слон»
Мы вправе сказать, что в наши дни пробивающиеся наверх молодые тори, в особенности мужская их часть, считают Уинстона Черчилля чуть ли не божеством. Эти честные малые украшают стены своих юношеских спален плакатами с его изображениями: Черчилль в костюме в светлую полоску держит пистолет-пулемет либо показывает двумя пальцами знак победы.
Поступив в университет, они могут стать членами обществ Черчилля или его обеденных клубов, которые встречаются в залах Черчилля, где его портрету приходится терпеть их разогретую портвейном болтовню. Частенько они надевают галстук-бабочку в горошек.
Если их избирают в парламент, они всякий раз перед выступлением набожно проводят пальцами по левому ботинку его бронзовой статуи, которая установлена в вестибюле. Они надеются, что это поможет им собраться с духом. Достигнув в установленном порядке поста премьер-министра и оказавшись в затруднительном положении (что с неизбежностью происходит), они находят уместным выступить с дерзкой речью в клубе Святого Стефана. Их фотографии будут походить на изображения старого лидера военного времени, сделанные в том же обрамлении, – раскрасневшиеся, с заигравшими желваками и недовольными гримасами, обращенными их преемникам на посту (предполагается, что это гордость).
Тори крайне ревностно относятся к Черчиллю. Это вопрос идентификации, политического права собственности. Сходным образом жители Пармы относятся к formaggio parmigiano – сыру пармезану.
Для тори он их ценнейшая головка сыра, источник гордости, величайший капитан команды консерваторов, сделавший хет-трик в финале и выигравший мировое первенство. И многие теперь не в полной мере отдают себе отчет, с каким сомнением и подозрением воспринимали тори его назначение премьер-министром в 1940 г., с какой желчью они цедили его имя.
Чтобы руководить страной во время войны, Черчиллю нужно было командовать не только унылыми мюнхенскими переговорщиками – Галифаксом и Чемберленом, – но и сотнями тори, которые привыкли считать его оппортунистом, перебежчиком, хвастуном, себялюбцем, подлецом, грубияном, проходимцем и – по заслуживающим доверия свидетельствам – горьким пьяницей.
Мы помним, как бурно члены палаты общин приветствовали Чемберлена и насколько сдержанно приняли первое появление Черчилля в ранге премьер-министра 13 мая 1940 г. Это происшествие задело Черчилля. «Я долго не продержусь», – сказал он, когда уходил из парламента. А консерваторы упорствовали в своей враждебности. С места для представителей прессы Пол Айнциг, корреспондент Financial News, мог как следует изучить фракцию тори, и он явственно ощущал испарения недоброжелательности, клубившиеся над ними.
Первые два месяца премьерства тори, по свидетельству Айнцига, хранили «угрюмое молчание» всякий раз, когда выступал Черчилль, даже по завершении им одной из своих исторических речей. В то время как лейбористы со своих скамей бурно приветствовали его, тори продолжали замышлять, как бы от него избавиться. Приблизительно 13 мая Уильям Спенс, председатель «Комитета 1922 года», объединявшего рядовых консерваторов, сказал, что три четверти членов комитета были за то, чтобы указать Черчиллю на дверь и вернуть Чемберлена.
У нас есть письмо от того же времени, написанное Нэнси Дагдейл ее мужу Томми, который был парламентарием и сторонником Чемберлена, а в момент написания письма уже служил в вооруженных силах. В нем подытоживается настроение брезгливого ужаса консерваторов:
Как ты знаешь, они относятся к У. Ч. с полным недоверием и ненавидят радиотрансляции его хвастливых речей. У. Ч. является английской копией Геринга, он жаждет крови и блицкрига, он распух от себялюбия и обжорства. То же вероломство струится по его венам, оно лишь подчеркивается бравадой и болтовней. Трудно выразить, какую депрессию все это наводит на меня.
С точки зрения этих респектабельных людей, приверженцы Черчилля были сущими гангстерами. Среди них – Боб Бутби, парламентарий, бисексуальный грубиян и впоследствии друг братьев-близнецов Крэй[6]; Брендан Брэкен, огненно-рыжий ирландский фантазер, позднее ставший владельцем Financial Times; Макс Бивербрук, крайне ненадежный владелец издательской группы Express. А возглавлял этот сброд неверных и своекорыстных пижонов «дикий слон» Уинстон Черчилль. Почтенные граждане выражали также недовольство его пристрастием к спиртному. «Мне хочется, чтобы он не производил впечатления хорошенько поддавшего человека», – сказал Морис Хэнки, государственный служащий высокого ранга, и мы как будто видим, что его нос при этом заметно морщится. Но те, кто порицал Черчилля, делали это не из-за борьбы за трезвость, им скорее нравилось чувство морального осуждения.
Некоторые из наиболее ожесточенных критиков Черчилля продолжили свою политическую карьеру. Ричард Батлер вполне мог стать премьер-министром в 60-е, не переиграй его Гарольд Макмиллан. В 1940 г. Батлер был младшим министром и убежденным сторонником политики умиротворения. Вот что он сказал о возвышении Черчилля.
«Порядочная и незапятнанная традиция английской политической деятельности была продана величайшему авантюристу современной политической истории», – вспоминают его слова собеседники. «Капитуляция перед Уинстоном и его сбродом была катастрофой, причем совершенно ненужной», будущее страны было отдано в залог «полукровке-американцу, который опирался на похожих на него неспособных, но словоохотливых людей».
Это сильные выражения. И вы можете понять, почему многие люди сохраняли верность Чемберлену, который воспринимался ими как человек чести, который в глазах общества начала 40-х был предпочтительнее Черчилля. Все они были расстроены приходом «банды Черчилля», что воспринималось ими как дворцовый переворот. Ведь Черчилль не был фактически избран обществом на пост премьер-министра вплоть до 1951 г. И есть какая-то пленительная враждебность в их злословии.
Лорд Галифакс сетовал на необходимость слушать Черчилля, его голос «источал портвейн, бренди и жеваную сигару». Один из наблюдателей отмечал, что Черчилль походил на «толстенького малыша», который сучил ножками, сидя на скамье правительства, и с трудом удерживался от смеха при виде Чемберлена.
Вот что почтенные тори думали об Уинстоне Черчилле: Геринг, авантюрист, полукровка, предатель, толстячок и катастрофа для страны. Все это походит на визги благородного собрания, когда там неожиданно появляются пираты и начинают давать распоряжения.