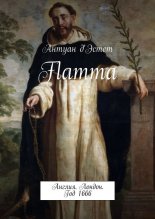Лавандовая комната Георге Нина
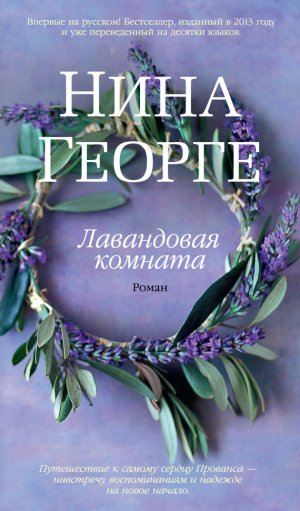
– Так напишите.
Как будто я главный консультант в этой области.
– Я бы лучше написал энциклопедию тривиальных чувств. От «а» (какая-нибудь «аллергия на путешествующих автостопом») до «я» («ярость, вызываемая комплексами по поводу пальцев ног, якобы могущих убить любовь»).
«Зачем я говорю это совершенно чужому человеку?» – подумал Эгаре.
Не надо было открывать комнату!
Бабушка потрепала его по колену. Он вздрогнул. Прикосновения были ему противопоказаны.
– Энциклопедия чувств… – повторила она с улыбкой. – Да, про пальцы ног – это мне знакомо. Энциклопедия тривиальных чувств… Вы знаете этого немца? Эриха Кестнера?
Эгаре кивнул. В 1936 году, незадолго до того, как Европа погрузилась в черно-коричневый мрак, Кестнер поделился с читателями своими запасами поэтических медикаментов, опубликовав «Лирическую домашнюю аптечку доктора Кестнера». «Эта книга посвящена лечению и профилактике личной жизни, – написал он в предисловии. – В гомеопатических дозах она поможет пациентам преодолеть мелкие и серьезные трудности бытия. Область применения – среднестатистическая внутренняя жизнь».
– Кестнер как раз и есть главная причина, по которой я назвал свой плавучий магазин «Литературной аптекой», – сказал Эгаре. – Я хотел лечить чувства, которые не считаются заболеванием. Все эти маленькие эмоции и ощущения, которые не интересуют терапевтов, потому что они якобы не поддаются диагностике и несущественны. Например, чувство, что еще одно лето подходит к концу. Или ощущение, что осталось слишком мало времени, чтобы найти свое место в жизни. Или горечь от осознания того, что еще одна связь рвется, так и не пустив корней, и нужно заново начинать поиски спутника жизни. Или тоска, которую испытываешь утром в день рождения. Ностальгическая грусть по далекому детству. Ну и так далее.
Он вдруг вспомнил, как мать однажды рассказала ему о недуге, против которого никак не могла найти лекарств.
– Есть женщины, которые смотрят только на твои туфли и никогда не смотрят в лицо. А есть такие, которые, наоборот, смотрят только в лицо и почти не обращают внимания на туфли.
Вторые были ей милее. А с первыми она чувствовала себя униженной и недооцененной.
И вот для того, чтобы облегчить именно такие, необъяснимые, но вполне реальные страдания, он и купил самоходную баржу, которая тогда называлась «Лулу», собственноручно переоборудовал ее под магазин и наполнил книгами, представляющими собой единственное лекарство от множества неопределенных душевных заболеваний.
– В самом деле – напишите! Энциклопедию чувств для литературных фармацевтов. – Бабушка выпрямилась, заметно оживилась и даже разволновалась. – Включите в нее еще «доверие к чужим людям», на «д». Странное чувство, которое испытываешь в поездах, когда перед совершенно незнакомым попутчиком легче раскрыть душу, чем перед своими близкими. А еще «утешение во внуках», на «у». Это приятное сознание того, что жизнь продолжается…
Она замолчала. На лице ее застыло мечтательное выражение.
– Комплексы по поводу пальцев ног… Я тоже страдала этим комплексом. А оказалось… оказалось, что они ему нравились, мои ноги…
«Это неправда, что продавцов книг интересуют книги, – подумал Эгаре, когда бабушка, мама и дочка ушли. – Их интересуют люди».
В полдень, когда поток покупателей иссяк – обед для французов дороже государства, религии и денег, вместе взятых, – Эгаре тщательно вымел жесткой щеткой сходню, разворошив при этом паучье гнездо. Тут он заметил Кафку и Линдгрен, шествовавших по набережной в его сторону. Эту парочку, навещавшую его каждый день, он прозвал так за их специфические пристрастия: серый кот с белой пасторской планкой имел сладострастную привычку точить когти об «Исследования одной собаки» Франца Кафки, басню, в которой мир людей читатель видит глазами собаки. А рыже-белая красавица Линдгрен с длинными ушами и приветливым взглядом любила валяться среди книг про Пеппи Длинныйчулок, внимательно изучая из своего укрытия каждого покупателя. Иногда Кафка и Линдгрен доставляли Эгаре удовольствие, без предупреждения спрыгивая с верхних полок на кого-нибудь из клиентов третьей категории, этих противных типов с жирными пальцами.
Привычно дождавшись момента, когда можно было беспрепятственно пройти по сходням на борт, не рискуя попасть кому-нибудь под ноги, хвостатые библиофилы принялись с громким мурлыканьем ласково тереться о его икры.
Мсье Эгаре не шевелился. Только в эти короткие мгновения он позволял себе приоткрыть непроницаемую броню и наслаждался живым теплом кошек. Их мягкостью. На несколько секунд он полностью отдавался этой сладкой неге.
Эти почти ласки были единственными прикосновениями в жизни мсье Эгаре.
Единственными, которые он себе позволял.
Краткий сеанс блаженства был прерван леденящим душу приступом кашля, разразившимся за стеллажом, на котором Эгаре разместил «лекарства» от пяти главных напастей большого города – суеты, равнодушия, жары, шума и водителей автобусов с садистскими наклонностями.
5
Кошки шмыгнули прочь и устремились сквозь сумрак книжных джунглей на камбуз, где Эгаре уже поставил для них на пол банку с тунцом.
– Мсье? – громко произнес Эгаре. – Я могу вам чем-нибудь помочь?
– Я ничего не ищу, – прохрипел Макс Жордан.
Автор пресловутого бестселлера, неразлучный со своими наушниками, нерешительно вышел из-за стеллажа. В каждой руке он держал по дыне.
– И давно вы тут стоите втроем? – с шутливой строгостью спросил Эгаре.
Жордан кивнул, лицо его медленно залила краска смущения.
– Я пришел, когда вы отказались продавать даме мою книгу, – унылым голосом ответил Жордан.
Ай-яй-яй, как не вовремя!
– Вы действительно считаете ее такой ужасной?
– Нет, – в ту же секунду ответил Эгаре.
Малейшее промедление Жордан истолковал бы как «да». А Эгаре совсем не хотелось причинять бедолаге такую боль. Тем более что он и в самом деле ничего не имел против этой книги.
– Почему же вы сказали, что я ей не подхожу?
– Мсье… э-э-э…
– Называйте меня просто Максом.
Чтобы этот мальчишка тоже начал обращаться ко мне по имени? Нет уж, увольте.
Последним, кто называл его по имени – своим теплым, шоколадным голосом, – была ***.
– С вашего позволения, я все же предпочел бы «мсье Жордан». Вы не возражаете, мсье Жордан? Да, так вот, дело в том, что я торгую книгами как лекарствами. Одни книги полезны для миллиона читателей, другие – для сотни. А есть такие лекарства – пардон, книги, которые написаны для одного-единственного читателя.
– О боже! Для одного? Для одного-единственного?.. Несколько лет работы?
– Конечно! Если это может спасти целую жизнь! Но этой даме «Ночь» сейчас не нужна. Она бы нанесла ей вред. Слишком опасные побочные действия.
Жордан задумался, глядя на тысячи книг, наполнявших чрево бывшей баржи, громоздившихся на полках, креслах, столах.
– Но откуда вы знаете, какая у человека проблема и какие могут возникнуть побочные действия?
М-да. Как объяснить этому Жордану, что он и сам точно не знает, как это делает?
Эгаре активно использовал уши, глаза и инстинкт. Он был способен за несколько минут разговора распознать в душе человека все, что того беспокоит. Прочитать в жестах, в движениях, в позе, какие чувства сковывают его или угнетают. Наконец, он обладал способностью, которую его отец называл «рентгеноскопическим слухом».
– Ты видишь и слышишь как бы сквозь камуфляж, которым большинство людей пользуются для маскировки. Ты же за этой маскировочной ширмой видишь все, что их беспокоит, чего им недостает и о чем они мечтают.
У каждого человека есть свои таланты, и его талантом был как раз этот «рентгеноскопический слух».
Один из его постоянных клиентов, терапевт Эрик Лансон, лечивший неподалеку от Елисейского дворца[8] правительственных чиновников, однажды признался Эгаре, что завидует его «психометрической способности определять параметры души точнее, чем это делает терапевт со своим замылившимся за тридцать лет работы слухом».
Каждую пятницу после обеда Лансон приходил в «Литературную аптеку». Он питал страсть к фэнтези со всякими драконами и волшебными мечами и пытался развеселить Эгаре психоанализом тех или иных персонажей.
Лансон посылал к мсье Эгаре и своих пациентов, политиков и их эксцентричных клерков. С «рецептами», в которых неврозы были зашифрованы посредством беллетристических кодов: «кафкоидный с примесью Пинчона», «Шерлок сверхиррациональный», «редчайший синдром Поттера под лестницей».
Для Эгаре это каждый раз было серьезным испытанием его профессионализма – нелегко приобщить к книгам людей (чаще всего мужчин), живущих в мире алчности, злоупотребления властью и тупого канцелярского сизифова труда. Но как отрадно было видеть, как кто-нибудь из этих затравленных биороботов бросал свою опостылевшую работу, отнявшую у него последние крохи индивидуальности! Часто одной из причин освобождения становилась книга.
– Видите ли, Жордан, – решил Эгаре зайти с другого конца, – книга – это одновременно и лекарь, и лекарство. Она ставит диагноз и оказывает терапевтическое действие. Правильный выбор романа для того или иного недуга – это и есть смысл моей книготорговой деятельности.
– Понятно. А мой роман был стоматологом, в то время как этой даме был нужен гинеколог.
– Э-э-э… нет.
– Нет?
– Книги, разумеется, не только врачи. Есть романы, которые играют роль верного спутника. А другие – роль пощечины. Третьи – роль подруги, которая накидывает вам на плечи теплый плед, когда на вас наваливается осенняя тоска. А некоторые… Некоторые – как розовая сахарная вата: пощекочут несколько секунд ваш мозг и оставляют в нем приятное ощущение пустоты. Словно мимолетное острое любовное приключение.
– Значит, «Ночь» – это что-то вроде литературного one-night-stand?[9] Этакая милая потаскушка?
Проклятье! С писателями ни в коем случае нельзя говорить о других книгах. Старое правило книготорговцев.
– Нет. Книги – как люди, люди – как книги. Я объясню вам, как я это делаю. Я спрашиваю себя: является ли он или она главным или второстепенным персонажем в собственной жизни? Что ею движет? Не собирается ли она вычеркнуть себя из собственной истории, потому что муж, профессия, дети, работа отняли у нее весь ее текст?
Макс Жордан смотрел на него с возрастающим удивлением.
– У меня в голове приблизительно тридцать тысяч историй. Это не так уж много – при одном миллионе наименований книг в одной только Франции. Восемь тысяч самых полезных произведений у меня собраны здесь, это своего рода аварийная аптечка для экстренных случаев. Но я составляю и курсы лечения. Смешиваю, так сказать, ингредиенты из букв – получается этакая поваренная книга с занимательными рецептами для воскресного семейного чтения. Роман, главная героиня которого похожа на читательницу, лирика, вызывающая слезы, которые могут отравить пациента, если он будет глотать их молча. Я слушаю своих покупателей нутром. – Он показал на солнечное сплетение. – А еще вот этим местом. – Он потер затылок. – И вот этим. – Он коснулся пальцем нежной впадинки между носом и верхней губой. – Если это место чешется, значит…
– Послушайте, но нельзя же…
– Еще как можно!
У него это получалось с 99,99 процента собеседников.
Попадались, правда, и такие, которых Эгаре не мог сканировать своим рентгеноскопическим слухом.
Например, себя самого.
Но об этом мсье Жордану пока знать необязательно.
В то время как Эгаре читал Жордану эту лекцию, где-то на периферии сознания, параллельно мыслительному процессу и независимо от его воли, у него родилась опасная мысль:
Я всегда хотел иметь сына. С ***. С ней я хотел бы иметь ВСЁ.
Эгаре вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха.
С тех пор как он открыл запретную комнату, что-то где-то сместилось. Его стеклянный панцирь треснул, прочерченный множеством мелких тонких трещинок, и, если он немедленно не возьмет себя в руки, панцирь разлетится вдребезги.
– У вас такой вид, как будто вам… не хватает кислорода, – услышал Эгаре голос Жордана. – Я совсем не хотел вас обидеть, мне просто хотелось узнать, что делают люди, когда вы им говорите: «Это я вам не продам. Это вам не подходит».
– Что делают? Уходят. А что делаете вы? Как поживает ваша следующая книга, мсье Жордан?
Юный писатель опустился вместе со своими дынями в кресло, окруженное грудами книг.
– Никак. Ни строчки.
– Что вы говорите! А когда сдавать?
– Полгода назад.
– Ого. А что по этому поводу говорит издатель?
– Мой издатель даже не знает, где я. Никто этого не знает. И не должен узнать. Я просто больше не могу. Я больше не могу писать.
– М-да…
Жордан положил голову на дыни.
– А что делаете вы, когда вам совсем худо, мсье Эгаре? – спросил он слабым голосом.
– Я? Ничего.
Почти ничего.
Я до изнеможения брожу ночами по Парижу. Днем надраиваю машинное отделение «Лулу», чищу мотор, мою борта, окна, держу все на судне вплоть до последнего винтика в полной готовности к отплытию, хотя оно уже двадцать лет стоит на приколе.
Я читаю книги, двадцать штук одновременно. Всюду – в сортире, на кухне, в бистро, в метро. Складываю огромные, размером с комнату, пазлы, а закончив, тут же разбираю их и начинаю складывать заново. Кормлю бездомных кошек. Расставляю и раскладываю в алфавитном порядке продукты. Иногда я принимаю снотворное, чтобы уснуть, а иногда Рильке – чтобы взбодриться. Я не читаю книг, в которых встречаются женщины, похожие на ***. Я каменею. Я иду дальше, продолжаю свои привычные занятия. День за днем. Только так мне удается выжить. Что я делаю еще? Нет, больше я ничего не делаю.
Эгаре взял себя в руки. Этот мальчик попросил о помощи. Он вовсе не хотел знать, как жилось Эгаре. Так что за дело!
Он достал из маленького заветного сейфа за прилавком свое сокровище.
«Южные огни» Санари.
Единственную книгу, написанную Санари. Во всяком случае, под этим псевдонимом. «Санари» – в честь Санари-сюр-Мер, бывшего пристанища беглых писателей и писательниц на провансальском южном побережье[10], – был закрытый псевдоним.
Его (или ее?) издатель Дюпре сидел в доме престарелых под Парижем, с Альцгеймером и в перманентном состоянии безмятежного счастья. Эгаре дважды навещал его, и тот рассказал ему с две дюжины различных историй о том, кто такой Санари и как к нему попала его рукопись.
Поэтому мсье Эгаре продолжал свои исследования, связанные с данным литературным феноменом.
Он уже двадцать лет анализировал темп его речи, подбор лексики и ритм предложений, сравнивал стиль и сюжет со стилистикой и сюжетными ходами других авторов. В итоге у него набралось двенадцать имен, гипотетически могущих быть разгадкой псевдонима Санари: семь женщин и пятеро мужчин.
Он рад был бы выразить свою благодарность одному из них.
Потому что «Южные огни» Санари были единственной книгой, которая глубоко трогала его, не причиняя боли. Чтение «Южных огней» было гомеопатической дозой счастья. Это была единственная разновидность нежности, которая благотворно действовала на его незаживающую рану, прохладный ручей на выжженной земле его души.
Это был не роман в классическом смысле слова, а небольшая история о разных видах любви. С чарующими, отчасти выдуманными словами и проникнутая огромным жизнелюбием. Щемящая грусть, с которой в ней рассказывалось о неспособности реально проживать каждый день, воспринимать его как нечто уникальное, неповторимое и драгоценное – о, эта тоска была знакома ему до боли!
Он протянул Жордану свой последний экземпляр этой книги:
– Почитайте вот это. По три страницы каждое утро, лежа, до завтрака. Пусть это будет первое, что проникнет в вашу душу. Через пару недель вы перестанете чувствовать себя таким израненным. И избавитесь от ощущения, что ваш творческий кризис – это расплата за успех.
Макс с ужасом смотрел на него из-за своих дынь. Потом его прорвало:
– Откуда вы знаете? Я действительно ненавижу деньги и эту проклятую изнуряющую лихорадку успеха! Я жалею, что вляпался во все это! Того, кто что-то может, не любят, а скорее ненавидят.
– Макс Жордан! Будь я вашим отцом, я бы вам сейчас так всыпал за эти глупые слова! Слава богу, что ваша книга состоялась. И вы честно заслужили свой успех – каждый птом и кровью добытый цент!
Жордан вдруг вспыхнул от смущения и горделивой радости.
Что? Как я сказал? «Будь я вашим отцом»?
Макс Жордан торжественно протянул Эгаре свои душистые дыни. Опасный запах. Слишком близкий к тому лету с ***.
– Может, пообедаем? – спросил юный прозаик.
Этот тип с наушниками действовал ему на нервы, но он уже давно ни с кем не обедал.
К тому же *** он бы понравился.
Едва они успели нарезать дыни, как на сходнях послышался элегантный стук каблучков.
И вот на пороге кабуза выросла утренняя покупательница. Та самая. У нее были заплаканные глаза, но ясный взгляд.
– Я согласна, – сказала она. – Давайте сюда эти книги, которые не будут мне хамить, и пошли они все в жопу, эти типы, которым на меня наплевать.
У Макса отвисла челюсть.
6
Эгаре закатал рукава белой рубашки, поправил узел черного галстука, надел очки для чтения, которыми стал пользоваться с недавних пор, и почтительным жестом пригласил клиентку проследовать с ним в святая святых своего литературного мира: в читальный зал со скамеечкой для ног и видом на Эйфелеву башню, открывающимся в огромном, два на четыре метра, окне. И конечно же, со столиком для дамских сумочек, пожертвованным матерью мсье Эгаре, мадам Лирабель. А рядом – старое пианино, ради которого Эгаре два раза в год вызывал настройщика, хотя сам играть не умел.
Эгаре задал клиентке (ее звали Анна) несколько вопросов.
Профессия, как обычно проходит утро, любимое животное в детстве, кошмары последних лет, последние прочитанные книги… И не говорила ли ей мать, что и как ей следует носить.
Вопросы достаточно интимного характера, но все же не слишком беспардонные. Главная задача состояла в том, чтобы, задав эти вопросы, самому сохранить гробовое молчание.
Умение слушать молча – залог успешного определения параметров души.
Анна работала в агентстве телерекламы.
– В одной команде с мерзкими типами, срок годности которых давно истек и для которых женщина – это нечто вроде гибрида кофеварки и койки.
Она каждое утро включала три будильника, чтобы вырвать себя из зверских объятий тяжелого, депрессивного сна. И принимала обжигающе горячий душ, чтобы как следует разогреться перед холодом наступающего дня.
Ребенком она питала особую слабость к толстым лори, маленьким, вызывающе неторопливым зверькам с постоянно мокрым носом.
Из одежды предпочитала красные кожаные шорты, приводившие ее мать в ужас.
Ей часто снилось, что она, в одной ночной рубашке, на глазах у мужчин, имевших для нее особое значение, погружается в зыбучий песок. И всем, всем им нужна была только ее рубашка. Ни один из них не помог ей выбраться из ямы.
– Ни один не захотел мне помочь, – повторила она с горечью, тихо, словно обращаясь к самой себе. – Ну как? – спросила она затем, посмотрев блестящими глазами на Эгаре. – Я очень глупая?
– Не очень, – ответил он.
Последней серьезной книгой, которую Анна читала – еще в студенческие годы, – была «Слепота» Жозе Сарамаго. Она привела ее в состояние полной растерянности и недоумения.
– Неудивительно, – сказал Эгаре. – Эта вещь не для тех, кто только начинает жить. Она для среднего возраста. Для тех, кто спрашивает себя: на что, собственно, ушла первая половина жизни, черт бы ее побрал? Кто уже научился отрывать взгляд от носков своих ботинок, которыми с таким усердием отмерял шаги, не заботясь о том, куда они его так бодро и весело ведут. Будучи слепым, хотя имел глаза. Басня Сарамаго нужна лишь зрячим слепцам. Вы, Анна, еще можете видеть.
Потом Анна больше не читала. Она работала. Слишком много, слишком долго. Она копила в себе усталость. До сегодняшнего дня ей ни разу не удалось привлечь на съемки рекламы моющих средств или детских памперсов ни одного мужчину.
– Реклама – это последний бастион стариков, – заявила она Эгаре и благоговейно слушавшему Жордану. – Она для них даже важнее, чем армия. Только в рекламе мир сохраняет еще некий порядок.
После всех этих признаний и заявлений она откинулась на спинку кресла.
«Ну что? – выражало ее лицо. – Меня еще можно вылечить? Не бойтесь сказать мне правду, какой бы жестокой она ни была».
Ее ответы ни в коей мере не влияли на выбор книг Эгаре. Они были нужны ему, чтобы лучше узнать ее речевые привычки, голос, его диапазон.
Эгаре собирал «трассирующие» слова, вспыхивавшие сигнальным пунктиром в потоке общих фраз. Они показывали, как эта женщина видела, чувствовала, обоняла и осязала жизнь. Что для нее было важно, что волновало ее и как ей жилось в последнее время. Что она хотела спрятать под толщей слов. Боль и тоску.
Мсье Эгаре выуживал эти слова из ее речи. Анна часто говорила: «Это не было запланировано», «Это не входило в мои расчеты». Она говорила о «бесчисленных» попытках и «кошмарах в квадрате». Она жила в математике, в ее культурной среде не было места иррациональности и каким бы то ни было оценкам. Она запрещала себе судить о вещах и явлениях, руководствуясь интуицией, и считать невозможное возможным.
Но это была лишь часть того, что Эгаре удавалось расслышать и запомнить, – то, что делает душу несчастливой.
Была еще одна часть. То, что делает душу счастливой. Мсье Эгаре знал, что свойства, характер вещей, которые человек любит, тоже определенным образом окрашивают его речь.
Мадам Бернар, владелица дома № 27, переносила свою страсть к тканям на дома и людей. «У него манеры – как неглаженая нейлоновая рубашка», – была одна из ее излюбленных фраз.
Пианистка Клара Виолет широко пользовалась музыкальными категориями: «Малышка Гольденберг играет в жизни своей матери всего лишь третью скрипку».
Бакалейщик Гольденберг видел мир через вкусовые ощущения, он мог назвать характер человека «протухшим», а повышение по службе – «перезрелым». Его «малышка Брижит», та самая «третья скрипка», любила море, как магнит притягивающее чувствительные натуры. Макс Жордан сравнил эту четырнадцатилетнюю красавицу с «видом на море со скал Кассиса» – «такая же глубокая и далекая». «Третья скрипка», конечно же, была влюблена в писателя. Еще совсем недавно Брижит хотела быть мальчишкой. Теперь ей не терпелось стать женщиной.
Эгаре давно уже собирался принести Брижит книгу, которая стала бы для нее спасательным островом в море первой любви.
– А вам часто случается извиняться? – спросил Эгаре Анну.
Женщины всегда чувствуют себя более виноватыми, чем есть на самом деле.
– Вы имеете в виду: «Извините, я еще не договорила»? Или скорее: «Извини, что я в тебя влюблена и у тебя со мной будут одни неприятности»?
– И то и другое. Любой вид извинений. Вполне возможно, что вы привыкли чувствовать себя виноватой за то, чем вы являетесь и что собой представляете. Часто не мы придаем определенный смысл или особое звучание словам, а, наоборот, слова, которые мы постоянно используем, накладывают определенный отпечаток на нас.
– А вы странный продавец книг. Вы это знаете?
– Да, я это знаю, мадемуазель Анна.
По просьбе Эгаре Жордан стал дюжинами таскать книги из «Библиотеки чувств».
– Вот, моя дорогая. Романы от упрямства, руководства по перестройке мышления, стихи для укрепления чувства собственного достоинства.
Книги о мечтах, о смерти, о любви и о жизни, подчиненной творчеству. Он клал к ее ногам мистические баллады, старые суровые истории о безднах, падениях, опасностях и предательстве. Вскоре Анна уже сидела среди стопок книг, как женщина в обувном магазине среди хаотичного нагромождения картонных коробок.
Эгаре хотел, чтобы она почувствовала себя как в гнезде. Чтобы она осознала бесконечность открывающейся в книгах вселенной. Этот источник никогда не иссякнет. Книги никогда не перестанут любить читателя. Книги – незыблемая скала в зыбучих песках непредсказуемого. В жизни. В любви. После смерти.
А когда на колени к Анне взгромоздилась Линдгрен и с мурлыканьем стала устраиваться поудобней, тщательно укладывая каждую лапку, эта измотанная работой, неудачно влюбленная, живущая с постоянным чувством вины сотрудница рекламного агентства блаженно откинулась на спинку кресла. Ее приподнятые плечи обмякли, судорожно сжатые кулаки разжались, черты лица разгладились.
Она читала.
Мсье Эгаре наблюдал, как то, что она читала, словно придавало ей изнутри четкий контур. Он видел, что Анна открыла в себе некий резонатор, реагирующий на слова. Она уподобилась скрипке, которая учится играть сама на себе.
В груди мсье Эгаре что-то больно защемило при виде этого маленького счастья Анны.
Неужели нет такой книги, которая и меня самого научила бы играть мелодию жизни?
7
Направив стопы на рю Монтаньяр, мсье Эгаре задался вопросом, как могла воспринимать эту тихую светлую улицу, затерянную посреди нервной сутолоки Маре[11], Катрин. «Катрин… – пробормотал он. – Кат-рин…»
Произносить ее имя было совсем легко.
Странно. Удивительно.
Может, дом № 27 был для нее постылой ссылкой? Может, она видела мир сквозь позорное клеймо, которое выжег в ее душе бывший муж, – через это «ты мне больше не нужна»?
В эти места редко забредал кто-нибудь, кто здесь не жил. Дома здесь были невысокие, не больше шести этажей, каждый фасад имел свой собственный приглушенный пастельный цвет.
На рю Монтаньяр обосновались парикмахерский салон, кондитерская, винный магазин и алжирская табачная лавка. Остальные дома занимали квартиры, маленькие частные клиники и офисы.
На перекрестке в виде маленькой площади с круговым движением возвышалось «Ty Breizh», бретонское бистро с красной маркизой, славившееся своими нежными ароматными галетами.
Мсье Эгаре положил перед официантом Тьерри электронную книгу, презентованную ему одним заполошным издательским агентом. Для такого заядлого читателя, как Тьерри, который норовил сунуть нос в книгу даже между двумя заказами и уже нажил себе искривление позвоночника под тяжестью вечно набитого книгами рюкзака, такая штука была изобретением века. А для книготорговца – лишний гвоздь в крышку его гроба.
Тьерри предложил Эгаре рюмку ламбига, бретонского кальвадоса, но тот отказался.
– В другой раз, – сказал он.
Он говорил это каждый раз. Эгаре не употреблял алкоголя. Больше не употреблял.
Потому что, когда он пил, он с каждым глотком все шире открывал ворота шлюза, на которые давил мощный, пенящийся поток мыслей и чувств. Ему было хорошо знакомо это состояние. Он тогда пробовал пить. Это было время разбитой мебели.
Но сегодня у него была особая причина отказаться от угощения Тьерри: ему не терпелось отнести мадам Катрин «книги, чтобы плакать».
Рядом с «Ty Breizh» над тротуаром нависла зелено-белая маркиза продуктовой лавки Жозюэ Гольденберга. Гольденберг, заметив Эгаре, преградил ему дорогу.
– Мсье Эгаре, скажите… – начал он смущенно.
О боже! Неужели он сейчас опять пристанет со своим порно?
– Я по поводу Брижит. По-моему, девочка становится… э-э-э… так сказать… женщиной. А это чревато определенными проблемами. Вы меня понимаете? У вас нет от этого какой-нибудь книги?
К счастью, на этот раз, видимо, обойдется без «мужского разговора» о порнолитературе. Сегодня Гольденберг выступает всего лишь в роли отца, приведенного в отчаяние половым созреванием дочери и измученного вопросом, как грамотно провести с ней разъяснительно-воспитательную беседу, пока она не попала в руки какому-нибудь «умельцу».
– А почему бы вам не сходить в школу и не поговорить с учителями?
– Ну, не знаю… Может, это все-таки лучше сделать моей жене, а?..
– А вы сходите вдвоем. Приемные часы – первая среда месяца, в двадцать часов. После этого вы могли бы где-нибудь поужинать вдвоем.
– Я?.. С женой? С какой стати?
– Она наверняка была бы рада.
Мсье Эгаре пошел дальше, не дожидаясь, пока Гольденберг подведет научную базу под свое нежелание следовать его совету.
Впрочем, он сделает это и без него.
Можно не сомневаться, что в ближайшую первую среду месяца в школе, как всегда, будут сидеть одни матери. Да и тех мало интересует проблема просвещения пубертирующего потомства. Большинству из них нужны скорее воспитательно-разъяснительные книги для мужчин, в которых бы представителям сильного пола объяснялось, где у женщин низ, а где верх.
Эгаре набрал код на входной двери дома и вошел в подъезд. Не успел он сделать и нескольких шагов, как из своей «ложи» консьержки выкатилась мадам Розалетт с мопсом под мышкой.
Придавленный мощным бюстом Розалетт, мопс всем своим видом выражал недовольство.
– Мсье Эгаре! Наконец-то вы пришли!
– О, у вас новый цвет волос, мадам? – ответил он, нажимая кнопку вызова лифта.
Она коснулась красной, натруженной на уборке рукой вавилонской башни на голове:
– Это «испанская роза». Чуть темнее, чем «дикая вишня». Но оттенок, по-моему, более элегантный. И как вы всегда все замечаете! Да, так вот, я должна вам кое в чем признаться.
Она возбужденно захлопала глазами. Мопс аккомпанировал ей ритмичным пыхтением.
– Если это тайна, мадам, я обещаю забыть ее в ту же минуту.
У Розалетт было особое пристрастие: она любила наблюдать привычки, неврозы и интимные подробности жизни своих сограждан, оценивать их по собственной шкале порядочности и со знанием дела доводить добытую информацию до сведения других сограждан. С особым размахом.
– Ах, перестаньте! В общем-то, меня мало волнует, будет ли мадам Гулливер счастлива с этими молодыми мужчинами или нет. Нет-нет. Дело в том, что… понимаете, тут у меня… книжка…
Эгаре еще раз нажал кнопку вызова лифта.
– …которую вы купили у другого книготорговца? Так и быть, прощаю вас, мадам Розалетт.
– Хуже! Выудила из корзины уцененных книжек на Монмартре, за пятьдесят сантимов! Но вы ведь сами говорили, что, если книжке больше двадцати лет, красная цена ей – пара сантимов. Да и то это будет чистая благотворительность – чтобы спасти ее от растопки камина.
– Правильно. Говорил.
Ну где же этот подлый лифт?
Розалетт подалась вперед, и ее кофейно-коньячное дыхание смешалось с дыханием мопса.