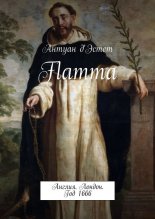Лавандовая комната Георге Нина
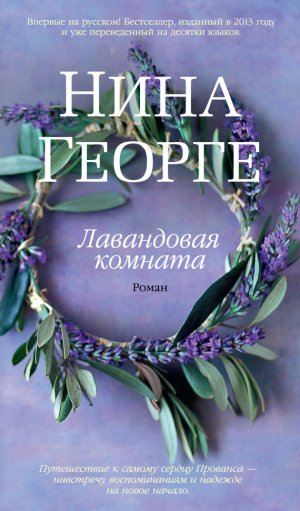
– Что-нибудь еще? – спросил Эгаре-старший, доставая из принесенного ему сыном пакета бутылку муската.
– Ей нужна новая подержанная машина. Она просила тебя подыскать ей что-нибудь. Только не такого дурацкого цвета, как последняя.
– Дурацкого? Да она была белая! Вот уж действительно – с твоей матерью не соскучишься!
– Ну, так как? Подберешь ей что-нибудь?
– Подберу, подберу. А что, владелец автосалона опять не захотел с ней говорить?
– Да. Он каждый раз спрашивает ее про мужа. А ее это бесит.
– Знаю, Жанно. Он мой хороший приятель, этот Коко, играет в нашей тройке, классный игрок.
Жоакен ухмыльнулся.
– Мама спрашивает, умеет ли твоя новая подружка готовить, или ты четырнадцатого июля будешь обедать у нее?
– Скажи своей матери, что моя так называемая новая подружка прекрасно готовит, но у нас с ней есть и другие занятия, кроме еды.
– Мне кажется, будет лучше, если ты сам скажешь это маме.
– Я могу сказать это мадемуазель Бернье как раз четырнадцатого июля. Что ни говори, а готовит она неплохо. Наверняка будут мозги с языком.
Жоакен затрясся от смеха.
С тех пор как его родители развелись, Жан Эгаре каждую субботу навещал отца, принося с собой мускат и различные вопросы от матери. А по воскресеньям он ходил к матери и передавал ей ответы бывшего супруга, а также сбалансированный отчет о его состоянии здоровья и актуальных параметрах его личной жизни.
– Дорогой мой сын, женщина, выходя замуж, автоматически пожизненно становится своего рода системой контроля. Ты следишь за всем: что делает муж, как он себя чувствует. А позже, когда появляются дети, ты отвечаешь и за них. Ты превращаешься в надзирательницу, служанку и дипломата в одном флаконе. И это не кончается с такими банальными переменами, как развод. О нет, любовь, может, и проходит, но забота остается.
Эгаре и его отец прошлись немного вдоль канала. Жоакен, ниже ростом, прямой, широкоплечий, в лилово-белой клетчатой рубашке, провожал огненным взором каждую женщину. На светлых волосках его жилистых рабочих рук весело плясали солнечные искорки. Ему было семьдесят пять, но держался он как двадцатипятилетний, насвистывал шлягеры и пил столько, сколько хотел.
Мсье Эгаре шел рядом с ним, глядя в землю.
– Ну ладно, Жанно, – сказал вдруг отец. – Как ее зовут?
– Что? Кого? По-твоему, это обязательно должна быть женщина, папа?
– Это всегда – женщина, Жанно. Ничто другое не может выбить мужчину из колеи. А ты выглядишь так, как будто тебя не выбили, а вышибли из колеи.
– Это у тебя, возможно, все зависит от женщины. А чаще – сразу от нескольких.
Жоакен мечтательно улыбнулся.
– Да, я люблю женщин, – сказал он и достал из кармана рубашки пачку сигарет. – А ты разве нет?
– Ну почему же? Люблю, но… как-то…
– «Как-то»? Это как? Как слон слониху? А может, ты предпочитаешь мужчин?
– Перестань. Я не голубой. Поговорим лучше о лошадях.
– Хорошо, сынок, как скажешь. У женщин и лошадей много общего. Хочешь знать, что именно?
– Нет.
– Ну, так вот. Если лошадь говорит «нет», значит ты просто неправильно сформулировал вопрос. То же самое с женщинами. Не надо спрашивать ее: «Поужинаем вместе?» Надо спрашивать: «Что тебе приготовить?» Может она на это ответить «нет»? Нет, не может.
Эгаре чувствовал себя мальчишкой. Отец и в самом деле принялся просвещать его относительно женщин.
А что мне сегодня вечером приготовить Катрин?
– Вместо того чтобы шептать им на ухо, как лошадям: мол, ложись, женщина, надевай свою сбрую, надо самому внимательно их слушать. Слушать, что они хотят. А они, в сущности, хотят быть свободными и летать над землей.
Катрин, похоже, сыта по горло наездниками, которым только и надо, что выдрессировать ее, а потом списать в резерв.
– Чтобы обидеть их, достаточно одного-единственного слова, нескольких секунд, одного глупого нетерпеливого удара хлыстом. А на то, чтобы вернуть себе их доверие, уходят годы. А иногда на это и жизни не хватит.
Удивительно, с каким равнодушием люди воспринимают любовь к себе, если она не входит в их планы. Эта любовь настолько тягостна для них, что они меняют дверные замки или уходят без предупреждения.
– А когда любит лошадь, Жанно… мы так же не заслуживаем их любви, как и любви женщин. Они более возвышенные создания, чем мы, мужчины. Когда они любят, то это – милость, потому что мы редко даем им повод любить нас. Я научился этой истине у твоей матери, и она, к сожалению, права.
И именно поэтому так больно. Когда женщины перестают любить, мужчины возвращаются назад в свою пустоту.
– Жанно, женщины любят в сто раз умнее, чем мужчины! Они никогда не любят мужчину только за его тело. Даже если оно им нравится, и очень нравится. – Жоакен блаженно вздохнул. – Женщины любят тебя за характер. За силу. За ум. За то, что ты можешь защитить ребенка. Потому что ты – хороший человек, с честью и достоинством. Они никогда не любят так глупо, как мужчины любят женщин. За то, что у тебя красивые ноги или что ты сногсшибательно выглядишь в костюме, так что твои подруги или коллеги завистливо кусают губы, когда она тебя с ними знакомит. Такие женщины тоже есть, но они существуют только для того, чтобы быть предостережением для других.
Мне нравятся ноги Катрин. Интересно, ей было бы приятно знакомить меня с подругами или коллегами? Достаточно ли я… умен для этого? И честен? Есть во мне что-нибудь, что ценят женщины?
– Лошадь просто восхищается всей твоей личностью.
– Лошадь? Почему лошадь? – искренне удивился Эгаре.
Он прослушал половину.
Тем временем они повернули за угол и опять оказались в нескольких метрах от игроков в петанк на берегу канала Урк.
Жоакена приветствовали пожатием руки, Жану пришлось довольствоваться кивками.
Он наблюдал, как его отец вышел на площадку и встал в круг для броска. Как он, присев на корточки, размахивал правой рукой, словно маятником.
Веселая ходячая бочка с рукой. Мне повезло с отцом, он всегда любил меня, хотя отцом был далеко не идеальным.
Стук металла о металл. Жоакен Эгаре умело выбил шар противника за линию аута.
Одобрительное бормотание.
Я готов сидеть здесь целый день и реветь без остановки. Почему у меня, идиота, больше нет друзей? Может, я испугался, что они в один прекрасный день тоже уйдут? Как ушел мой лучший друг Виджайя? Или что они будут смеяться, что я так и не переболел Манон?
Он посмотрел на отца и уже хотел сказать ему: «А ты нравился Манон. Помнишь Манон?»
Но отец опередил его.
– Жанно, передай матери… – сказал он. – Ну, в общем… скажи ей, что лучше ее никого нет. И не было.
В его глазах мелькнуло сожаление о том, что любовь не мешает одному супругу пригвоздить к стене другого за то, что тот его жутко раздражает.
10
Катрин осмотрела его барабулек, свежую зелень, сливки от широкобедрых нормандских коров, потом показала свои припасы – несколько небольших молодых картофелин, сыр, душистые груши и вино – и спросила:
– Как вы думаете, можно из всего этого что-нибудь приготовить?
– Можно. Но только не одновременно, а последовательно, – ответил он.
– Я целый день радовалась этому ужину, – призналась она. – И немного боялась. А вы?
– Наоборот, – ответил он. – Я очень боялся и немного радовался. Я должен перед вами извиниться.
– Нет, не должны. Вы сейчас боретесь с какой-то болью, и вам совсем необязательно делать вид, что это не так.
С этими словами она бросила ему вместо фартука серо-синее клетчатое полотенце. На ней было голубое летнее платье с красным поясом, за который она тоже заткнула такой же «фартук». Сегодня он успел заметить, что светлые волосы у нее на висках серебрились на солнце, а во взгляде уже не было ни ужаса, ни растерянности.
Вскоре под кастрюлями и разнокалиберными сковородками уже шипело голубое пламя, тихо булькал сливочный соус с белым вином и луком-шалотом, а в тяжелой сковороде покрывался нежным румянцем картофель в оливковом масле с розмарином и солью. Окна запотели.
Они беседовали так непринужденно, как будто знали друг друга много лет. О Карле Бруни[18], о морских коньках, самцы которых вынашивают потомство в кармане на брюшке. О моде на соль с разными вкусовыми добавками. И разумеется, о соседях.
Темы, серьезные и легкие, приходили сами собой между вином и рыбой, за совместными кулинарными манипуляциями. Эгаре казалось, что они с Катрин фраза за фразой открывают свое внутреннее родство.
Он делал соус, Катрин жарила в этом соусе рыбу. Ели они прямо из сковородок, стоя, поскольку у Катрин был всего один стул.
Она налила вина, легкого желтого тапи из Гаскони. И он действительно пил! Осторожными глотками.
Это было самое удивительное в его первом с 1992 года рандеву: едва переступив порог квартиры Катрин, он ощутил непривычное чувство безопасности, окутавшее его, словно облако. Все опасные, болезненные мысли, обычно кружившие на периферии его сознания, сюда не проникали. Они как будто остались за некой прозрачной волшебной стеной.
– Чем вы сейчас живете? Чем занимаетесь? – спросил в какой-то момент Эгаре, когда они уже поговорили обо всем на свете, вплоть до портных президентов.
– Я? Поисками, – ответила она, потянувшись за куском багета. – Я ищу себя. До… до того, что со мной произошло, я была ассистенткой, секретаршей, пиар-менеджером и почитательницей своего мужа. Сейчас я ищу то, что умела до встречи с ним. Точнее, ставлю опыты, пытаясь понять, остались ли еще какие-то навыки. Вот этим я и занимаюсь. Опытами.
Она принялась выскребать мякиш из багета и мять его тонкими пальцами, стараясь придать ему какую-то форму.
Эгаре читал Катрин, как книгу. Она не противилась, предоставив ему свободно листать повесть ее души, вглядываться в перипетии ее истории.
– Я себя сегодня чувствую, как будто мне не сорок восемь лет, а восемь. В детстве я ненавидела, когда меня игнорировали. И в то же время, когда кто-нибудь проявлял ко мне интерес, сразу терялась. К тому же этот интерес должны были проявлять не все подряд, а только те, кто был мне нужен: богатая девочка с гладкими волосами, с которой я хотела подружиться, добрый учитель, который должен был обратить внимание на то, с какой скромностью я делюсь своими обширными познаниями. И моя мать. Ах, моя мать… – Катрин замолчала. Пальцы ее продолжали лепить что-то из хлебного мякиша. – Мне всегда было необходимо внимание как раз самых больших эгоистов. Остальные мне были безразличны: мой отец, толстая, вечно потная Ольга с первого этажа. Хотя они были очень даже милы. Но когда я нравилась «милым» людям, мне было как-то неловко. Глупо, правда? И вот такой вот глупой девчонкой я была и в замужестве. Я хотела, чтобы на меня обратил внимание мой муж, этот идиот, а всех остальных я в упор не видела. Но теперь я созрела для того, чтобы изменить это. Передайте мне, пожалуйста, перец.
Она слепила из мякиша своими маленькими тонкими пальцами морского конька и вставила ему глазки из горошинок перца.
– Я была скульптором, – сказала она и протянула Эгаре морского конька. – Когда-то. Мне сорок восемь лет, и я начинаю учиться всему заново. Не помню, сколько лет прошло с тех пор, как я в последний раз спала со своим мужем. Я была верной дурой и потому жутко одинокой, такой одинокой, что если вы вздумаете проявлять ко мне участие и великодушие, то я вас просто укушу. Или убью. Потому что терпеть этого не могу.
Эгаре с удивлением смотрел на себя со стороны: он с такой женщиной, один, за закрытой дверью…
Позабыв обо всем на свете, он с таким жадным любопытством рассматривал лицо Катрин, ее голову, словно собирался залезть внутрь и узнать, что там есть еще интересного.
У Катрин были проколоты уши, но серьги она не носила. («Те серьги с рубинами теперь носит его новая пассия. Жаль, я бы с таким удовольствием швырнула их к его ногам».) Иногда она касалась пальцами ямки на шее, словно искала что-то. Возможно, цепочку, которую теперь тоже носила другая.
– А чем занимаетесь вы? – спросила она.
Эгаре рассказал ей о своей «Литературной аптеке».
– Пузатая баржа с камбузом, ванной, двумя койками и восемью тысячами книг. Отдельный мирок.
И игрушечное приключение, как и всякое другое судно, прикованное к берегу. Но этого он не сказал.
– И посреди этого мирка – король, мсье Эгаре, литературный фармацевт, выписывающий лекарства от любовных мук.
Катрин показала рукой на пакет с книгами, которые он принес ей накануне вечером:
– Кстати, помогает.
– А кем вы хотели стать, когда были девочкой? – спросил он, чтобы скрыть охватившее его вдруг смущение.
– О, я хотела стать библиотекарем. И пиратом. Ваш «книжный ковчег» – как раз то, что мне было нужно. Днем я бы добывала из книг все тайны и сокровища мира.
Эгаре слушал ее с растущей симпатией.
– А ночью отнимала бы у злых людей все, что они выдурили у добрых своим враньем. И взамен оставляла бы им одну-единственную книжку, которая бы их просветила, пробудила в них раскаяние и превратила их в добрых людей – ну и так далее… Естественно, а как же иначе!
Она рассмеялась.
– Все верно, – подтвердил он ее иронию.
Ведь это единственное трагическое свойство книг: они действительно изменяют людей. Но только не злых. Эти не становятся хорошими отцами, любящими мужьями, добрыми, преданными подругами. Они остаются тиранами, продолжают мучить своих сотрудников, детей, собак, радуясь унижению своих жертв, непримиримые в мелочах, трусливые в серьезных ситуациях.
– Книги были моими друзьями, – сказала Катрин, охлаждая бокалом с вином раскрасневшуюся от кухонного жара щеку. – Мне кажется, я все свои чувства взяла из книг. В них я любила, смеялась и узнала больше, чем за всю свою внекнижную жизнь.
– Я тоже, – пробормотал Эгаре.
Взгляды их встретились, и все произошло как-то очень просто и естественно.
– А что, собственно, означает это «Ж» в вашей записке? – спросила Катрин внезапно потеплевшим голосом.
Он не сразу смог ответить: ему пришлось прокашляться.
– Жан… – произнес он почти шепотом непривычно заплетающимся языком – настолько чужим стало для него это слово. – Меня зовут Жан Альбер Виктор Эгаре. Альбер – в честь моего деда по отцовской линии. Виктор – в честь моего деда по материнской линии. Моя мать – преподаватель, ее отец Виктор Бернье был токсикологом, социалистом и мэром. Мне пятьдесят лет, Катрин, и в моей жизни было очень немного женщин, еще меньше тех, с которыми я спал. Одну из них я любил. Она ушла от меня.
Катрин неотрывно смотрела на него.
– Двадцать один год назад. Это письмо – от нее. И я боюсь читать его.
Он ждал, что она вышвырнет его. Даст ему пощечину. Отведет взгляд. Но она не сделала ни того, ни другого, ни третьего.
– Ах, Жан… – прошептала Катрин с искренним состраданием.
– Жан…
Давно забытое сладкое ощущение от того, что кто-то произносит твое имя.
Они смотрели друг на друга. Он заметил в ее взгляде едва уловимый трепет, почувствовал, что и сам вдруг стал мягким, податливым, и впустил ее в себя. Они проникли друг в друга взглядами и непроизнесенными словами.
Две лодки в открытом море, которые думали, что, с тех пор как потеряли якоря, дрейфуют в одиночку, и вдруг…
Она провела рукой по его щеке.
Эта секундная ласка прозвенела в его сознании как пощечина, потрясающе сладкая, блаженная пощечина.
Еще! Еще!
Когда она поставила на стол свой бокал, их обнаженные предплечья соприкоснулись.
Кожа. Нежный пушок. Тепло.
Кто из них испугался больше – неизвестно, но то, что этот испуг был вызван не ощущением чужеродности, внезапной близостью, соприкосновением, оба поняли мгновенно.
Они испугались остроты этого ощущения.
11
Жан сделал шаг в ее сторону и, встав у нее за спиной, почувствовал запах ее волос и ощутил грудью ее плечи. Сердце его бешено колотилось. Он медленно и внешне очень спокойно положил ладони на ее тонкие запястья. Сомкнув на них большие и средние пальцы, он нежно провел этими почти бестелесными кольцами из тепла и кожи вверх по рукам Катрин.
Она судорожно вздохнула тонким, птичьим голосом, на острие которого едва внятно прошелестело его имя:
– Жан!..
– Да, Катрин.
Эгаре почувствовал растущую в ней дрожь. Эта дрожь шла из эпицентра внизу живота, раскатистая и гулкая, как землетрясение. Она катилась волнами.
Он обнял ее сзади, чтобы сдержать эти волны.
Тело ее содрогалось, не оставляя сомнений в том, что оно долго, очень долго не знало ласки. Она была нераспустившимся цветком, сжатым, стиснутым в своей оболочке.
И такой одинокой. Такой покинутой.
Катрин прислонилась к нему. Ее волосы приятно пахли.
Прикосновения Эгаре становились все нежней, он гладил только кончики тонких волосков на ее голых руках, только воздух над ними.
Как хорошо!
«Еще! – молила плоть Катрин. – Пожалуйста, еще! Я так давно не испытывала этого, я изнемогаю от жажды! Нет, это слишком остро, слишком сильно! Я не выдержу этого! Мне так этого не хватало! Я терпела эту жажду до сегодняшнего дня, я была так жестока к себе самой. Но теперь – о, я распадаюсь на части, рассыпаюсь, как песок, растворяюсь, помоги мне, не прерывай эту сладкую муку!»
Неужели я слышу ее чувства?
Звуки, исходившие из ее уст, были лишь варианты его имени.
Жан… Жан!.. Жан?..
Катрин прижалась к нему и полностью отдалась его рукам. Его пальцы жгло исходившим от нее жаром, ему казалось, что он – и рука, и член, и чувство, и тело, и душа, и мужчина, и все мышцы, и все это, слитое воедино, сосредоточилось в кончиках его пальцев.
Он касался лишь не прикрытой платьем кожи. Ее рук, крепких и смуглых; он едва ощутимо ласкал их, повторяя все линии и изгибы. Он гладил ее затылок, волосы, ее шею, нежную и мягкую, ее изогнутые, удивительные, завораживающие ключицы. Он, словно скульптор, «читал» подушечками пальцев контуры ее мышц, напряженных и расслабленных.
Ее кожа становилась все теплее и теплее. Он чувствовал, как наливаются под ней упругие мышцы, как все тело Катрин разгорается и звенит от сладкой истомы. Плотный тяжелый цветок, рвущийся на свободу из затвердевшего бутона. Царица ночи.
Он тихо произнес ее имя, словно пробуя его на вкус:
– Катрин…
Давно забытые чувства потрясли его, и корка, которой его душа покрылась за все эти годы, отвалилась сама собой. В паху у него блаженно заныло. Его руки чувствовали уже не столько импульсы, которые посылала Катрин, сколько то, как отвечает ее кожа, как ее тело ласкает его руки. Ее тело целовало его ладони, кончики его пальцев.
Как она это делает? Что она со мной делает?
Мог ли он отнести и положить ее куда-нибудь, где бы ее дрожащие колени наконец расслабились? Где он узнал бы, какова на ощупь ее кожа на икрах, под коленками? Сможет ли он извлечь из нее и другие звуки и мелодии?
Он хотел видеть ее лежащей, с открытыми глазами, хотел утопить свой взгляд в этих глазах; он хотел коснуться пальцем ее губ, ее лица. Он хотел, чтобы все ее тело – каждая частичка – целовало его ладони.
Катрин повернулась; ее серые глаза стали похожи на грозовое небо, огромное, распоротое молниями, тревожное.
Он поднял ее на руки. Она прижалась к нему. Он понес ее в спальню, ласково покачивая на руках. Ее спальня была зеркальным отражением его жизни – матрас на полу, вешалка на колесиках в углу, книги, лампа для чтения и проигрыватель.
В высоких окнах он увидел свое отражение, безликий силуэт. Но фигура прямая. Сильная. На руках женщина. Такая женщина!
Жан Эгаре почувствовал, как с его тела спала какая-то оболочка. Чувственная глухота, слепота в отношении себя самого.
Желание быть невидимым.
Я мужчина… Я вновь мужчина…
Он опустил Катрин на незатейливое ложе, на гладкую белую простыню. Она лежала прямо, ноги вместе, руки вдоль тела. Он лег рядом на бок и стал смотреть, как она дышит, как дрожит ее тело в некоторых местах, словно там под кожей пульсировали толчки далеких землетрясений.
Например, в ямке на шее. Между грудью и подбородком. Под самым горлом.
Он наклонился к ней и коснулся губами этой пульсирующей ямки.
Снова этот птичий голос:
– Жан…
Дрожь. Стук ее сердца. Ее тепло.
Она хлынула в него горячим душистым током через его губы, как через воронку.
Огонь, пылавший в ней, перекинулся и на него.
А потом вдруг – о боже, я умираю! – она прикоснулась к нему.
Пальцы сквозь ткань рубашки. Ладонь на коже.
Когда рука Катрин, скользнув вдоль галстука, проникла под его рубашку, в нем вдруг ожило давным-давно забытое чувство. Оно стремительно росло, ширилось, повторяя все его внутренние извивы, заполняя каждую клетку, и наконец подступило к самому горлу так, что у него захватило дух.
Он замер и затаил дыхание, чтобы не вспугнуть, не разрушить это упоительное, устрашающе острое, властное чувство.
Желание. Какое жгучее вожделение!
Чтобы не выдать себя, не показать, насколько его парализовал этот восторг, и чтобы не смущать Катрин своей неподвижностью, он заставил себя медленно – как можно медленнее – выдохнуть.
Любовь.
Это слово, а вслед за ним и воспоминание о самом чувстве поднялось на поверхность его сознания; глаза наполнились слезами.
Как мне ее не хватает!
В глазах Катрин тоже блеснули слезы. За кого она плачет – за себя или за него?
Она вынула руку из-под его рубашки, расстегнула ее, сняла с него галстук. Он приподнялся и склонился над ней, чтобы облегчить ее манипуляции.
Потом она положила ладонь ему на затылок. Она не сжимала ее, не пыталась притянуть к себе его голову.
Губы Катрин приоткрылись, словно говоря: «Поцелуй меня».
Он обводил пальцем контуры этих губ, поражаясь их удивительной мягкости.
Казалось бы, продолжение подразумевалось само собой: одним движением руки вниз преодолеть последнюю дистанцию. Долгий поцелуй, диалог языков, превращение новизны в ощущение родства, любопытства – в вожделение, счастья…
В стыд? В несчастье? В возбуждение?
Запустить руку под платье, медленно раздеть ее, сначала белье, потом платье – да именно так бы он и сделал. Ему приятно было бы сознавать, что под платьем она голая.
Но он не сделал этого.
Катрин в первый раз с момента их соприкосновения закрыла глаза. Раскрыв губы, она сомкнула глаза.
Она словно выставила его за дверь. Он уже не мог видеть, чего ей хочется на самом деле.
Он чувствовал, что в ней что-то произошло. И эта внезапная перемена была чревата новой болью.
Воспоминание о том, как ее целовал муж? (Тем более что это, кажется, было в страшно далеком прошлом. И у него, скорее всего, уже тогда была подружка. И он уже тогда говорил жуткие вещи вроде: «У меня твои недомогания вызывают отвращение!» или «Если мужчина больше не желает видеть женщину в своей спальне, то в этом есть и ее заслуга!») Ее тело наверняка хранит болезненную память о том, как жестоко им пренебрегали – ни ласки, ни прикосновений; вместо этого – глубокое, оскорбительное равнодушие. Воспоминание о сексе с мужем? (В котором она не знала истинного удовлетворения; женщин нельзя баловать, говорил он, избалованные женщины перестают любить, а кроме того, чего ей еще надо – он сделал все, что мог!) Воспоминание о ночах, когда ее охватывало отчаяние и страх, что она больше никогда не почувствует себя женщиной, что больше никто не прикоснется к ней с нежностью и любовью, что она больше никогда не останется наедине с мужчиной за закрытой дверью?
Призраки Катрин встали между нею и Эгаре, а к ним присоединились и его призраки.
– Мы уже не одни, Катрин.
Она открыла глаза. Гроза в них померкла, и тревожные серебряные зарницы превратились в бледный образ покорности.
Она кивнула. Глаза ее наполнились слезами.
– Да. Ах, Жан… Этот идиот появился в тот самый момент, когда я подумала: «Наконец-то! Наконец-то мужчина ласкает меня так, как я всегда этого хотела. А не так, как… ну, одним словом, как этот идиот!»
Она легла на бок, отвернувшись от него.
– Даже мое старое «я»! Эта глупая маленькая забитая Кати. Которая вечно искала вину в себе самой – когда мужчина ей противен или когда родная мать не замечает ее по нескольку дней. Наверное, я что-то сделала не так… что-то упустила из виду… Была недостаточна послушна. Или недостаточно счастлива. Недостаточно сильно любила его или ее, иначе они не были бы такими…
Она заплакала.
Сначала тихо. А потом, когда он накрыл ее одеялом и обнял, положив ей ладонь на затылок, разразилась душераздирающими рыданиями.
Он чувствовал, как она в его руках шла через все тернии, над которыми тысячу раз мысленно пролетала. Боясь упасть вниз, потерять самообладание, утонуть в боли – что и произошло.
Она упала. Коснулась земли, побежденная горем, печалью и унижением.
– У меня больше не было друзей… Он говорил, что им нужно всего-навсего купаться в лучах его славы. Его славы. Он не мог себе представить, что им была интересна я. Он говорил: ты мне нужна. А я ему была совершенно не нужна, он даже не хотел меня… Он хотел один заниматься искусством… Я своим пожертвовала, но ему этой жертвы было мало. Мне, наверное, надо было умереть, чтобы доказать ему, что он для меня все? И что он как художник выше меня на три головы?.. Двадцать лет, Жан!.. – произнесла она отчаянно хриплым шепотом. – Двадцать лет, которые я не жила… Я плевала сама и позволяла ему плевать на свою жизнь…
Дыхание ее постепенно становилось ровным.
Наконец она уснула.
Ее тело обмякло в руках Эгаре.
Значит, и она тоже. Двадцать лет. Похоже, способов испортить себе жизнь больше чем достаточно.
Мсье Эгаре знал, что теперь настал его черед.
Теперь ему предстоит коснуться земли.
В гостиной, на его старом белом кухонном столе, лежало письмо Манон. Впрочем, у него было слабое грустное утешение: осознание того, что не он один промотал свое богатство, свое время.
Он на несколько секунд задумался о том, что было бы, если бы Катрин встретила не Ле П., а его.
Гораздо дольше он думал о том, готов ли он прочесть письмо.
Конечно нет.
Распечатав конверт, он долго нюхал бумагу. Затем закрыл глаза и опустил голову.
Потом сел на высокий барный стул и стал читать письмо, которое Манон написала ему двадцать один год назад.
12
Боньё, 30 августа 1992 г.
Жан, я уже тысячу раз писала тебе и каждый раз начинала с одного и того же слова, потому что ни одно другое слово не передает так точно моего отношения к тебе: «любимый».