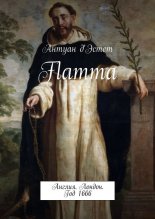Лавандовая комната Георге Нина
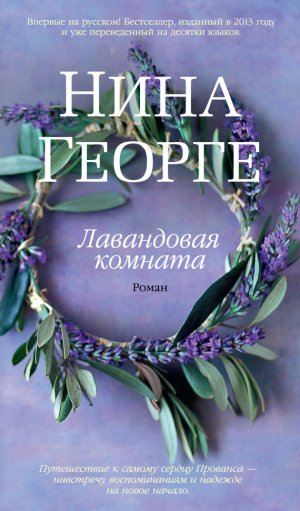
Любимый мой Жан! Такой любимый и далекий!
Я сделала глупость. Я не сказала тебе, почему ушла от тебя. И я очень жалею и о том, и о другом – о том, что ушла, и о том, что скрыла от тебя причину.
Пожалуйста, прочти это письмо до конца, не сжигай меня. Я ушла от тебя не потому, что не хотела быть с тобой.
Я хотела этого. Гораздо больше того, что происходит со мной сейчас.
Жан, я очень скоро умру; они говорят, к Рождеству.
Когда я уходила от тебя, мне так хотелось, чтобы ты меня возненавидел!
Я вижу, как ты качаешь головой, mon amour. Но я хотела поступить так, как того требует любовь. А она говорит: действуй во благо другого. Я думала, что для тебя будет лучше, если ты в гневе вычеркнешь меня из своей жизни. Если ты не будешь переживать, скорбеть и вообще не узнаешь о моей смерти. Чик, отрезал – и живешь дальше.
Но я ошиблась. Так не получается, я все же должна сказать тебе, что случилось со мной, с тобой, с нами. Это и прекрасно, и в то же время ужасно, это слишком огромно для маленького письма. Мы поговорим об этом, когда ты приедешь.
Именно об этом я хочу попросить тебя, Жан: приезжай!
Мне так страшно умирать!
Но я подожду с этим до твоего приезда.
Я люблю тебя.
Манон
P. S. Если ты не захочешь приехать, если твоего чувства для этого недостаточно, я пойму тебя. Ты ничего мне не должен. В том числе и жалости.
P. P. S. Врачи уже не разрешают мне никуда ездить. Люк ждет тебя.
Мсье Эгаре неподвижно сидел в темноте и чувствовал себя так, как будто его зверски избили.
В груди у него все болезненно сжалось.
Этого не может быть!..
Прищурив глаз, он видел себя самого. Того, что жил двадцать один год назад. Видел, как прямо, не сгибаясь, он сидит за столом, словно окаменев, и не желает вскрывать письмо.
Это невозможно!
Она же не могла?..
Она предала его дважды. В этом он твердо себя уверил. На этом он построил свою жизнь.
Ему было худо до тошноты.
И вот, оказывается, это он предал ее. Манон напрасно ждала, что он приедет, и это в то время как она…
Нет! Только не это! Ради бога!
Он все сделал не так.
Письмо, постскриптум – в ее глазах все выглядело так, как будто его чувств и в самом деле не хватило. Как будто Жан Эгаре не настолько любил ее, чтобы исполнить это ее страстное, безумное, заветное последнее желание.
И вместе с осознанием этого в нем росло чувство жгучего, невыносимого стыда.
Он представил ее себе в те долгие, бесконечные часы и недели после отправки письма. Как она ждала, что перед домом остановится машина и в дверь постучит ее Жан.
Прошло лето, осень посеребрила инеем опавшую листву, зима сдула с деревьев последние лохмотья зелени.
А он так и не приехал.
Он закрыл лицо руками, ему хотелось избить самого себя.
А теперь уже поздно.
Мсье Эгаре трясущимися пальцами сложил ветхий листок бумаги, который необъяснимым образом все еще пахнул ею, и сунул обратно в конверт. Потом, отчаянно борясь с дрожью в руках, застегнул рубашку, пошарил ногами в поисках туфель. Привел в порядок волосы перед зеркалом ночного окна.
Ну, прыгай, чего ты ждешь, безмозглый идиот? Это самый простой выход из положения.
Повернув голову, он увидел Катрин, которая стояла, прислонившись к дверному косяку.
– Она меня… – выдавил он из себя, показав на письмо. – Я ее… – Он никак не мог подобрать слово. – А все вышло совсем иначе.
Но какое же тут нужно употребить слово?
– Она тебя любила? – подсказала Катрин.
Он кивнул.
Точно. Вот оно, это слово.
– Это же хорошо.
– Поздно, – ответил он.
Это все перечеркнуло. Это перечеркнуло и меня.
– Похоже, она меня…
Ну, говори же.
– …покинула из любви. Да, из любви. Покинула.
– Вы еще увидитесь? – спросила Катрин.
– Нет. Она умерла. Манон уже давно нет в живых.
Он закрыл глаза, чтобы не смотреть на Катрин, чтобы не видеть ту боль, которую он ей сейчас причинит.
– А я любил ее. Я так любил ее, что, когда она ушла, я перестал жить. Она умерла, а у меня засело в голове, как подло она со мной обошлась. Какой я был дурак! И… прости, Катрин, – я им и остался. Я даже не могу ничего толком сформулировать, говоря об этом. Мне, наверное, сейчас лучше уйти, пока я не сделал тебе еще больнее, а?..
– Конечно иди. И обо мне не беспокося: ты мне не делаешь больно. Такова жизнь, нам уже не по четырнадцать лет. Когда у тебя нет никого, кого бы ты мог любить, поневоле станешь странным. И в каждом новом чувстве на какое-то время оживает старое. Так уж устроен человек… – прошептала Катрин спокойно и уверенно.
Она посмотрела на кухонный стол, который был виновником всего случившегося.
– Хотела бы я, чтобы мой муж покинул меня из любви. Это, наверное, самый лучший вариант быть покинутым.
Эгаре шагнул к Катрин, неловко обнял ее. Но это объятие было проникнуто горечью и отчуждением.
13
Пока на плите пыхтел чайник, Эгаре сделал сто отжиманий от пола. После первого глотка кофе он заставил себя сделать еще и двести приседаний, до дрожи в ногах.
Потом принял контрастный душ, побрился, несколько раз серьезно порезавшись. Дождался, когда перестанет идти кровь, выгладил белую рубашку и завязал галстук. Сунув в карман брюк несколько банкнот, он бросил пиджак на руку и пошел к двери.
На лестничной площадке он старался не смотреть в сторону квартиры Катрин.
Его тело уже успело безумно соскучиться по ее объятиям.
А что потом? Я утешу ее, она утешит меня, и мы будем чувствовать себя как два использованных носовых платка.
Он достал из почтового ящика заказы на книги, оставленные соседями. Поздоровался с Тьерри, вытиравшим столы, влажные от утренней росы.
Он съел свой омлет с сыром, почти не осознавая этого и не чувствуя вкуса, потому что с яростным усердием штудировал утреннюю газету.
– Ну, что пишут? – спросил Тьерри, положив руку на плечо Эгаре.
Этот жест был таким легким, таким дружеским, и мсье Эгаре усилием воли заставил себя не вскочить и не потрясти Тьерри за плечи.
Как она умерла? Отчего? Было ли ей больно? Может, она звала меня? Может, каждый день смотрела на дверь? Почему я был таким гордым?
Почему все так случилось? Какое наказание я заслужил? Может, мне и в самом деле покончить с собой? Хоть раз в жизни принять правильное решение?
Эгаре читал рецензии на книги. Читал внимательно, с маниакальной сосредоточенностью, словно задавшись целью не пропустить ни единого слова, ни единого факта, ни единой точки зрения. Он подчеркивал отдельные фразы, писал свои комментарии и тут же забывал все, что читал.
Читал дальше…
Он даже не поднял головы, когда Тьерри сказал:
– Вон та машина стоит здесь с ночи. Они что там, спят, что ли? Может, опять какие-нибудь охотники на этого писателя?
– Макса Жордана? – спросил Эгаре.
Пусть хоть этот мальчик не совершает таких глупостей.
Тьерри направился к машине, и она сразу же резко тронулась и уехала.
Услышав приближение смерти, она испугалась. И хотела, чтобы я ее защитил. А меня не было. Я в это время жалел сам себя.
Эгаре почувствовал тошноту.
Манон. Ее руки.
Ее письмо, ее запах, ее почерк – во всем этом всегда было что-то живое. Как мне ее не хватает!
Я ненавижу себя. Я ненавижу ее!
Как она допустила такое?.. Как она могла умереть?.. Это наверняка какое-то недоразумение. Она наверняка жива. Живет себе где-нибудь…
Он помчался в туалет, и его вырвало.
Тихого воскресенья не получилось.
Он подмел сходни, разнес по полкам книги, которые за несколько последних дней отказался продавать. С ювелирной точностью расставил их по местам. Вставил в кассовый аппарат новую ленту. Он не знал, куда девать руки.
Если я переживу этот день, я переживу и остальные дни, которые мне отпущены судьбой.
Он обслужил одного итальянца – «Я недавно видел книгу с вороном в очках на обложке. Она уже переведена?»
Он фотографировался с какой-то туристской парочкой, принимал заказы на книги с критикой ислама из Сирии, продал одной испанке антитромбозные чулки, насыпал в мисочки корм для Кафки и Линдгрен.
Пока кошки бродили по судну, Эгаре листал каталог канцелярских товаров, в котором были представлены не только термосалфетки с напечатанными на них рассказами из шести слов разных авторов, от Хемингуэя до Мураками, но и солонки, перечницы и приборы для специй в виде миниатюрных бюстов. Шиллер, Гёте, Колетт[19], Бальзак и Вирджиния Вулф, у которых из черепов сыпалась соль, перец или сахар.
Что за чушь?..
«Абсолютный бестселлер в разделе нон-бук: новые закладки в каждом книжном магазине. Особое предложение: „Ступени“ Германа Гессе – культовая подпорка для книг отдела поэзии!»
Эгаре тупо уставился на рекламный текст.
Знаете что? Пошли вы все в жопу с вашими Гёте-солонками! С вашими детективами на туалетной бумаге! И «Ступенями» – «В любом начале волшебство таится»[20] – в качестве украшения книжной полки!.. Спешите видеть! Хватит!
Эгаре посмотрел из окна на Сену.
Как сверкает вода! Как дробится в ней небо!
В сущности, очень даже недурно.
Может, Манон рассердилась на меня за что-нибудь и поэтому ушла таким необычным способом? Потому что я такой, какой есть, и у нее просто не было другой возможности? Например, поговорить со мной. Просто рассказать мне о своей беде. Попросить меня о помощи. Сказать мне правду.
– Что я, не человек, что ли? Кто я вообще? – произнес он вслух.
Жан Эгаре захлопнул каталог, свернул его в трубочку и сунул в задний карман серых брюк.
Он словно только для этого и жил все последние двадцать с лишним лет. До этой самой минуты, когда вдруг понял, чт ему нужно делать. Чт он должен был делать все это время, – даже без письма Манон.
Мсье Эгаре прошел в машинное отделение, открыл ящик с инструментами, в котором царил безукоризненный порядок, достал аккумуляторный винтовёрт, сунул в карман насадку и пошел к сходням. Вынув каталог из кармана и положив его на металлический настил, Эгаре встал коленями на глянцевые страницы, надел насадку на винтовёрт и принялся вывинчивать мощные болты, которыми сходни были закреплены у причала. Один за другим.
Затем отсоединил шланг для забора воды с берега, вынул штекер из распределительного щита на пристани и снял с кнехтов швартовы, которыми «Литературная аптека» уже двадцать лет была прикована к берегу.
Эгаре несколько раз ударил каблуком по кромке сходней, чтобы они отделились от береговой стенки, поднял их, протолкнул в бортовой проем на палубу, прыгнул на борт и закрыл дверцу.
Он пошел на корму в рулевую рубку, мысленно послав на рю Монтаньяр радиограмму: «Прости, Катрин», – и перевел ключ зажигания в положение предпускового подогрева.
Потом через десять секунд, которые он отсчитывал в радостном предвкушении старта, повернул ключ еще на одно деление.
Двигатель завелся как по команде.
– Мсье Эгаре! Мсье Эгаре! Алё! Подождите!
Он обернулся через плечо.
Жордан?.. Да, это Жордан! В наушниках и украшенных стразами солнечных очках на пол-лица из арсенала мадам Бомм, как определил Эгаре.
Жордан мчался к «книжному ковчегу» с зеленым парусиновым рюкзаком на спине, возбужденно прыгавшим в такт его шагам, и разнокалиберными сумками, болтавшимися у него в руках. За ним бежала какая-то парочка с фотоаппаратом.
– Вы куда? – заорал на ходу Жордан.
– К черту! Подальше отсюда! – проорал в ответ Эгаре.
– Отлично! Я с вами!
Жордан принялся швырять свой багаж на борт, когда «Лулу», натужно дрожа от непривычной вибрации, уже отделилась от набережной. Половина вещей полетела в воду, в том числе и нагрудная сумочка с мобильным телефоном и бумажником.
Двигатель ровно и глухо тарахтел, окутывая судно и окрестности в радиусе полусотни метров черными облаками сгоревшей солярки. Эгаре увидел начальника причала, с руганью бегущего к месту стоянки «Лулу».
Он перевел рычаг в положение «полный вперед».
Юный прозаик взял разбег.
– Нет! – крикнул Эгаре. – Мсье Жордан! Не вздумайте! Об этом не может быть и речи! Имейте же…
Макс Жордан прыгнул.
14
– …совесть!..
Мкс Жордан поднялся с палубы, потирая колено, растерянно посмотрел вслед своим уплывающим вещам, которые кружились в водовороте за кормой и медленно погружались в воду, потом широко улыбнулся и заковылял в рубку. В наушниках.
– Здравствуйте! – радостно сказал беглый автор. – Значит, вы еще и плаваете на этой посудине?
Эгаре возмущенно закатил глаза. Потом он прочтет ему нотацию и вежливо вышвырнет на берег. А сейчас ему нужно было сосредоточиться на управлении судном против течения. Что ему только не попадалось навстречу! Прогулочные катера, грузовые баржи, плавучие дома, птицы, мухи, пена… Как там было в правилах? Кто кому уступает дорогу и с какой скоростью он вообще имеет право двигаться? И что означают эти желтые ромбы над пролетами мостов?
Макс все еще смотрел на него, словно ожидая от него чего-то.
– Жордан, посмотрите, как там кошки и книги. И сварите кофе. А я постараюсь за это время никого не отправить на тот свет.
– Что? Кого вы хотите отправить на тот свет? – в недоумении уставился на него писатель.
– Да снимите вы наконец эти дурацкие наушники! И сварите кофе.
Когда спустя некоторое время Макс Жордан поставил в специальное углубление на панели, рядом с огромным штурвалом, металлическую чашку с крепким кофе, Эгаре уже немного привык к вибрации и приноровился к течению. Он и не помнил, когда в последний раз управлял баржей. Чего стоил один только нос длиной с три фуры! Который при этом так деликатно и бесшумно резал водную гладь.
Эгаре было и страшно и весело. Ему хотелось кричать и петь. Он впился пальцами в штурвал. Это было безумие, то, что он делал, это был идиотизм… Это было… потрясающе!
– Где вы этому научились? Всем этим корабельным премудростям? – спросил писатель, с благоговением глядя на навигационные приборы.
– У отца. Мне тогда было двенадцать. А в шестнадцать я получил сертификат судоводителя каботажного плавания, потому что думал, что когда-нибудь буду возить уголь на север страны.
И стану настоящим, уверенным в себе мужчиной, которому, чтобы быть счастливым, не нужен порт назначения. Боже, как летит время!
– Круто! А мой отец не научил меня даже делать бумажные кораблики.
Париж проплывал мимо, как на киноэкране. Пон-Нёф, Нотр-Дам, Арсенальная пристань.
– Да, прикольно вы смотали удочки! Джеймс Бонд отдыхает! Вы пьете кофе с молоком и сахаром, мистер Бонд? – спросил Жордан. – А зачем вы это сделали?
– Что сделал? Без сахара, Манипенни[21].
– Ну, обрубили концы. Свалили из Парижа. Решили поиграть в Гекльберри Финна на плоту. В Форда Префекта[22], в…
– Из-за женщины.
– Из-за женщины? Мне казалось, что женщины вас мало интересуют.
– Женщины – да. Меня интересует только одна. Но зато очень. И я еду к ней.
– А. Понятно. А почему вы не поехали к ней на автобусе?
– А вы думаете, что только книжные персонажи откалывают такие номера?
– Нет. Я думаю о том, что не умею плавать, а вы в последний раз управляли таким вот «Титаником» еще будучи школьником. А еще я думаю о том, что пять банок с кошачьим кормом вы расположили в алфавитном порядке… Может, вы просто псих? Боже мой! Неужели вы когда-то были двенадцатилетним мальчишкой? Трудно поверить! Вы производите впечатление, как будто всегда были таким.
– В самом деле?
– Таким взрослым. Таким… трезвым и невозмутимым…
Знал бы он, какой я дилетант!
– Я бы не доехал даже до вокзала. Слишком много времени было бы на раздумья, мсье Жордан. Нашлись бы и причины, по которым мне не следует ехать. И я бы не поехал. Стоял бы сейчас вон там… – Эгаре показал рукой на мост, с которого им махали девушки на велосипедах. – И так и остался бы там, где всегда был. В своей привычной жизни. Торчал бы в ней и дальше, как в жопе вилка.
– Вы сказали «в жопе»?..
– Да, ну и что?
– Классно. Теперь я за вас спокоен, теперь алфавитный порядок в вашем холодильнике уже не вселяет в меня такой тревоги.
Эгаре взялся за чашку. Интересно, какую тревогу вселило бы в него сообщение, что женщины, из-за которой он так резко обрубил все концы, уже двадцать один год нет в живых? Эгаре представил себе, как он скажет об этом Жордану. Сейчас. Знать бы только как.
– А вы, мсье? – спросил он. – Что заставило вас бежать отсюда без оглядки?
– Я хочу… я решил отправиться… на поиски новой истории, – запинаясь, пояснил Жордан. – Потому что… у меня внутри – пусто. Я не вернусь домой, пока не найду. Честно говоря, я просто пришел на причал, чтобы попрощаться с вами, а тут вы отчаливаете… Можно мне с вами, а? Можно?
Он смотрел на него с такой надеждой, что Эгаре решил повременить с высадкой случайного пассажира.
Впереди был весь мир, позади – опостылевшая прежняя жизнь, и он вдруг опять почувствовал себя мальчишкой, каким и в самом деле был когда-то. Хотя Макс со своей юношеской колокольни и не мог себе этого представить.
Он чувствовал себя двенадцатилетним. Как в то далекое время, когда он редко страдал от одиночества, хотя и любил быть один. Или с Виджайей, этим худеньким воробьем из индийской семьи математиков, жившей по соседству. Когда он еще верил в свои ночные сны как в некий второй, реальный мир, некое горнило испытаний. Да, тогда он верил, что в этом мире грез и сновидений есть задачи, решив которые человек может подняться на следующую ступень в мире бодрствования.
– Найди выход из лабиринта! Научись летать! Укроти Цербера! Тогда, проснувшись, ты увидишь, что одно из твоих желаний исполнилось.
Тогда он еще был способен верить в силу своих желаний. Которая, конечно же, зависела от готовности пожертвовать чем-то очень дорогим или важным.
– Сделай так, чтобы мои родители за завтраком снова смотрели друг на друга! Я отдам за это глаз. Левый. Потому что правый мне еще нужен для управления судном.
Да, он умел так молиться мальчишкой, когда не был еще таким… – как сказал Жордан? – таким «трезвым и невозмутимым». Он писал письма Богу и скреплял их кровью из пальца. А сейчас, через каких-то тысячу лет, он стоит за штурвалом огромного судна и вновь чувствует, что у него вообще есть какое-то желание.
– Ха! – вырвалось у Эгаре.
Он выпрямился и расправил плечи.
Жордан покрутил ручки настройки рации и случайно поймал волну лоцманской службы, регулировавшей движение речных судов на Сене.
– …повторение обращения к двум придуркам, закоптившим соляркой акваторию реки в районе Елисейских Полей: «Привет от начальника причала! Для справки: правый борт там, где большой палец на руке – слева».
– Это они что, про нас? – спросил Жордан.
– Да плевать! – успокоил его мсье Эгаре.
Они переглянулись, криво ухмыляясь.
– А кем вы хотели стать, когда были мальчишкой, мсье… э-э-э… Жордан?
– Когда был мальчишкой? То есть другими словами – вчера?
Жордан весело рассмеялся. Потом притих и задумался.
– Я хотел стать мужчиной, которого мой отец принимал бы всерьез… И толкователем снов, что уже противоречило этому желанию.
Эгаре прочистил горло:
– Мсье, подберите-ка нам маршрут на Авиньон. Отыщите какой-нибудь шикарный маршрут по каналам на юг. Такой, чтобы нам… хорошо мечталось в пути.
Эгаре указал на стопку карт, покрытых густой сетью голубых судоходных путей, каналов, марин[23] и шлюзов.
Жордан вопросительно посмотрел на него. Мсье Эгаре прибавил ходу.
– У Санари написано, – сказал он, глядя на воду, – что, если хочешь разгадать сон, ты должен водным путем отправиться на юг. И что там ты можешь вновь обрести себя, но только при условии, что по дороге ты себя потеряешь, пропадешь, сгинешь. От любви. От тоски. От страха. На юге, слушая море, начинаешь понимать, что смех и плач звучат совершенно одинаково и что душе иногда нужно поплакать, чтобы быть счастливой.
В груди у него словно проснулась птица и осторожно, как бы удивляясь тому, что еще жива, расправила крылья. Она рвалась наружу. Она хотела пробить его грудь и, взяв с собой его сердце, подняться в небо.
– Я иду… – пробормотал Жан Эгаре. – Я иду, Манон.
Дневник МанонНа пути в мою жизнь, между Авиньоном и Лионом
30 июля 1986 г.
До сих пор не верится, что они все в последний момент не полезли вслед за мной в поезд. С меня хватило и того, что они (родители, тетушка Жюли «Женщинам вообще не нужны мужчины», кузины Дафна «Я слишком толстая» и Николет «Я всегда так устаю») спустились к нам в долину со своего чабрецового холма и увязались за мной в Авиньон, чтобы собственными глазами увидеть, как я сяду в скорый поезд Марсель – Париж. Мне кажется, им всем просто захотелось в город – развеяться, сходить в кино, купить пару пластинок Принса[24].
Люк с нами не поехал. Из опасения, что я передумаю и останусь, если он будет стоять на перроне. И он прав: я всегда за сто метров вижу, что у него на душе. Уже по тому, как он стоит или сидит, по положению его плеч или головы. Он южанин до мозга костей, его душа – это огонь и вино, он никогда не бывает хладнокровным, он ничего не может делать без чувства, он не знает, что такое равнодушие, безразличие к чему бы то ни было. Говорят, большинству парижан плевать на все с высокой колокольни.
Я стою у окна экспресса и ощущаю себя одновременно и ребенком и взрослой. Я только что в первый раз по-настоящему распрощалась с родиной. В сущности, я и вижу ее в первый раз, быстро удаляясь от нее километр за километром. Напоенное светом небо, звон цикад в кронах вековых деревьев, ветры, борющиеся друг с другом за каждый миндальный листочек. Зной – как лихорадочный жар. Золотое мерцание в воздухе, когда солнце садится и окрашивает крутые горы, увенчанные коронами деревень, розовым и шафранным цветом. И земля, непрестанно осыпающая нас разнообразнейшими дарами, неустанно растущая нам навстречу, – там пробиваются сквозь камни розмарин и чабрец, там наливаются тугой плотью вишни; там упругие семена липы пахнут смехом девушек, которым те встречают парней в тени платанов. Реки сияют тонкими бирюзовыми ожерельями между дикими отвесными скалами, а море на юге горит такой ослепительной, такой жгучей синевой – как пятна от черных маслин на коже влюбленных после объятий под оливковым деревом… Земля тянется к человеку, подходит к нему угрожающе близко. Она беспощадна. Терновник. Скалы. Ароматы. Папа говорит, что Прованс сотворил людей из деревьев, пестрых скал и источников и назвал их французами. Они твердые и гибкие, как ветви деревьев, сильные и упрямые, как камни, говорят и чувствуют из глубины души и вскипают так же быстро, как вода в глиняном горшке на плите.
Я чувствую, как спадает жара, вижу, как тускнеет кобальтовое сияние неба… Чем дальше на север, тем более мягкими и размытыми становятся формы земли. Холодный, циничный север! Способен ли ты любить?
Конечно, мама боится, как бы в Париже со мной чего-нибудь не случилось. Она опасается не столько того, что меня разорвет на куски одна из бомб ливанской фракции, которые начиная с февраля взрывались в галерее Лафайет и на Елисейских Полях, сколько что я стану жертвой какого-нибудь мужчины. Или, боже упаси, женщины. Одной из этих сен-жерменских интеллектуалок с туго набитыми головами и пустыми сердцами, которые могут привить мне вкус к эксцентричной жизни художественной богемы, где тоже все рано или поздно кончается тем, что женщины моют кисти своим господам творцам.
Мне кажется, мама боится, что вдали от Боньё и его атласских кедров, винограда Верментино и розовых сумерек я могу столкнуться с чем-нибудь вредным и опасным для моей будущей жизни. Я слышала, как она сегодня ночью плакала в летней кухне от отчаяния. Ей страшно за меня.
Говорят, будто в Париже царит дух соперничества и мужчины соблазняют женщин своей холодностью. Каждая женщина хочет укротить мужчину и превратить в страсть ледяную корку, которой он покрыт. Каждая женщина… А южанки особенно. Говорит Дафна, но я думаю, она не понимает, что мелет. Диеты явно оказывают галлюцинаторное действие.
Папа – истинный провансалец и само спокойствие. «Что эти горожане могут предложить такой, как ты?» – говорит он. Я люблю его, особенно когда он во время очередного пятиминутного приступа гуманизма объявляет Прованс колыбелью всей национальной культуры. Когда он бормочет по-окситански[25], восторгаясь тем, что любой зачуханный фермер, выращивающий оливки или помидоры, говорит здесь на языке художников, философов, музыкантов и молодежи уже четыреста лет. Не то что парижане, возомнившие, будто творчество и любовь к миру свойственны только их обуржуазившейся интеллигенции…
Ах, папа! Платон с мотыгой и непримиримый враг воинствующей нетерпимости.
Мне будет не хватать пряности его запаха, тепла его груди и его голоса, напоминающего далекие раскаты грома.
Я знаю, мне будет не хватать и гор, и лазури, и мистраля, который начисто выметает виноградники… Я взяла с собой мешочек земли и пучок трав. А еще косточку нектарина, обсосанную мной до зеркального блеска, и камешек-голыш, который я кладу под язык, когда меня мучит жажда и тоска по нашим провансальским источникам, – как у Паньоля[26].
Будет ли мне не хватать Люка? Он всегда был рядом, я не знаю чувства тоски по нему. Оно бы мне понравилось. Мне было бы приятно скучать по нему. Мне незнакома эта тянущая ноющая боль, о которой говорила, многозначительно опуская слова, кузина Дафна «Я слишком толстая»: «Такое ощущение, как будто мужчина бросил якорь в твою грудь, в твой живот, прямо между ног. И когда его нет, то как будто натягивается якорная цепь и все тянет, тянет…» Образ, конечно, уткий, но она при этом улыбалась.
Что же это, интересно, за ощущение – так хотеть мужчину? А я? Я тоже бросаю якорь в него или мужчина легче забывает? Может, Дафна просто вычитала это в одном из своих дурацких романов?
Я все знаю о мужчинах, но ничего о мужчине. Каков он, мужчина, когда он с женщиной? Знает ли он в двадцать лет, как будет любить ее в шестьдесят? Ведь в отношении своей работы он точно знает, как будет думать, действовать и жить в шестьдесят?
Я вернусь через год, мы с Люком отпразднуем свадьбу, как птицы. А потом будем делать вино и детей год за годом.
На этот год я свободна. Как и на все остальные. Люк не станет ни о чем меня спрашивать, если я как-нибудь приду домой поздно или вдруг захочу поехать в Париж или еще куда-нибудь. Это его подарок ко дню нашей помолвки – свобода в браке. Он такой.
Папа бы его не понял – свобода от верности? Из любви? «Дождя тоже на всю землю не хватает», – сказал бы он. Любовь – это дождь, мужчина – это земля. А мы, женщины? «А вы возделываете мужчину, он расцветает под вашими руками. Вот она – власть женщин».
Я еще не знаю, нужен ли мне подаренный Люком дождь. Этого дождя слишком много. А может, меня слишком мало?
Хочу ли я отплатить ему тем же? Люк сказал, что не настаивает на этом и что не ставит никаких условий.
Я дочь высокого толстого дерева. Я стала кораблем, без якоря и без флага, я вышла в открытое море на поиски света и тени, я пью ветер, позабыв о причалах.
Обреченная на свободу, подаренную ли или взятую самовольно.
Ах да, прежде чем моя внутренняя Жанна д’Арк опять сдерет с себя рубашку и продолжит свои лирические стенания, я должна упомянуть вот еще о чем: я и в самом деле познакомилась с мужчиной, который видел, как я плачу и пишу свой дневник. В купе вагона. Он увидел мои слезы, а я стала прятать их и это свое детское «отдай мою куклу!», в которое я каждый раз впадаю, стоит мне только покинуть свою маленькую долину…
Он спросил, сильно ли меня одолевает тоска по родине.